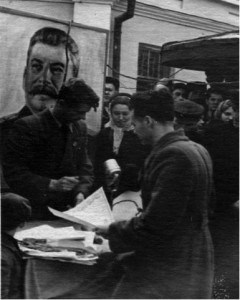13. Напрямик 14. Сближение
15. Огонь
16. Атака
17. Штыком
18. Засада
19. Пением
20. Явился
21. Ужин 22. Задание
23. Цветочки
24. Ягодки
25. Ночные рейсы
26. Залп
27. Отход
28. Прорыв
29. Стоход
30. Стырь
31. Голодница
32. Победим
33. Чьи мы
34. Невероятно
35. Неминуемо
36. Посчастливилось
37. Горынь
38. В вагоне
39. Марш
40. Разведка
41. Оттяпали
42. Контратака
43. Песня
44. Линия
45. Рождение
46. Оборона
47. Хлеба
48. Светляк
49. Травушка
50. Вера
51. Нарвались
52. Оторвались
53. Малин
54. Ударить
55. Осколок
56. Звезда
В воздухе запахло ненастьем.
Гранитные плиты тротуаров еще продолжали отдавать летний жар, а со стороны дальней мглистой окраины потянуло прохладой. Монументально красивые здания с балконами, увитыми виноградной лозой с изумрудной и золотистой листвой и янтарными гроздьями то мрачнели, то светлели, тревожно отсвечивая стеклами окон. Это поплыли над городом тени, отбрасываемые серыми, рваными облаками, которые вдруг стали набегать на солнце с запада. Погода ухудшалась. Из порта доносились протяжные и прерывистые гудки. Еще вчера светло-синее море хмурилось, предвещая шторм. Булыжные мостовые, крыши домов лоснились влажным блеском, хотя дождевых капель еще не было видно.
Заметные признаки нарушения штиля неожиданно появились и на железнодорожном вокзале. Под легкой ажурной крышей перрона забурлили пестрые волны народа.
Происходило душевно-трогательное событие — проводы в армию юношей, среди которых немало студентов, ранее пользовавшихся отсрочками от призыва. Многие провожавшие прибыли на вокзал целыми семьями.
Мужчина в летах с папкой под мышкой удивлялся:
— Новый учебный год только начал развертываться и вдруг призыв. Такого еще не бывало.
Женщина в светлом платье, волнуясь, машинально распускала и складывала не по сезону цветастый зонт. Ее голос срывался:
— Не успели познать счастье, как горизонт стал хмуриться ненастьем…
— По вагонам! — выделилась среди многоголосого гомона команда.
Для призывников она прозвучала и заманчиво-радостным, и непререкаемо-требовательным боевым сигналом.
Встрепенулись родные, близкие, особенно матери, жены, невесты. Командирские два слова обострили в их сердцах боль разлуки, вызвали беспокойные предчувствия.
Женщина в светлом платье без всякой надобности нервно выпустила впереди себя купол своего зонтика, подняла его вверх и, будто щитом прикрыла головы своих близких. Обернулась к стриженному под машинку рослому здоровяку, с немым вопросом на бледном лице: «Не на веки ли вечные прощаемся?»
На команду, дублируемую вдоль вагонов, люди реагировали по-разному. Если масса будущих молодых воинов сразу проявила стремление к организации, дисциплине, то провожавшие — каждый по-своему — продолжали выражать свои горячие чувства, чем увеличивали вокзальную суматоху.
Призывники хлынули к железнодорожному составу.
Двое юношей — среднего роста, одеты по-летнему, с одинаковыми деревянными сундучками в руках — первые вскочили в вагон, который стоял напротив оркестра. Задвинув свой багаж под нары, они повернулись к перрону.
— Порядок, Петро. Хорошо, что мы с тобою не раздули кадило с проводами. Теперь уезжаем спокойно и просто, а они, видишь, как страдают, — сказал Костя Гридин — сухощавый новобранец в опрятном темном костюмчике.
Попытался улыбнуться, кивнул в сторону толпы, но улыбка получилась вымученной, и он, облокотившись о перекладину в дверях теплушки, с напускным безразличием рассматривал толпу.
— Учудили мы, Костя, — покачал белой стриженой головою Петр Троян.
— Правильно сделали, что не подняли по тревоге своих родных и близких.
Круглое, белобровое лицо Петра Трояна помрачнело. И хотя в васильковых глазах промелькнула тень грусти, в голосе прозвучала готовность не поддаваться унынию:
— Может, и правда так лучше…
— То-то! — подхватил Гридин. — Еще неизвестно, что сказала бы твоя зазнобушка Вера, глянув на такую голову-макогон.
— Насмехаешься, Костя, а сам высматриваешь Наденьку. Небось, сожалеешь, что не сказал ей об отъезде.
Пристальный Костин взгляд и в самом деле блуждал поверх голов, явно кого-то выискивая.
Друзья сняли кепки. Посмотрели друг на друга и от души рассмеялись. И не без причин. Смуглые лица совсем не гармонировали с белыми стрижеными головами, большими ушами. У Гридина как-то странно удлинилась и без того тонкая шея. Продолговатые залысины увеличивали высоту лба. Уши Трояна казались неестественно оттопыренными, а округлый лоб походил на тыкву.
На перроне тем временем шумно прощались. Юноши старались осторожно вырываться из материнских объятий. Кто-то в кругу друзей лихо отплясывал гопака. А рядом тучный дядя, присев на корточки возле объемистого чемодана, привязывал веревкой к нему свертки с печеньем и конфетами.
— Это отец нашего студента Робака, боится, что чадушко отощает в дороге.
Началась посадка. Толпа вдоль поезда уплотнилась. В дверях внезапно выросла фигура сержанта атлетического сложения — видно, из состава команды эшелона. Сержант начал по фамильно вызывать новобранцев. Многие из них были знакомы Гридину и Трояну — студенты Одесского института инженеров морского флота, университета и других вузов города.
Оглушительно грянул духовой оркестр. Отражаясь под ажурной крышей перрона, звучно и протяжно раздался гудок паровоза, взбудораженная толпа поплыла назад. Гридину показалось, что среди разноликой массы провожавших была девичья головка с темными, широко открытыми глазами. Он наклонился через перекладину, чтоб лучше разглядеть, но напрасно: все расплылось за сеткой дождя, щедро полившегося с неба. Оглянулся на Трояна — глазастый друг детства порой мог затылком видеть — но на этот раз он безучастно стоял, прислонившись к дверям; потом задумчиво посмотрел на привокзальные строения, которые все быстрее пробегали мимо.
Вот тихая тупиковая улица Среднефонтанская. И переулок с яркой цветочной клумбой, ветвистыми акациями, листья которой позолочены осенью.
— Костя, ты улавливаешь букет кондитерских ароматов? Спросил Троян, кивнув в сторону приметного переулка.
— Букет? Не по мне. Не улавливаю.
— И астры?..
— Тоже не по мне. Эти цветы не пахнут.
— Ну а чернобривцы?
— Спрашиваешь… Но их я не вижу, — начал Гридин умиленно, и тут, же осекся: — Перестань, Петро, не время и не место!..
— «Все носишься с идеей самовоспитания воли, характера, и, как обычно, бросаешься в крайности», — подумал Троян. Однако после паузы по-дружески заметил:
— Оно, конечно… Теперь наступала осень… А вспомни, что произошло в этом переулке однажды пополудни, когда зацвела белая акация.
— Тогда мы, грузчики, больше упивались сельтерской, а не ароматами цветочков.
… Да, они во время каникул обычно устраивались на сезонные работы: грузили в порту уголь, пшеницу, картофель, арбузы. Перебирали на складах фрукты, овощи, ремонтировали трамвайные колеи. И всегда вдвоем. Только летом неспокойного сорокового года получалось так, что оформлялись грузчиками на кондитерскую фабрику вместе, но потом трудились порознь.
Как-то после работы друзья побывали на занятиях в кружке ГСО. Там они познакомились с руководительницей кружка студенткой медицинского училища Надей. Разговорились, направляясь к выходу из фабрики. Миновав проходную, повернули налево, хотя парням нужно было направо. Надя оказалась общительной, простой и веселой собеседницей. Она торопилась на джутовую фабрику, где работала санитаркой и вела кружок по программе ГСО. На кондитерской фабрике участвовала в оборонно-массовой работе на общественных началах, выполняя комсомольское поручение райкома комсомола.
— Мне нравятся ароматы конфетного производства, — просто сказала девушка.
— И нам, — поспешил Троян.
Гридин дернул за рукав товарища, поправив:
— Нам только первый день нравились ароматные сладости. Они ведь приторны.
— Моя подружка по медучилищу — сластена, не в меру упивается резкими ароматами, — вставила Надя, чтоб заполнить паузу.
— Она вначале поступила на кондитерскую, потому что любила «раковые шейки». Потом, когда конфеты так надоели, что видеть их не могла, перешла на джутовую. Но и там не прижилась. Сделала «открытие»; запах джута шибает в нос, такой прилипчивый и въедливый, что пропитанные им одежда, волосы днями не выветриваются. Из-за этого запаха ее кавалер уже третий день не приходит на свидание. — Она замедлила шаги, затем остановилась в тени развесистой цветущей акация, и, вдохнув полной грудью, подчеркнуто произнесла:
— Запах джута помешал?.. Ерунда! Тут все зависит от того, каким носом обонять, какими глазами смотреть…
Троян отметил про себя учащенное дыхание Гридина. Когда они очутились в конце переулка, Троян вопросительно посмотрел на друга: а теперь куда повернем?
— Проводим Надю до джутовой, — неожиданно выпалил Гридин. Троян опешил: друг детства Костя никогда не интересовался девушками. А тут на тебе… И с ним, с Трояном, не посоветовался: провожать дальше или повернуть домой. Троян не стремился заводить новые знакомства. Он регулярно переписывался с бывшей одноклассницей Верой, часто посылал ей свои стихи. И все же ради друга Кости поддержал компанию. На пути к джутовой Гридин первый уловил запах пряжи и с какой-то восторженной радостью показал на фабричное здание, еле видневшееся вдали. Через день он перешел на джутовую. Петру вечером шутливо заметил: мол, теперь, поэт, можешь записать в свой дневник, что по мне и на новом месте все цветы — обыкновенные астры, кроме… чернобривцев. Троян дополнил запись: «Костя увидел ту, кого хотел увидеть. Вот еще одна неразгаданная человеком тайна …»
Действительно, среди множества девчат Надя ничем особо не выделялась. Однако Гридин с первого взгляда заметил в ней простые чуточку строгие черты лица, рассудительность и искренность, самостоятельность и оригинальность. Все это пришлось парню по душе.
Когда начались лекции в институте, Гридин очень часто встречал Наденьку у ворот фабрики с букетиком ярких чернобривцев.
… Эшелон набирал скорость. Вот из-за пелены дождя вынырнули корпуса фабрики. И Костя Гридин уловил небывало волнующий запах джута. А воображение рисовало среди массы провожавших на перроне, чернобровое личико со скромненьким букетиком в руке. «Она… Это была точно она… Встретимся ли?..»
Я на подвиг тебя провожала —
Над страною гремела гроза …
— Звучал под стук колес задумчивый голос Трояна.
Облака на небе все сгущались. Друзья зябко вздрагивали на их разгоряченные лица падали холодные капли дождя.
Мимо вагона пробегали знакомые поля, посадки, овраги. Чем дальше уходил поезд от Одессы, тем сильнее чувствовал Гридин, как дорого ему все, что он тут оставлял. Где-то в глубине души таились какие-то смутные предчувствия.
Троян, заметив тень грусти на лице друга, попробовал его развлечь:
— А едем-то мы в нашу сторононьку.
— Да. Езжено тут, переезжено: и в институт, и домой на каникулы. Куда теперь заведет нас эта дорога?
Эшелон начал тормозить. Впереди показалось станционное здание с вывеской: «Раздельная».
— Теперь можно отгадать, Костя, — сказал Троян, стараясь разглядеть, что там впереди. — Эта станция узловая. Значит, если сейчас повернем налево, то считай, будем служить недалеко от дома. Ну, а если направо, то проедем вблизи родного села, и дальше — на все четыре стороны.
— Чем дальше, тем ближе, — невнятно буркнул Гридин.
Эшелон тронулся. Стрелочники, вытягиваясь, будто часовые, провожали поднятыми красными флажками.
За полосой лесопосадки простирались по-осеннему скучные и мокрые поля, изрезанные оврагами. Вдали зазеленела пашня с тусклым зеркалом озерка. На склоне возвышенности желтело пастбище.
С шумом проскочила будка стрелочника. И далее пошли знакомые станции, разъезды.
— Ура! — крикнул Троян. – Свернули, но свою дорогу. А вдруг кто-то из родных случайно окажется на станции…
Слова заглушил громкий шелест листвы придорожных деревьев. По ходу справа вырастали, как из-под земли, хлебные склады, в одном из них выгнулись и разошлись в стороны доски и наружу выглядывали золотые початки кукурузы.
Наконец показался блестевший от дождя асфальт перрона. Мгновенно пролетел одноэтажный домик станции, который выглядел таким маленьким и низеньким, будто от старости присел и врос в землю. Промелькнула красная фуражка дежурного и несколько неясных, расплывчатых в вечерних сумерках фигур пассажиров с вещами.
Друзья разочарованно переглянулись: и это все? Тускло, серо, равнодушно. Никому нет дела до того, что хлопцы, быть может, последний раз в жизни проехали свою станцию. Гридин нахмурился. На глаза Трояна навернулись слезы.
Только могучий старый дуб, задетый потоком воздуха, шевельнул матовой листвой, подернутой золотом осени; выше голову, выстоим — такова жизнь; меня сам Котовский поливал, а вы, ребятки, росли под моей кроной.
Остались позади белые каменные плиты колодца, известного прозрачной, как слеза, студеной водой. Блеснул скользкий булыжник шоссе, которое светлой полоской подходило к шлагбауму и обрывалось у железнодорожного переезда. А дальше уходила в степь до боли знакомая темная лента проселка. В сумрачной перспективе слабо виднелось скопление светло-синих, празднично нарядных хаток.
— Узнаю, — оживился Троян. — Свежевыбеленные к Октябрю стены домов от дождя посинели. А как там мама? Небось, ее натруженные руки еще и известь разъела. Ждет меня на праздник. Засолила синие баклажаны — знает, что это моя вкуснятина. Ни слухом, ни духом не ведает, что теперь ей не придется накрывать праздничный стол сыну. И Вере не снилось, что я прогромыхал рядом. Сейчас же сяду и напишу обоим, нечего ждать, когда сфотографируюсь в танковой форме.
Сухое лицо Гридина по-своему выражало те же раздумья. Упрямая складка между бровями, будто кому-то возражала: «Неправда! Не допускаю мысли, что последний раз в жизни вижу родные места».
Оба, словно оговорившись, энергично тряхнули головами, отгоняя прочь тяжелые думы.
Ветер, чувствительно бивший в лица, приносил приятный степной запах. Это был ветер родного края.
Семь незабываемых лет Гридин и Троян ходили этой степью в школу. Пять километров туда и обратно. О чем только они не говорили дорогою. Даже стали на ходу сочинять стихи. К сочинительству особое пристрастие имел Троян. А потом пели, когда у Петра «прорезался», как однажды заметил Гридин, певческий голос.
Как-то, возвращаясь из школы, они догнали стайку девчат, среди которых была и Вера. Петр Троян и в школе смущался перед нею, а тут совсем стушевался. Вера была своенравная, гордая, знала, что нравится парням и посматривала на Петра свысока. Но Гридин не растерялся. Он повел девчат в балку, показал им лисью нору, рассказал эпизод из недавно прочитанной книжки Жуля Верна, и даже заставил Петра спеть, чем вызвал у девчат нешуточное восхищение. Того же дня посчастливилось Петру провожать до самого ее дома. Помнит ли она тот вечер?
Друзья спустились с нар. Немного приоткрыли дверь. Мимо пробегали телеграфные столбы. Белые изоляционные чашки то поднимались, то опускались — колея пересекала балки. В туманной предвечерней мгле где-то далеко редели огни — двигались, мерцали, исчезали один за другим.
— Полундра! Куда мы попали?
Троян подхватился на нарах, спросонья не понимая, от чего предостерегал этот писклявый голосок.
И сразу где-то рядом требовательно раздался густой бас:
— Ша, баламут. Не трогай морских сигналов, а то мигом вышвырну за борт, не посмотрю на твои морские татуировки.
Мотыльков оглянулся. Встретившись с сердитым взглядом человека в полосатой тельняшке, сник.
— Да я… Да мы… — срывался его фальцет. — Может, поменяемся местами? Отсюда виднее.
— То-то, — снисходительно произнес бывший моряк Медведев. В вагоне зашевелились. Некоторые потянулись к окнам. Кто-то со скрипом и грохотом приоткрыл дверь. Снаружи хлынул холодный, сырой воздух.
Промелькнула в жидком тумане ветхая будка с крестом наверху, замелькали черные телеграфные столбы. Поодаль медленно плыли разношерстные карликовые нивки. На фоне неподвижных темных рощ виднелись лопасти ветряной мельницы, другой, третьей. А вдали, на светлевшем с востока горизонте, что-то похожее на силосную башню, будто стараясь не отстать, мчалась вместе с поездом.
Братва, да это ж мы пересекли бывшую Государственную границу! — с восторгом сообщил Мотыльков. — Это же Западная Украина.
— Удивительно, как ты сообразил? — насмешливым басом прогудел Медведев.
А то однажды принял баржу за пароход дальнего плавания.
Бывший моряк имел в виду случай, когда при разгрузке арбузов из баржи был обнаружен «заяц», выдававший себя за матроса из экипажа парохода, отправлявшегося в Испанию. Когда потребовали документы, то он показал татуировку: сердце, пронзенное стрелой и буквы Г. М. — то есть Гера Мотыльков.
К дверям подошел Троян.
— И в самом деле, хлопцы… — делился он впечатлениями. — Здесь все по-иному. Даже ветер какой-то промозглый, зловонным болотом несет, совсем не такой, как наш черноморский.
Эшелон замедлил ход. Затормозил и остановился. Пути справа были заняты товарными вагонами, цистернами. Слева стояло длинное и мрачное деревянное строение, через всю стену которого сквозь сетку мелкого дождя едва просматривались крупные латинские буквы.
— Palenie wzbronione, — медленно, по слогам, прочел Мотыльков.
— Невесть что… Название какой-то бронированной станции.
— Курить воспрещается, — перевел Гридин, выглянув наружу.
— Это на амбаре написано. Лязгнули буфера. Вагоны подались назад, потом вперед, продвинулись немного и эшелон остановился окончательно.
«Ровно», — прочел Мотыльков название станции.
Вот так дела, — иронически произнес Медведев. — И тут нам помог грамотный человек.
— Выходи из вагонов! Стройся! — прокатилась вдоль эшелона команда.
— Значит, швартуемся, — с облегчением произнес Медведев, выдвигая из-под нар чемодан.
Призывники, восклицая, соскакивали на землю, выстраивались. Раздавались голоса командиров:
— Равняйсь! Смирно!..
На перроне появились военные. К новобранцам подошел сержант с острыми и бойкими глазами на узком лице, в хорошо подогнанном обмундировании, с танковыми эмблемами на петлицах. Казалось, его взгляд бегал где-то над крышей вокзального здания, выше телеграфных столбов. Однако это не мешало ему заметить на перроне пустую консервную банку, которую точным ударом сапога зафутболил в дальний угол, к урне с мусором.
— Так будет, наверное, с каждым, кто сержанту станет поперек пути, — вполголоса заметил Мотыльков.
— Тише, балаболка. Может, командир решает нашу судьбу, — оборвал Медведев.
Сержант сделал вид, что ничего не слышал, и, продолжая мерно выстукивать металлическими подковками ярко начищенных сапог, четко прошелся вдоль строя. На правом фланге он рывком повернулся лицом к людям, выпятил грудь колесом и неестественно громко скомандовал:
— Внимание! Слушай мою команду! — Он сделал ударение на «мою». — Пр-рек-ратить рэзговорчики! — Новобранцы и так онемели от неожиданности. — Рр-эвняйсь! Убрать животы, сидоры!
При этом взглядом он, казалось, следил не за людьми, а за полетом стая галок, перепуганных его криком.
Еще раз, набрав воздуха в легкие, сержант завершал свое выступление:
— Смир-р-р-на! Напрэво! Пр-рэ-вое плечо вперед! Ш-э-эгом эрш!
Сам тоже выполнял свою команду: зашагал рядом со строем, с явным наслаждением чеканя шаг и не отводя пристального взгляда от изоляторов на телеграфных столбах, будто старался их испепелять.
Выйдя за пределы станции, новобранцы зашлепали по жидкой уличной грязи.
— Вот это тебе Ровно… — ругался Мотыльков, обходя вонючие лужи. — Одни колдобины. У нас в Одессе даже на Привозе не увидишь такой грязищи.
— Направляющие, приставить ногу! — раздраженно потребовал сержант. Он посмотрел на низкие, густые облака, с которых начинал сеяться дождь и добавил: — Не строй, а какой-то сброд… Всем подтянуться! По моей команде начинать движение с левой ноги. Слушай счет… Пр-рэ-мо! Эрш! Р-рэз, два. Рр-р-рэз, два!.. Левой, левой!
— Зарядил одно и то же, — недовольствовал Мотыльков.
Троян с интересом поглядывал на нескончаемые ряды лавчонок, ларьков. Откуда-то тянуло зловонием, тряпичной гнилью, болотной тиной, словно рядом находилась свалка или запушенный водоем.
Несмотря на моросящий дождь, везде сновали сгорбленные лотошники с какими-то коробочками, пакетиками. Один из оборванцев втиснулся в строй и предлагал сигареты. На перекрестках улиц толпились группы зевак. Слышались украинские, русские, польские, еврейские слова.
— Держи ногу. Не ротозейничай. На тебя Европа смотрит, —
— кто-то толкнул Мотылькова в бок.
— Ничего себе заграница! — не унимался Мотыльков.
Строй свернул в переулок и остановился перед домом с вывеской: «Баня».
На крыльце, при входе толпились призывники в гражданской одежде, а с противоположной стороны, во двор, осмотрительно спускались по деревянным ступенькам молодые красноармейцы, в скрипящих сапогах, в новых гимнастерках и шароварах, в пилотках, с красными звездочками.
Бойцы робко осматривались, шутили, выискивая в толпе знакомых, которые неузнаваемо изменились.
Коренастый, широкоплечий красноармеец басом спрашивал:
— Куда девался лопоухий шкет с баржи? Неужели смыло с палубы мыльною пеной? — Медведев имел в виду Мотылькова.
А тот, впервые в жизни обув сапоги, споткнулся и грохнулся на ступеньках под дружный хохот бойцов.
— Чертовое Ровно! — ругался Мотыльков. — Тут невольно вспомнишь Дерибасовскую, Потемкинскую лестницу…
Когда все помытые и переодетые, собрались во дворе, на ступеньки поднялся сержант. И сразу представился:
— Сержант Баченко, старшина роты, в которой вам выпало служить. Усвоить всем: я ваш начальник… Вы попали в хорошие руки.
Среди общего молчания кто-то хмыкнул. Баченко сверкнул колючим взглядом, но ничего не сказал.
Строем вышли со двора и свернули на замусоренную улицу. И как только Мотыльков попытался обойти лужу, Баченко скомандовал остановиться.
— Так у нас дело не пойдет. Один танцует фокстрот, другой танго, а третий выделывает па вокруг лужи, — вычитывал сержант без малейшего признака улыбки.- Я требую рубить твердо, сапог не жалеть.
Никаких препятствий на пути во внимание не принимать.
Троян с сожалением взглянул на свои новенькие, уже забрызганные грязью сапоги. Очнулся от пинка в спину. — Возьми ногу!
Подпрыгивая и пританцовывая, он стремился сменить ногу, но еще больше запутался, почувствовал себя лишним в строю, растерялся, получил замечание от старшины, вспотел и наконец, с неимоверным усилием попал в такт.
Мало-помалу колонна начала преображаться, приобретая вид единого целого. Ритмический топот сапог по разбитому мокрому гравию, одновременные покачивания одинаковых голов свидетельствовала о том, что действия старшины, его воля, незаметно сказывались на разношерстной массе — организовывали, дисциплинировали, сплачивали вчерашних призывников в единый коллектив.
И когда старшина потребовал:
— Запевать, песню! —
Троян, как-то невольно набрав полную грудь воздуха, и откликнулся частым тенорком:
— По долинам и по взгорьям …
Строй дружно подхватил знакомую песню. Молодые бойцы, не узнавая себя, не ощущая под собою неровной дороги, бодро вступили в расположение танковой части.
Итак, бывшие студенты, десятиклассники и юноши, знавшие автотракторную технику, были определены в полковую танковую школу. После года обучения они должны были стать командирами боевых машин, механиками-водителями, радистами-пулеметчиками, башенными стрелками.
Гридин попал в учебную роту командиров танков и бронемашин, Троян — в подразделение башенных стрелков.
— Жаль, что никто из наших студентов не учится на механика-водителя, — сказал Троян. — Имели бы студенческий экипаж в составе трех танкистов.
— Да есть же наш землячок Робак. Только вряд ли он станет пачкать руки маслом, — покачал головою Гридин.
Робак был единственным сыном в семье фельдшера и с детства избегал тяжелой работы.
— Вот, если бы нам с тобою, после школы попасть на быстроходный танк БТ-7 (БТ-5 и БТ-7 были тогда мечтой курсантов танковой школы. Они еще не знали о среднем танке Т-34, и КВ. Легкий БТ-7: толщина брони 20 мм, вес 13 т., скорость на гусеничном ходу — 55 км/час, на колесном — 75 км/час; мотор — 400 л.с.), — мечтательно вел далее Троян. — Послать бы домой фото — в танкошлеме, ремнях… Смотрите, мол, куда хлопцы хватили.
— Заманчиво, что и говорить.
Друзья уже видели себя за рычагами легкого быстроходного танка, который вихрем мчится по ровенским полям да перелескам, а они — в кожаных танкошлемах, скрипучих ремнях, крест-накрест опоясывавших грудь.
Жизнь в танковой школе до предела была насыщена полевыми и классными занятиями, различными тренировками, служебными нарядами, караулами. Нередко в холод и снег, днем и ночью, даже в праздники по сигналу тревоги надо было мигом схватываться, быстро одеваться и мчаться в парк учебно-боевых машин, на полигон, решать тактические и огневые задачи.
Заканчивался неспокойный тысяча девятьсот сороковой год.
Как-то учебная рота возвращалась с полигона. Хотя курсанты были уставшие — целый день стреляли, — но довольные: несмотря на дождь и туман, все отстрелялись на хорошо и отлично.
В вечерней влажной тишине раздавался звонкий тенорок Трояна:
— С юга до Урала
Ты со мной шагала…
Танкистам вообще-то больше нравилась другая песня — о героическом экипаже машины боевой, — но сегодня даже самые горячие сторонники танков воспевали винтовку охотно и задорно.
В синеватом вечернем тумане уже показались здания военного городка, а ветерок доносил аромат наваристого борща, когда сержант Баченко вдруг встревожился. Он замедлил шаг, крутнул головой, остановился и хрипло скомандовал:
— Рота, отставить песню. Направляющие, приставить ногу. Курсант Самохин, выйти из строя.
Бойцы насторожились, теряясь в догадках. Самохин был острый на язык — по любому случаю высказывал критические замечания, но на стрельбище вел себя примерно, никого не подтрунивал, не пререкался, стрелял на отлично. На учебном месте делился «секретами» своего успеха, чем помог многим курсантам лучше подготовиться к стрельбе. По поручению старшины выдавал бойцам патроны, собирал и учитывал стреляные гильзы.
Острые глаза Баченка впились в Самохина:
— После окончания стрельб вы пересчитали патроны?
— Никак нет, не пересчитывал. Отмечал в тетрадке, когда менялись стрелявшие.
— Отставить! Меня не интересует, когда вы что-то отмечали. Немедленно высыпьте гильзы на плащ-палатку. Я, сам проверю, — потребовал сержант, особо подчеркнул: «Я сам».
Гильзы пересчитали трижды, но результат был один и тот же: трех гильз не хватало.
По мрачному выражению лица сержанта Баченко, по жевательным движениям губ курсанты поняли, что предстояло нечто недоброе. И не ошиблись.
Старшина подал неожиданную команду:
— Правое плечо вперед! — Выждал, пока курсанты, не очень охотно поворачивавшие, оказались спиной к военному городку, и только тогда добавил: — Пр-р-эмо!
Мокрые, смертельно уставшие и голодные, навьюченные противогазами, мишенями и другим военным имуществом, курсанты зашагали по размытой полевой дороге назад, в сторону полигона.
— Ускорить шаг! — командовал Баченко. — Имейте в виду: скоро стемнеет, но рота без гильз в казармы не вернется, хотя бы пришлось искать до утра.
Это уже не болтовня — грустно подумал Троян, скользя сапогами по раскисшей глине.
Дотемна они ощупывали каждый метр перетоптанного сапогами размокшего поля.
Наконец, когда, казалось, была потеряна малейшая надежда, Троян нащупал в жидкой глине гильзу.
— Есть одна! — радостно воскликнул курсант, поднимаясь с земли, весь вымазанный желтоватой глиной.
— Еще одна нашлась! — через несколько минут объявил Самохин.
Третью нашли совсем в потемках, при свете карманного фонарика. Ее выковырял из лунки, выдавленной каблуком сапога, сам Баченко.
Покидая стрельбище, курсанты восхваляли в песне легендарную винтовку уже не так браво. Кто-то глухо роптал. Старшина остановил роту.
— Пусть этот случай будет вам уроком, — сказал он, глядя куда-то в темень. — Что означает небрежность Самохина? Будто мелочь. Три пустые гильзы.
А если бы потеряли не стреляные? Они могли бы попасть в руки врага. И это уже три смерти…
Вечером курсантам пришлось выслушать разъяснение Баченка правил сбережения оружия и боеприпасов.
Нелегко давалась курсантам военная наука в зимних лагерях.
Там особенно трудно приходилось вчерашним студентам, выросшим на теплом юге.
Занятия — от темна до темна. Ужин — в потемках при тщательной светомаскировке. Короткий сон в промерзших палатках. Частые подъемы по тревоге.
Бывало, еще царит глухая ночь, а уже оживают белые пирамиды палаток. Теплые, полусонные курсанты выбегают на снег, их нательные сорочки сливаются со студеной зимней белизною.
Командовал подразделением курсантов лейтенант Яровой. Бойцы змейкой бежали за ним, увязая в глубоком снегу, осторожно минуя заснеженные, будто окутанные ватой ветви. Кто-то нечаянно задевал деревья, сыпался за воротник ледяной пух.
Не давалась на морозе и боевая техника. Пальцы прилипали к металлу, словно он был намагниченный.
Как-то Троян, торопясь открыть крышку люка, снял рукавицы и еле оторвал руку от брони: на металле остались белые отпечатки пяти пальцев.
— Не трогай голыми руками — кусается, — насмешливо заметил сержант-инструктор.
Подтрунивания некоторых старослужащих чувствительно донимали новобранцев. Один такой боец, проверяя исправность соединительных пальцев в гусеничной цепи, попросил Чапурина, с виду неуклюжего, неповоротливого курсанта из роты будущих механиков-водителей:
— Принеси-ка, дружок, мне клиренс (Клиренс — расстояние между днищем танка и поверхностью дороги).
Чапурин рассеянно начал рыться в ящике с запасными частями. Припоминал, будто на одном из занятий шла речь о клиренсе, а что оно такое, забыл.
Спросить стеснялся и перекладывал в ящике детали, надеясь ненароком наткнуться на эту странную штуку.
Когда за спиной послышались иронические смешки, он совсем растерялся.
— Хорошо, уже не нужен клиренс, — не успокаивался шутник, поощряемый сдержанными ухмылками дружков. — Подай лучше ВМТ (ВМТ – верхняя мертвая точка).
Выручил Чапурина Моторный — неторопливый, серьезный курсант, тоже из будущих механиков-водителей. Он недавно прибыл с Дальнего Востока. И на новом месте присматривался к людям. Дружески подморгнул Чапурину, и громко высказался как бы отвлеченно:
— Забулы волы, як телятами булы.
Чапурин понял свою оплошность. И шутники сменили пластинку. Стали доверительно делиться секретной мечтой о прибытии новых танков.
Незаметно прошла зима. Курсанты начинали трудовой день уже не в предрассветных потемках, а когда светло-голубой восток расцветал весенними красками.
С юга потянуло мягким ветерком. Во время полевых занятий ощутимо тяжелели шинели, шапки, вся курсантская выкладка.
В городке, на учебных полях, под гусеницами танков заиграли ослепительным блеском веселые ручейки. На старых высоких осокорах, вокруг повапленных белыми пятнами церковных куполов, вызывающе громко закричали грачи.
В один из таких весенних вечеров курсанты по тревоге покинули благоустроенный военный городок и взяли курс туда, где в тяжелых темно-синих тучах садилось густо красное солнце.
Обстановка в приграничном военном городке, куда они прибыли, не очень способствовала плодотворной учебе. Территория танковой воинской части напоминала строительную площадку. Прежде чем углубиться в изучение мудреного танкового дела, курсанты должны были взять в руки топоры, пилы, фуганки: предстояло переоборудовать для себя казармы, склады, укрытия для новых боевых машин, которые, по слухам, танкостроители на заводах докрашивали.
Днями и ночами не покидал бойцов командир подразделения лейтенант Яровой. Напористый, с виду сердитый, он не отталкивал, а привлекал к себе людей. При нем бойцы как-то невольно преображались. У иных, куда и девалась мешковатость, неповоротливость. Другие становились серьезными, поправляли ремень, противогаз на себе и ловили каждое движение, слово командира.
Курсантам казалось, что никто так не знал танковое дело, как лейтенант Яровой. В мгновение ока он вскакивал в танк, и не успевала крышка люка закрыться, издав металлический щелчок, как башня начинала плавно поворачиваться, а ствол пушки, будто к чему-то принюхиваясь, разыскивал мишень.
— Прежде всего, ищи цель, то есть противника… — чеканил Яровой слова, давая пояснения курсантам. — А затем делай все остальное. Только неутомимая тренировка научит вас действовать автоматически.
С соседней машины тоном просьбы послышался несмелый голосок:
— Товарищ лейтенант, у нас не работает подъемно-поворотный механизм.
Яровой молча, исчезает в башне неисправного танка. Ствол пушки дергается вверх, вниз. Лейтенант требует подать ему: то один, то другой инструмент. Послышались звучные удары, скрежет туго затягиваемых гаек. Наконец, над башней показалась голова Ярового. Энергичным движением он откинул со лба русую прядь волос и глухо бросил:
— Ч-черт!
И все знали, что можно продолжать занятия — неисправность устранена.
— С характером дяденька, — говорили о нем курсанты.
Вскоре сержанта Баченко сменил старшина Кирьяков, казалось, с врожденной улыбкой на лице, которая как бы говорила: мол, я себе могу позволить вольность в обращении с вами, но вы — ни-ни! Знакомясь с новыми подчиненными, Кирьяков сказал:
— Обращайтесь ко мне с любыми вопросами, но не запанибрата, а с соблюдением субординации, иначе я те дам… — а с преувеличенной строгостью в тоне загадочно подморгнул почему-то Мотылькову.
Свою деятельность Кирьяков начал с проверки порядка в курсантских тумбочках. Как раз под конец проверки, когда старшина остался доволен порядком в тумбочке Мотылькова и залюбовался новенькими полочками Чапурина, пришел Яровой.
— Товарищ лейтенант, разрешите закончить проверку? — обратился после доклада к нему Кирьяков.
— Минуточку, — сухо возразил лейтенант Яровой, внимательно посмотрел Чапурину в глаза, потом перевел взгляд на ноги курсанта, вернее на то, что Чапурин стремился заступить сапогами.
Улыбка на лице Кирьякова помрачнела тенью едва заметного сожаления.
— Виноват, чуть было не смазал проверку, — сказал старшина.
— Рота в наряд торопится. — Обращаясь к Чапурину, добавил: — Ваш аккуратненький мешочек придется развязать.
На красном, угреватом лице Чапурина не осталось и следа от самодовольной ухмылки.
Он развязал неохотно вещмешок.
В лучах весеннего солнца, что как назло брызнули с окон, на пол с грохотом высыпались гайки, болты, ключи, различные прокладки, какие-то детали. В завершение гулко выпали смазанные солидолом трак и два пальца к нему.
На озабоченном лице Кирьякова проступило вопросительное выражение:
А складские части, откуда у вас?
На станции ящик с бронетанковым имуществом развалился. Мне сказали, что это от секретного танка, который поступает к нам на вооружение. А товарищ лейтенант говорил, что у хорошего механика-водителя машина должна быть всегда боеспособна, и как тут обойтись без запчастей…
Промашка вышла, — сочувственно улыбнулся Кирьяков. – Это детали ходовой части артиллерийского тягача.
Наведите уставной порядок, — энергично крутнул головой лейтенант и поспешно вышел из казармы.
Курсанты пересмеивались:
— Гляди-ка, случай с клиренсом не прошел понапрасну. Запомнил себе парень.
— Решил, что некогда теорией заниматься, сразу за практику взялся.
Пришлось Чапурину отбывать пять нарядов вне очереди. Но и после этого он с не меньшим уважением относился к лейтенанту Яровому. И насмешливый старшина Кирьяков не таил зла.
Хлопоты с запчастями на этом, однако, не закончились.
Это произошло на занятиях в поле по тактике. Разобравшись по трое, курсанты шагали по однообразным волынским полянам и перелескам, потерявшим зимнее убранство и еще не успевшим приобрести красочный летний наряд.
Моторный, выполняя в тройке роль механика-водителя, шел впереди; сзади, уступом влево, двигался командир экипажа Гридин, а справа — башенный стрелок Троян.
— Вот мы и учимся так, как «ведет» механик-водитель, — недовольно бурчал Самохин из экипажа, который двигался рядом.
— Пороть горячку нечего. Пускай наука крепко осядет в голове, в ногах, в руках — во всем теле, — ответил Моторный, размахивая руками.
Поскольку он шел впереди, скорость движения танкового экипажа пеши по-танковому целиком зависела от него.
— И, правда, — согласился Троян. — Терпение!
— Моторный, молоко на волах везете, а не лихо несетесь на врага, — издали крикнул водителю лейтенант Яровой.
Моторный «нажал на газ».
Курсанты изучали, что должна делать разведывательная группа, если встретится с противником.
После весеннего дождя стало жарко. Припекало солнце. Полы намокших шинелей путались между ногами. Винтовка, противогаз, полевая сумка, саперная лопатка оттягивали вниз, будто свинцовые. Мокрый суглинок прилипал к сапогам, и каждый шаг давался все труднее. Глубокое дыхание, тяжелое сопение и в самом деле напоминали пыхтение перегруженных двигателей. Наконец Моторный обессилел и остановился, резкими взмахами правой ногой пытаясь стряхнуть ком налипшей грязи… Но вместе с глиной в спину переднего экипажа полетел сапог и еще что-то сверкнувшее на солнце металлом.
В ответ курсанты закричали:
— Внимание! С тыла обстреливает тяжелая артиллерия!
— Противник атакует!
— Стреляет деталями гусеничной цепи.
Это Моторный забуксовал на подъеме и гусеница слетела.
— Лови, Иван, свои вещи…
К ногам механика-водителя упал сапог и два стальных стержня.
Гридин с удивлением вытаращился на них.
— Ты сдурел, Ваня, или у Чапурина научился?
Моторный торопливо пытался спрятать детали обратно за голенища.
— Отставить баловство! — Лейтенант Яровой подошел ближе к экипажам. — Опять запчасти?.. Вы еще не представляете, что значит, для танка сесть на днище в топком болоте или в зыбком песке, с поврежденной гусеницей, да под огнем противника. Тут одним запасным пальцем не обойдешься. И подручных средств не хватит…
— А как же нам представлять, — невольно вырвалось у Самохина, — если учимся на пальцах, а не на машинах.
Лейтенант Яровой строго посмотрел на Самохина и, обернувшись к Моторному, вытащил из-за голенищ два стальных пальца, а из противогазной сумки — злополучный трак.
— Кто и в наказание, за что нагрузили вас этими железяками? — уже мягко, казалось, даже участливо, спросил он.
— Никто. Я сам… — Моторный осуждающе сверкнул темными глазами на Чапурина. — Мне сказали… Я думал, что это детали нового танка. Чтоб не потерялись, взял с собою.
Все ясно. Обоим — по наряду, — сказал Яровой и, окинув пристальным взглядом местность, скомандовал: — Группа, шагом марш! Моторный, не подводите свой экипаж. Танки должны неудержимо мчаться на врага. Направление — ориентир номер один! Вперед!
Занятия продолжались своим чередом.
Ночью, с пятницы на субботу, не успели курсанты после отбоя уснуть, как по казарме засуетился дневальный. Он выкрикивал одно и то же неумолимое, требовательное слово:
— Тревога!
В темноте послышался голос запыхавшегося старшины Кирьякова.
— Свет не включать. Окна занавесить одеялами. Не суматошиться!
Большое темное помещение загудело, как пчелиный улей. Когда окна были замаскированы, на тумбочке дневального загорелся слабый свет. С двухъярусных нар соскакивали люди. Грохали двери, скрипели половицы под ударами сотен каблуков. На стенах и потолке метались причудливые тени.
— Ничего не забыть, не перепутать оружие, противогазы, — напоминал старшина. Даже при слабом освещении на его лице угадывалось подобие строгой улыбки, выражавшее излюбленное требование: «Пулей вылетай! И занимай свое место, я те дам».
В казарму вбежал лейтенант Яровой, в полевой форме одежды. Он остановился перед нарами, удручено крутнул головой, сердито сморщился — в нос ударил спертый воздух, насыщенный запахами портянок, пота. Всюду мелькали люди в заношенном белье. Но предстоящая суббота не будет коротким рабочим днем, не будет бани, стирки портянок, кино…
Лейтенант наспех проверил у двоих-троих курсантов номера оружия, наличие боеприпасов.
— Без суеты и спешки, но поторапливаться.
Эти слова сопровождались нервными движениями желваков на строгом, сухом лице Ярового. Само присутствие командира успокаивало курсантов, подсказывало им обязанности.
Яровой быстро осмотрел казарму, остановился перед строем. Отобрал около двух десятков бойцов, разбил их на группы, назначил старших и дал задания.
— Экипаж в составе курсантов командира Гридина, механика-водителя Моторного и башенного стрелка Самохина — за мной!
— скомандовал лейтенант и, придерживая рукою кобуру на боку, метнулся к двери.
Троян невольно качнулся следом за другом, но сразу остановился. Он привык действовать в пешем строю рядом с Гридиным, и теперь, неожиданно осиротев, почувствовал какую-то душевную пустоту.
А Гридин со своим экипажем едва успевал за Яровым, фигура которого смутно маячила в густой темени летней ночи.
Неожиданно лейтенант совсем растаял, а через минуту из ночного мрака прозвучала его команда:
— Экипаж — ко мне!
Бойцы кинулись на вызов. Яровой, как выяснилось, привел их в парк учебно-боевых машин, до сих пор еще недостроенный. Вот и дверь: вчера успели навесить только одну половину.
Лейтенант внутри что-то ломал, оттуда вылетали какие-то доски, ящики.
— Вот ваша машина, — сказал он, осветив лучом карманного фонарика рваный, в масляных пятнах брезент, под которым вырисовывались очертания БТ-7. Это была популярная среди танкистов быстроходная бетушка, как они любовно ее называли.
На какое-то мгновение друзья онемели. Гридина бросило в жар от волнения. Легко сказать: так неожиданно сбывалась мечта.
— Проверить заправку емкостей, запустить мотор, погрузить все, что прикажет старшина Кирьяков и выдвигайтесь следом за Т-26, которая пойдет за моей бетушкой.
— Есть! — щелкнул каблуками Гридин.
В восторге от того, что им доверили настоящий танк, курсанты кинулись снимать брезент.
— Старушка, — критикнул Самохин и тут же, нежно погладив шершавую броню, добавил: — Ты ж вынянчила не одну роту танкистов. С ними ты делала первые зыбкие шаги и вывела их в люди.
Моторный без лишних слов скрипнул крышкой люка и исчез внутри машины.
— Давай будем знакомиться, — по привычке обратился он к механизмам. После продолжительной возни на сидении механика-водителя, еле слышно донесся голос: — Толкуют о новом танке, а мы еще и эту бабусю как следует, не знаем. Вот включил зажигание, а лампочки не светятся. Что делать?
— Глазами посвети, — хихикнул Самохин.
— Завести двигатель! — скомандовал Гридин, закрыв надмоторную броню, и полез в башню. Послышался треск разорванной ткани, что-то металлически звеня, посыпалось на днище. — Что за чертовщина? К тебе, Ваня, не пробраться без происшествий… Фу! Наконец-то… Сдвинься влево. Легким ударом встряхни щиток приборов…
— Вот видишь, и лампочки засветились. Мудреная закавыка, — хмыкнул Моторный. — Надо запомнить этот «секрет» — на экзаменах пригодится…
— Не будь, Ваня, толстокожим школяром, — резко заметил Гридин. — Выдержи сегодняшний экзамен, может, он для курсантов полковой школы и будет выпускным.
— Правильно! — одобрил старшина Кирьяков, невесть откуда взявшийся. — Сегодня надо действовать, как в настоящем бою. Никаких условностей! — и он объяснил, где и какие боеприпасы следовало взять.
Машины осторожно, на малой скорости, покидали военный городок.
Серые, невыразительные домики сжимали с двух сторон узкую улочку. Только мигали бельмами окна, с затаенной тревогой провожая затемненную колонну.
Когда выбрались за околицу города танк лейтенанта Ярового, увеличив скорость, и окутанный клубами отработанных газов и пыли, скрылся из виду. За ним умчался Т-26. Моторный осторожно вел машину за ними, стараясь не отставать. Но все равно отстал. Потом остановился — из-за плохой видимости. Когда впереди немного просветлело, Гридин разглядел в дальнем кустарнике силуэты двух машин. Над командирским люком замелькал глазок фонарика:
— Делай, как я.
И сразу же бетушка лейтенанта Ярового рванула с места и помчалась в поле.
— Ваня, не отставай! — закричал Гридин своему механику-водителю.
Они не отставали от командира. Танк неистово бросало на ямах, выбоинах. Через приоткрытые люки врывался холодный предутренний воздух.
А лейтенант уже давал новую вводную. Танк останавливался, трогался вновь, менял курс. Экипаж то и дело реагировал на: — «Орудие противника — у моста, слева…», «Вражеские танки — справа…” Курсанты не заметили, как летело время.
Только поздно вечером танкисты остановились вблизи небольшой рощи. Туда же прибыли и курсанты, действовавшие в пешем строю.
Обед и ужин в конце дня показались всем необыкновенно роскошными и вкусными.
Стояло тихое светлое предвечерье. Металлическим блеском сверкала в косых солнечных лучах молодая листва берез. Легкий ветерок приятно ласкал разгоряченные в походе лица курсантов.
В траве, несмотря на позднее время, стрекотали кузнечики, басовито жужжали шмели, в ветвях деревьев возились птицы.
Утомленные бойцы недолго лежали молча. Вот уже кто-то кинул слово, другой добавил свое и покатился хохот от группы к группе.
— Хлопцы, гляньте на Чапурина. Носом песни играет.
— Сам себе мотор. За день так наловчился пешком танк из себя изображать, что и во сне пыхтит, будто на крутую гору выезжает.
— Храпит, как мотор Т-26. — Толкни в бок, пусть не мучается.
— Не трожь! Дай человеку взобраться на подъем.
— Ну-ка, товарищ Троян — вам музыкальное слово! – произнес политрук Зорин, подсев к группе курсантов. Он недавно появился в танковой части.
— Да нет, я могу только в строю, чтоб в ногу легче идти, — отнекивался Троян, прячась за спину Гридина.
Курсанты поддержали Зорина.
— Музыка не только для ноги, она больше для души нужна. Давай, Петро.
— Раньше ты нам в затылки пел, а теперь мы к тебе лицом повернулись.
В тот субботний вечер Трояну пришлось впервые преодолеть смущение. Только поднялся с земли и сразу ж сконфузился, почувствовал неуклюжим, маленьким. Считал, что недостает ему видной мужской грациозности, военной выправки. Гимнастерка опустилась, чуть ли не до колен, а сапоги карикатурно разинули широкие рты — голенища. Тонкая шея, как палка, покачивалась в великоватом воротнике.
И все-таки Троян отряхнул обмундирование от пыли, затянул потуже ремень, стараясь, как учил старшина, расправить под ним складки гимнастерки, проверил, все ли пуговицы застегнуты.
Бойцы, разделяя его волнение, по притихли, начали рассаживаться на траве.
Набрав пересохшим ртом воздуха, Троян начал тихим, несмелым голосом:
Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку,
И крепко ж, братцы, в селенье одном
Любил я в ту пору девчонку…
Больше душою, чем голосом, выводил Петр слова любимой песни. Когда нужно было брать высокую ноту, он приподнимался на носки, вытягивал шею и каким-то чудом брал ее. Казалось, вся его фигура готова вот-вот взлететь вместе с песней, чтоб парить, как птица над родными просторами.
Запыленные, потные лица курсантов светлели. Любители покурить торопливо гасили цигарки — кто разминал окурки пальцами, кто втаптывал их в землю.
Гридин мысленно увидел родную, необъятную степь, по которой бежали волнами созревавшие хлеба. Вон и курганы — один, второй… На их вершинах вспыхивали тревожные огни. Это сигналы о приближении врага…
Рядом с Костей вздохнул Чапурин:
— Как на родном Урале побывал.
— Такой невзрачный, тщедушный, еле на ногах стоит, а в самую душу залез, — негромко пробасил Медведев.
Последние слова песни потонули в аплодисментах.
— Знай наших, — радовался Моторный. — Вот тебе и Петро: штурпак, серенький, махонький, как наш чубатый жаворонок.
— Что это? — встревожился Гридин. — Эхо до сих пор продолжает наши аплодисменты?
— Оно и само умеет аплодировать, — засмеялся Самохин.-
Вон, поглядите за ручейком…
— Впервые вижу эхо в образе девушек, — подхватился с земли Мотыльков.
— Спокойно! — придержал Мотылькова за плечо Медведев.
Возле кустов рябины показалась группа крестьян с косами и граблями на плечах. Из-за ветвей стеснительно выглядывали девичьи головки.
Приглашаемые бойцами, косцы неторопливо приближались и по толстому бревну, которое двое курсантов перебросили через ручеек, перешли на этот берег.
— Спасибо и низкий поклон вам, товарищи красноармейцы, — снял с головы соломенную шляпу пожилой крестьянин.
— Давно хотели ближе познакомиться с вами. Этот субботний вечер для нас как светлый праздник…
— Дождались, слава Иисусу, — поклонилась за ним женщина в вышитой украинским орнаментом безрукавке. — Двадцать пять лет родного брата не видела. Как ушел на войну в четырнадцатом, так только недавно, на пасху, прописал письмо. На Московщине лесничим служит, обещал скоро приехать. А я только что услыхала: поет кто-то, точно мой брат. Соловейком его прозывали на селе. И не думалось, что жовниры так красиво могут петь. Правду люди говорят, что поется там, где воля, и холя, и доля.
— Что ж, товарищ Троян, вам слово… Есть еще время, — политрук Зорин посмотрел на часы. — Спойте что-то поновее.
Троян кивнул, уже не чувствуя той неловкости, что сковывала его вначале. Посмотрел на солнечный диск, который уже касался березовых верхушек и запел:
Широка страна моя родная…
Припев подхватили все бойцы. К ним присоединились женские голоса.
Крестьянка в вышитой безрукавке подошла к Трояну, вытирая кончиком платка слезы в глазах. Подошла, остановилась — маленькая, сухощавая, будто мама.
— Дозвольте, пане, чи товарищу, подякуваты вам за все, — и она низко, по-крестьянски поклонилась бойцу.
Троян от неожиданности растерялся, покраснел. Но сразу ж опомнился, схватил ее мозолистую руку и припал к ней губами: — Вам спасибо, мамо.
— Господи, дождались светлого дня. Теперь и умирать не страшно, — дрожащим голосом проговорила растроганная женщина.
— Э, нет, кума, помирать рано! — поправил ее пожилой крестьянин. — Только по-людски жить начинаем. Пусть лучше наши враги умирают.
Трояна окружили сельские парни и девчата.
— Может быть, вы наш земляк? Тут кто-то говорил… Из какого села? — допытывался веснущатый бойкий паренек.
— Призван охранять нашу землю, значит, земляк.
— За пилсудчины мы жовниров боялись, — робко вступала в разговор смуглая девушка с толстой косой, перекинутой через плечо.
— А ты б в гости пригласила воинство, — вмешался пожилой крестьянин.
— Молодые стесняются, — добавила женщина в безрукавке. – Я скажу от имени всех: ласкаво просимо! Приходите завтра же на танцы… Вместе споем.
— И правда, — осмелела девушка с косой. — У нас есть скрипка и гармонь. Подготовим настоящий концерт. Будем считать, что сегодня состоялась увертюра.
Бойцы радостно загудели, перемигиваясь с девушками. Но прозвучала команда. Пришлось бежать на построение.
Колонна танкистов покинула гостеприимную рощу, а на берегу ручейка еще долго виднелась пестрая гурьба крестьян, которые — обсуждали неожиданную встречу.
Землю окутал мрак, а небо засветилось звездами.
Короткая июньская ночь полна задумчивой полесской красоты. Почва и воздух дышали дневным теплом, а лесная зелень — свежестью.
В промежутках между деревьями проглядывала светлая пашня, оттуда ветер приносил запах созревавших хлебов. В дымчато-лиловой дали угрюмо чернел лес — там пограничная река. Слева, на юго-востоке, мерцали огни города.
Кругом природа погрузилась в безмятежный кратковременный сон. Все отдыхало, набиралось сил, готовилось к самой продолжительной в году встрече с солнцем. День летнего солнцестояния приходился на воскресенье. Он обещал раскрыть людям все прелести яркого лета — колоритно, по-выходному весело.
Бойцы отдыхали после напряженных тактических занятий. Кто в палатках, наспех разбитых на лесной поляне, кто на брезентах, кто просто на охапках свежей скошенной травы.
В лесу давно утихли голоса, топот красноармейских сапог, лязг гусениц, шум двигателей машин. Улеглась дневная пыль, рассеялась копоть выхлопных газов.
Сонный покой нарушали только мерные шаги дневальных, часовых.
С полуночи острее чувствовался смолистый запах сосны, ели, пихты… Обильная роса освежила примятую и запыленную траву, листья деревьев, увлажнила песок на просеках и полянах, растревоженный гусеницами танков, колесами различной боевой техники.
Дневальный по роте курсант Троян испытывал противоречивые чувства. Он с поэтическим упоением наслаждался чарующей прелестью, близкой сердцу украинской природы и одновременно его странно угнетала звеневшая в ушах загадочно-напряженная тишина. Ему казалось, что в дремотной неподвижности ночи таилось нечто непостижимо загадочное. В лесных чащах, будто кто-то прятался и оттуда подслушивал, подглядывал. В призрачных нагромождениях деревьев, кустов чудился настороженный, неуловимый шепот.
Все это вызвало желание поговорить с кем-то. Боец передернул плечами, отогнал не прошеную дрожь, мысленно осудил себя за внутреннюю размагниченность и твердым шагом направился в сторону соседа, к дневальному курсанту Фалееву.
Тот, видимо, тоже испытывал потребность обменяться словом, другим с товарищем. Троян услыхал хруст песка — приближались шаги. Из-за темно-желтого ствола огромной сосны, под которой прятались палатки соседнего подразделения, показалась рослая фигура Фалеева.
Дневальные встретились на стыке расположения своих рот, будто пограничники на государственной границе дружественных стран.
Завязался тихий разговор.
— Очаровательно красива наш земля… — окинул Троян взглядом причудливые очертания лесных великанов, за которыми белела полоска хлебного поля, фантастическую звездную бесконечность, неба. Его впечатлительная поэтическая натура пела: — Меня до глубины души волнует природа. Каждый раз, когда любуюсь ею, нахожу все новые и новые привлекательные черты. Сегодня она мне кажется какой-то томно-притихшей и в то же время настороженно-выжидательной. Наблюдаю и думаю: в течение года меняются формы, краски… Снег, дождь, вода, лед, весенние туманы, зелень полей, лугов… По-своему живописная зима сменяется нежно-зеленой, цветущей весной — возрождается жизнь. Летом все живое растет, укрепляется, питаясь благодатными земными соками, солнечными лучами… А осенняя пора? «Очей очарованье… Люблю я пышное природы увяданье…” — восхищался Пушкин. Хотя все это повторяется каждый год, но оно никогда не наскучит, потому что связано с красотой и жизнью… Наша земная природа постоянна, как солнце, как звезды, как жизнь… Не могу себе представить что-либо очаровательнее живой красивой жизни.
Троян согнул и выпрямил поочередно левую, потом правую ногу, встряхнул плечами, поправил на себе снаряжение и обвел взглядом развесистую крону ближайшего дуба:
— Мы с тобою выполняем долг службы, стоим на дневальстве… Правда, наши несознательные ноги, бесчувственно-одеревенелые, пытаются отказываться служить, но мы их заставим повиноваться. Пусть потерпят… Зато душа на посту упивается сказочной красотой ночи, которая смотрит на мир мириадами своих загадочных космических очей…
Фалеев, завороженный словами чувствительного коллеги, задумчиво скользил взглядом вдоль светлой пыли Млечного пути:
— Интересно бы достоверно узнать, а не предполагать, есть ли там, в безбрежном космическом песке что-то живое, похожее на земную природу?
— Думается, что мы претендовали бы на какую-то сверх исключительность — и без всяких оснований,- если бы считали, что только наша планета обитаема. Материя везде одинакова. Неправильно было бы думать, что у нас она стала умной, а среди миллиардов других миров продолжает оставаться глупой. Скорее всего, кое-где живые существа появились раньше, чем у нас, и поэтому могли бы успеть достичь в своем развитии большего совершенства. Они по-своему поэтизируют свою жизнь.
Фалеев любил слушать научно-фантастические прогнозы, хотя до призыва в армию работал техником — металлургом и имел дело на производстве с вполне реальными, конкретно ощутимыми вещами. В свободное от работы время занимался изобретательством, рационализацией, увлекался научной фантастикой. Тянуло и к живой природе. Второй страстью его было сажать цветы напротив своего цеха и ухаживать за ними. Читал Циолковского, грезил межпланетными путешествиями. В армии встречи и беседы с Трояном, который всегда умел замечать интересные детали в обыкновенных явлениях, в жизни, помогли глубже видеть и чувствовать в природе поэзию, романтику.
Фалеев как бы размешивал своей широкой ладонью ощутимо-свежие потоки воздуха. Полной грудью вдохнул и медленно выдохнул:
— Не представляю себе, чтоб марсиане, еле дыша в разреженной атмосфере, были бы в восторге от своих пыльных ландшафтов, покрытых мхами и лишайниками… Или живые существа Венеры… Там — ад кромешный, не завидую, они задыхаются от страшной жары. Наш литейный цех показался бы им холодильником. Трудно предположить, чтоб обитатели Венеры обоготворяли горячий туманный мрак своей атмосферы… Во всем этом разобраться — не фунт изюму, а интересно…
— На красавице Венере пар костей не ломит, — поежился Троян от ночной свежести.- Я, как южный человек, не против тепла. Представь себе худшее: жителям Юпитера и Сатурна приходится в бескислородной атмосфере дышать одним азотом и в условиях адского холода прохлаждаться питьем в виде ледяного аммиака, чем в избытке наделила судьба эти планеты — гиганты… Да, огромны миры, не нам чета, а без доли… Ми слишком избалованы. Я, например, любил в жару, на берегу моря есть мороженое и запивать живительной, прохладной фруктовой водой… В тех же страшно удаленных от солнца мрачных мирах совсем не то. И все же можно предположить, что их обитатели также не лишены романтических настроений.
— Какая у них может быть романтика?
— Как сказать? — начал Троян обмахивать лицо веткой пахучей черемухи. — Жизнь вездесуща, удивительно изворотлива в своей приспособляемости. Не исключено, что и в суровых условиях некоторых планет есть, если можно так выразиться, своя поэзия. Надо иметь в виду и другое: природа бесконечно разнообразна в своих творениях. Почему бы ей в тех или иных конкретных благоприятных обстоятельствах многократно не повториться в каких-то иных формах, отличных от наших, довольно таки интересных и по-своему красивых, своеобразно привлекательных?
— Занимательно… Наука должна скоро узнать о формах жизни на планетах нашей и других солнечных систем. И ничего не пожалел бы для того, чтоб ускорить наступление того часа, когда наши люди обнаружили бы разумные существа в других мирах, в низших и высших цивилизациях. А еще заманчивее было бы самому принять участие в межпланетных путешествиях, лично встретиться с собратьями по разуму, скажет где-то в созвездии Водолея и Рыб…
— Как я понял, ты стремишься туда, где сейчас проходит «планета – воин» Марс? — Троян вытянул руку к Владимиру-Волынскому и показал низко над горизонтом ярко-красную звезду, окруженную белыми звездочками, которые мерцали и словно жмурились от багровых лучей своей жаркой соседки.
— Да; это звездное семейство кажется недалеко, а до той, красной, — с земли рукой подать.
— Иллюзия. Каждая из этих звезд находится на разных космических удалениях от нас. Ближайшая — багровая «планета пожаров».
— Махнуть бы к ней на звездолете…
— Хочешь сразиться с воинственными марсианами?
— Они доходяги на своей дряхлой планете. Меня интригуют пустотелые спутники. Может, внутри них теплятся остатки жизни.
— Сомнительно… Но ученые интересуются, их не отпугивают грозные названия – Фобос и Демос, что означает «Страх» и «Ужас». Мы не безразличны к тому, кто посматривает из-за горизонта по ночам кроваво-красным оком.
— По-твоему, война неизбежна?
— Люди не в силах ее предотвратить.
— И мы погибнем?..
— Мы ничего не значим для вечности. В конечном счете, верх — возьмет целесообразность, высший разум, красота.
— Не понимаю, что это означает.
— Как тебе объяснить?… В космическом пространстве миллиарды лет тому назад происходили страшные катаклизмы. Из, беспорядочной космической пыли образовались красавец месяц, райская планета Земля, мы с тобой и… — Троян замялся — не сказал, а подумал: «…чудо девичьей красоты Вера…» Из дикого, бурного огня и пламени возникли приятное, умеренное тепло, ласкающий глаз свет, цвета радуги… На смену необузданному, стихийному грохоту, реву пришли различные упорядоченные сочетания звуков — голоса живых существ, соловья, музыка…
— Отсюда я верю, что в будущем победит добро, рациональность, красота.
— А зачем нам Марс?
— Воинственных марсиан не обойти. 0ни — на пути к светлым мирам…
— Ясно… В перспективе неминуемо расселение людей по другим планетам солнечной системы, на которых есть условия для жизни…
— И на Марсе раньше расцветала жизнь. Не символично ли то, что первоначально древние римляне Марсом называли не бога войны, а бога полей и урожая?
— Как много в мире таинственно-занимательного, противоречивого.
— Нам нужно жить долго – долго, чтоб больше успеть… Меня заинтересовал Марс… Я не боюсь сопутствующих его «страхов» и «ужасов». Спутники эти интересуют меня, как металлурга. Узнать бы, из какого металла они сделаны? Если окажется легкий и прочный сплав, то не пригодится ли он для изготовления танковой брони?
— В плане научных открытий это верно… — мечтательно тянул Троян. — Но я, лично, не рвался бы, очертя голову, за пределы своей колыбели… На посту обычно есть возможность подумать… Я воспользовался этим и пришел к таким выводам: трудно себе представить, что то более возвышенное, красивое, чем то, что нас окружает, начиная от своего села, от перелаза через каменный мур, который ведет к студеной криниченьке с журавлем, от бескрайнего золотистого хлебного моря, с красотой которого может поспорить только широкое Черное море, от близких, родных лиц, оставленных там, на ”гражданке”, и замененных дружной армейской семьей, и кончая седой стариной, в том числе и историей древнего Владимира-Волынского, огни которого вон, за дальними соснами манят к себе на воскресенье… Все это вызывает у меня какой-то особенный душевный трепет. Наша родная семья достойна того, чтоб ею восторгаться до самозабвения, чтоб достойно ценить ее…
— Мне хочется, чтоб так, как сейчас, было и завтра, и послезавтра, и всегда… Я иногда содрогаюсь при мысли, что нынешняя гармония красоты, целесообразности в жизни может быть кем-то нарушена…
Сослуживцы, возбужденные необычными размышлениями, в которых смешивалось фантастическое с реальным, зоркими глазами обозревали объятый сном мир, чутко прислушивались к сонному дыханию, и едва уловимым шорохам — ведь они призваны бдительно охранять труд и безмятежный отдых своего народа.
Небосклон над городом светлел — взошел серп месяца.
И на душе Трояна сразу стало светлее и теплее. Он зашагал в западном направлении, параллельно движению спутника Земли. «Хотя и ты ущербный и моя доля щербата, а вдвоем нам стало веселее, — воодушевлял себя боец. – И в природе все становится более отчетливым, определенным. Вон, как поляна повеселела — прибавилось света. Одновременно резче обозначились тени, и на душе…” Он остановился. Вгляделся в дальние городские огни, которые мерцали в слабом месячном сиянии, как бы маня к себе, приглашая. Обостренное воображение унесло парня в призрачную месячную мглу.
Его слабый голос — нет, скорее это был отзыв души — запел:
— Ніч яка місячна, зоряна, ясная!,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай…
По тому, как певец поднимался на носках, выгибался влево, вправо, и пониженным голосом с повышенной эмоциональностью придавал особо трогательную лирическую напевность словам, можно было подумать, что наблюдаемая им загадочная дивчина скользила где-то в небесной выси, под месяцем.
Как бы приглашая ее спуститься на землю, он убеждал:
— Ти не лякайся, що ніженьки босіі
Вмочиш в холодну росу:
Я тебе, вірная, аж до хатиноньки
Сам на руках однесу…
И вдруг Троян осекся. По двум причинам: в глазах померещилось, будто звездочка, облюбованная им возле месяца, мгновенно сорвалась вниз и в пути к земле бесследно исчезла; почти одновременно слух уловил:
— Песнями не проворонить службу. Я те дам…
Голос старшины выражал и строгость, и какую-то скрытую демократичность.
Звездное небо продолжало помогать воображению Трояна рисовать картины недавнего прошлого.
Среди городских огней, в сумеречном тумане мерещилась белая хата. Очеретная стреха отбрасывала тень на стену. Незатененные окна отсвечивали лунным блеском. Как тогда хотелось, чтоб оконное стекло ожило образом Веры!
В те летние каникулы Троян с трудом выкроил двое суток для поездки домой и встречи с Верой, со своей бывшей одноклассницей, с которой осталось столько недомолвок, неясностей.
И вот он по дороге со станции завернул в соседнее село.
Когда хорошо смерклось, подошел с душевным трепетом к заветной хате. Остановился. Стал подбирать слова, с которыми намеревался обратиться к девушке, родителям. Затем коснулся рукой калитки, но войти не решался. Почудился голос. В его груди гулко заколотилось сердце. В голове стал вырисовываться план беседы. И он так увлекся мысленным построением волнующего диалога, что когда опомнился и, наконец, дернул к себе скобу калитки, то свет в окнах погас. Как бы в подтверждение недружелюбного приема, под стрехой блеснули, словно фары, два кошачьих глаза и исчезли. Не в его характере было рваться в дом, где люди, утомленные дневным трудом, легли отдыхать. Возникла проблема: как, не беспокоя родителей Веры, дать ей знать о себе?
Долго бродила по сумрачным улицам Фигура одинокого парня. Единственной спутницей его была длинная, неяркая тень, которая легко переламывалась через заборы, муры, живые изгороди, калитки, ворота и, как приведение, трусливо мелькала вдоль белых стен строений, робко заглядывала в окна, двери, под стрехи, торопливо шарила по чужим дворам, палисадникам. Такое соглядатайство не оставили без внимания бдительные четвероногие домашние стражи. Учуяв дух чужого человека они с дружным лаем выскакивали из подворотен, наперебой как бы спрашивая: «Что тебе здесь надо? Не украсть ли что-то собираешься?»
Троян долго расхаживал по улицам. Побывал в сельском клубе, убедился, что там Веры не было. В течение нескольких часов только то и делал, что сворачивал к знакомой хате, медленно проходил мимо, выразительно покашливал, досадовал на свою нерешительность, нервно щелкал семечки, отламывал кусочки от шляпки подсолнуха и, бросая в виде приманки привередливым, неумолкаемым собакам, пытался шепотом заговорить им зубы:
— На, славный песик, Бобик, съешь и замолчи. Не надо меня так усердно приветствовать… Маленький цуцик, побереги свой ангельский голосок, потише… Возьми, Найда, не ори, без тебя тошно…
Некоторые из них попадали на удочку, затихали. Одного хриплого, до рвоты захлебывавшегося горлана не вводила в заблуждение никакая слащавая дипломатия. По его адресу пришлось, не меняя ласкового тона, произнести:
— Чертова образина, уймись ты, наконец, или я накличу на тебя собачье проклятье: чтоб ты сдох, старый псарюга…
Скрипучий пес продолжал, как заведенный, надрываться из последних сил, сверкая страшно-красными глазами.
В конце-концов, Троян отважился, и сам проявил активность — во всеуслышание подал свой голос. Замаскировался в тени пахучего грецкого ореха и попытался вызвать девушку песней. Разноголосые дворняжки стали умерять свои отрывистые с ленивой хрипотцой звуки – будто решили прислушаться к задушевной мелодии, или, возможно, принимали примелькавшегося певца за своего.
К сожалению, песня, очевидно, не достигала ушей той, кому предназначалась. Манящая своей загадочностью «хатинонька» хранила молчание, будто необитаема. Окна равнодушно отсвечивали холодным месячным глянцем, а черный прямоугольник двери и не думал отзываться желанным скрипом старых петель.
Месяц, бледнел, поднимаясь все выше и выше над округлыми купами темных садов и тупоугольными очертаниями крыш сонных крестьянских строений. На фоне звездного неба свечками рисовались грациозные, стройные тополи. Со стороны клуба доносились маршевые звуки гармоники — признак того, что танцы закончились, и молодежь направлялась по домам. Трояну не хотелось встречаться с местными парубками, которые неминуемо пристали бы к нему с вопросами, и он, разуверившись в своей судьбе, безнадежно махнул рукой и так, не солоно хлебавши, зашагал непослушными ногами в свое село.
На выгоне остановился, оглянулся назад. Окна сельского клуба еще светились огнями, слева от них угадывалась негостеприимная хата.
Год спустя, в далеком Полесье, на посту дневального, звездная ночь, городские огни вызвали у Трояна воспоминание и другого вечера, когда состоялась встреча с Верой. Однако помешал окрик старшины. К тому же и сосед подал знак приблизиться к границе подразделений. Того мучила своя причина излить душу коллеге. Оказалось, что одни и те же огни вызвали у людей эмоции различного характера.
… Фалеева нервировал городской свет. Вначале боец негодовал: почему он слишком рано зажегся? Затем торопил время, очень хотел, чтоб холодные дрожащие огни быстрее погасли. Как ему не терпелось засветло попасть во Владимир–Волынский! Ничего не вышло, пришлось ждать до утра.
Курсант время от времени посматривал на часы, ощупывал в кармане бесценную телеграмму, глубоко вздыхал, с огорчением думал о неожиданном заступлении в наряд, что сводило к минимуму шансы с утра побывать в городе, где в казарме, на тумбочке, осталось недописанное письмо. Боец лелеял мечту упросить старшину сразу с подъема слетать, на чем попало в военный городок, срочно отправить телеграмму родным с обещанием, что подробности следуют письмом.
Окрик старшины Кирьякова в адрес Трояна возродил в голове Фалеева события, которые происходили накануне тревоги.
В пятницу, после обеда, Фалеев обратился к старшине с просьбой, разрешить увольнение в город на один час.
— Нужно срочно получить фотокарточки и тут же отправить их домой, с почты, — объяснял боец.
— Невелика беда. Ваша милашка немножко подождет. Для личных дел будет воскресенье.
Курсант доложил старшине по всей форме, что никак невозможно ждать выходного дня, что в кармане лежит телеграмма из дому о рождении сына, что кровь из носу надо взять фотокарточки из ателье Дома Красной Армии и присоединить их на почте к поздравительному письму.
Фалееву очень хотелось осуществить задуманное: свою фотокарточку, сделанную в день рождения сына, немедленно отправить домой с наказом: вот, мол, по чьему образу и подобию расти, малыш.
— Никакое дело я не стремился довести до донца с такой настойчивостью, как это, — делился впоследствии он с Трояном.
Старшина Кирьяков выслушал курсанта, по своему обыкновению улыбался так, будто собирался удовлетворить просьбу и пригласил его в каптерку. Показав на столе, кучу различных заготовок из фанеры, кисти, краски — распорядился:
— Надо, срочно, четко, просто и ясно написать на фанерных табличках слова: «Танк подбит», «Мины», «Проход в минном поле», «Объезд», «Пост ВНОС», «На заправку ГСМ» и другие, согласно вот этому перечню, — Кирьяков подал курсанту лист бумаги.
— Выходит, моя семейная идея подрывается на учебной «мине»?
Кирьянов вспомнил о подобном своем невыполненном обещании и решил: «И я схожу вечерком в фотографию, а то мой постреленок уже бегает, а отца и тени не видел”. Бойцу — участливо:
— Добро бы – на учебной… Ладно сделайте больше половины и — валяйте…
Курсант засучил рукава, хотя его душа была не на месте.
Через полчаса прибежал старшина Кирьяков:
— Все, что сделано, несите в канцелярию… И бегите в парк…
Фалеев грустно взглянул на часы.
— Понимаю… Изменяю свое решение… Я сам снесу эти указки, а вы махните в ДКА и на почту. На свободный вечер не рассчитывайте. Живым духом туда и обратно. Срок — 15 минут.
Курсант попытался открыть рот.
— Не разрешаю. Действуйте, иначе — труба, — упредил Кирьяков.
Фалеев со всех ног бросился в город. Конверт с карточками опустил в почтовый ящик возле двери ДКА, а за письмо – сел в казарме сразу после ужина. Только написал: «Здравствуйте…», как над головой услышал упрек:
— О возвращении-то надо докладывать. Пойдемте в каптерку — вас ждет новое задание…
Старшину Кирьякова перебил лейтенант Яровой:
— Всех курсантов немедленно отправить на артсклад.
События развертывались с кинематографической быстротой…
…Фалеев шагнул из глубины просеки. Еще раз взглянул в сторону городских огней. Переживал: что скажет жена, вскрыв конверт с одними фотокарточками, без письма?
Дневальные накоротке обменялись несколькими словами и опять вернулись в свои подразделения. Городские огни освещали в воображении каждого новые волнующие картины.
Легкий шелест листвы высокого дерева помог Трояну перенестись, как на крыльях, вглубь истории. В его голове стали мысленно воспроизводиться в образах прежние впечатления, полученные из прочитанных книг, виденных когда-то произведений живописи, скульптуры…
… 988 год. В туманной дымке, на берегу речки Луга, притоке Западного Буга — движение масс русских воинов. Идет строительство оборонительного земляного вала. Стучали топоры, с треском и шумом валились вековые сосны, ели… В небо поднимались высокие деревянные башни, вырастали неприступные укрепления, стены, бастионы. Создавалась столица крепость Владимиро-Волынского княжества. Она стала передовым оборонительным пунктом на западной границе Руси.
Мерцания и движение огней активизировались. Курсанту почудились драматические события 1238 года. К городу-крепости потянулись с запада черные тучи немецких псов-рыцарей. Разыгралась кровопролитная битва, которая продолжалась не день и не два. Враг, не сумев одолеть русских воинов, расположился военным лагерем на подступах крепости. Запылали костры. Мрачные толпы теней перемещались вместе с огнями. Под дерево — земляными укреплениями суматошились с факелами зловещие ночные призраки. Завоеватели лихорадочно готовились к штурму укреплений русских войск.
Курсант словно слышал чужую, лающую речь, бряцание доспехами. Посмотрел в небо, подумав: и тогда на дальнем, хмуром небосклоне появился кровавый Марс… И тогда взошел на востоке, над могучим лесным массивом ясный месяц… и тогда сияли звезды, Чумацкий шлях выводил русских воинов к цели… Ночные светила видели жестокую битву и указывали древним богатырям путь к победе. Их лучи отсвечивались шеломами, оружием, боевыми латами воинов князя Даниила Романовича…
Боец, пристально всматриваясь в сумрачный горизонт, задержался на абрисе остроконечной ели, четко рисовавшейся на фоне неба. К ее тонкой, похожей на острие копья вершине, как бы коснулся серебряный серп месяца — точь-в-точь, кривое лезвие старинного оружия – алебарды. В поле зрения не стало багрового Марса. Звон оружия, чужой говор стихли. Владимиро-Волынский князь со своим войском наголову разбил тогда немецких псов-рыцарей. От захватчиков остались груды трупов, кучи доспехов, оружия…
Месяц — немой свидетель героических дел русского народа — поднимался все выше и выше, обозревая обширные поля, леса, на которых не осталось и следа, и праху от иноземных пришельцев. В волынской земле сгнили вражьи кости, остатки поверженного оружия. Реки унесли в море черную кровь. Время стерло с лица земли следы и других захватчиков и угнетателей, смыло обильно пролитые пот и кровь. Природа обновила облик многострадального края. Однако, воин улавливал резкие дуновения ветра, которые нет-нет да и приносили с запада, с мрачных болотных зарослей зловонный дух некогда разгромленных захватчиков. Этот дух настораживал.
Время перевалило за полночь.
Природа, казалось, стремилась, превозмочь крепкий полуночный сон. Деревья, в своих вершинах временами обменивались тихими шорохами. Листья внезапно спохватывались, будто спросонков, и через минуту вновь успокаивались.
Месяц хмурился — Словно обеспокоенный беспечным повсеместным сном. Некоторые звезды нервно содрогались.
В листве раскидистой березы раздался испуганный взмах крыльями крупной птицы, сопровождаемый на то дремотным воркованием, недовольным карканьем. Затем от легкого дуновения ветра шелест возобновился. Лесные шорохи пугают… Хотя птаха копошится на верхушке дерева – к хорошей погоде, как утверждают старики, — рассуждал Фалеев.
— Не всегда, — возразил Троян. – В общем-то, береза не угроза: где стоит, там и шумит. А вот птахе во сне могло пригрезиться что-то страшное. Она прокинулась, залезла повыше, осмотрелась и удивляется странному сочетанию на небе: и месяц, и Чумацкий шлях. Обычно, от лунного сияния серебристая дорога меркнет, а сегодня не очень… Кругом, хотя и светло, но птице мерещится где-то в дальних, туманных дебрях замаскированное вероломное око.
— Наговоришь такого, что становится страшно. Не о птичьих, а о своих впечатлениях рассказываешь.
— Птицы обладают инстинктом. Ряд повторяющихся событий на протяжении веков выработал у них безотчетные побуждения принимать защитные меры.
— Логично. Я где-то читал, что эта способность передается из поколения в поколение. Пернатые сегодня спят так же чутко, как наш Кирьяков.
Упоминание о старшине вызвало у Фалеева смутное беспокойство.
— Заболтались мы, расходиться пора, — предложил он, размышляя о том, когда лучше подойти к Кирьякову с просьбой об отпуске в город с подъема или после завтрака. Вслух продолжил: — А то старшина засечет наши отвлечения от службы и наградит раньше времени, своей обворожительной улыбкой; лучше он приберег бы ее до выходного.
— Верно. Улыбка не заменит тебе увольнительную. И все-таки, с ней легче.
— Я рассчитываю на то и другое. Поэтому пойду к себе. Надо заранее начать будить своего напарника курсанта Юрко. Страх, как парень горазд спать. Засыпает с одним сапогом на ноге во время обувания. Раз захрапел в умывальнике, в ожидании очереди присел на табуретку и готов. Но уж, когда окончательно проснется, спасу нет, такой калгатной. Действует бурно, говорит без устали, высокопарно. Посмотришь сегодня — он раньше времени сделает побудку всему лесу… Фу, черт меня дергает за язык. Становлюсь хуже Юрка. Наговориться с тобой не могу, словно больше не увидимся. Я пошел… — в третий раз сообщил Фалеев, но потоптался на месте и добавил: — Странный этот Юрко: ни выспаться ему не хватает времени, ни поесть, ни поговорить… Вчера кто-то из ребят сказал ему: «Не торопись, парень, недалеко от беды, зачем лезешь наперед…» тю, забыл, как дальше по-украински…
— Не спеши поперед батька в пекло.
— Вот именно…
— Прямо!.. Ты очумел?.. Говорю, не сворачивай… Дави фашиста — агрессора!.. Так его, мать… — прервал дневальных возбужденный сонный голос из палатки.
Длинная и короткая фигуры отделились друг от друга и скрылись в тени деревьев. Троян тихо шуршал по росистой траве своими стоптанными сапогами. Его чуть наклоненный вперед силуэт, перетянутый ремнями, плавно скользил среди светлых пирамид палаток.
— Дневальный, где вы? Не сморил часом сон? — услыхал курсант резкий голос из старшинской палатки и вздрогнул от неожиданности. Так и есть: Кирьяков сегодня не в духе, недаром всю ночь не спит.
— Никак нет, товарищ старшина. Все в порядке, — спохватился
Троян.
— То-то. Держать ушки на макушке, — слышался наставительный говорок Кирьякова с заметной примирительной интонацией.
Перемена тона к лучшему обрадовала Трояна. Изменение улыбчивых черт лица старшины он мысленно сравнивал с проявлением отпечатанной контрастной фотобумаги в свежем химическом растворе. А не подвох ли это? На всякий случай решил затянуть ремень на последнюю дырку. Заправка от этого ухудшилась. Попытки согнать назад складки широкой и длинной гимнастерки, как всегда, ничего не дали. Разровнял скрутившуюся веревкой брезентовую тесьму противогазной сумки. Протер нога об ногу носки своих старых, запыленных сапог. Потрогал в кобуре холодную сталь пистолета… Весь отряхнулся, подтянулся, готовый к самой придирчивой проверке. Вне сравнения со своими сослуживцами он действительно казался в сизом ночном мраке вполне представительным бойцом, хотя, как известно, был неказистым малым.
Опасения дневального не были напрасными: из старшинской палатки донесся шорох, вслед энергично открылся полог, и на передней линейке выросла высокая, осанистая фигура Кирьякова. Медленная, качающаяся походка. Одет — в ремнях. На ходу — гимнастические упражнения. Зевнул:
— Духота. Все тело, как побитое, ноет… Не спиться. Почему?..
Неожиданные откровения старшины удивили бойца. И он — невпопад:
— Должно, ваша палатка жаркая… Бойцы под открытие небом задают такого храповицкого, что аж земля дрожит. Даже птицы в лесу затихли, прислушиваясь к незваным храпунам.
— Хорошо… но не очень… — оглядывал старшина лес, палатки.
Беспокойно повернулся к просеке, в конце которой плавно скользнула тень человека. — Кто там, у шлагбаума шастает?
— Известно – часовой, — недоумевал дневальный и — про себя: — «Сам инструктировал состав караула, на местности разъяснял часовым сектора наблюдения, а меня спрашивает?»
— Так, так… Боец спит, а служба идет… — медленно тянул старшина с такой неопределенной интонацией, что смысл сказанного оставался неясным.
Запрокинул голову назад, долго и внимательно прощупывал небо широко открытыми глазами, прислушивался, будто в беспорядочной россыпи светящихся точек старался обнаружить недостатки несения небесной службы.
— Я бы не сказал, что сегодня небо настолько поэтически эффектно, чтоб могло вызвать у бойца лирическую песню. Кого вы, товарищ Троян, так настойчиво и убедительно приглашали — в гай?
— Никого особенно… Просто вспомнилась хорошая песня… – Троян испугался своего голоса – в нем мимо воли прозвучала тоска о чем-то давно минувшем, безвозвратном.
— Верно. Песня замечательная, душевная. И пели вы ее так, будто о себе рассказывали.
В старшинском голосе звучали добродушные участливые нотки и что-то похожее на грусть. Взгляд его давал понять, что источник переживания бойца совершенно ясен.
Троян разинул рот: никогда старшина так запросто не разговаривал. Украдкой изучал его профиль, сожалея, что не мог видеть выражение всего лица. Вероятно, оно было приветливым.
Курсант набрался духу спросить:
— За что вы меня только что ругали?
— За то, чтоб службу не пропели. Студенты отличаются несерьезностью, недостаточной военной и жизненной закалкой. Вы легко отвлекаетесь от выполнения служебных обязанностей.
— Конечно, я — сугубо гражданский, но службу не упускаю…
— Знаю. Вы тянете с трудом красноармейскую лямку, но с упорством и настойчивостью. Стараетесь подражать характеру своего земляка Гридина… — и Кирьяков замялся, мысленно упрекнув себя: мол, не спеши с откровениями, посмотрим, как на деле покажут себя этот ясноглазый, простодушный соловей и тот задиристый, колючий ястребок. Подумал и все-таки продолжил лояльно: — Сужу по себе… Я тоже был любителем стихов, песен, мечтал учиться, но рано женился. Не теряю надежды вернуться к учебе, хотя теперь бабушка надвое ворожила… Троян, знаете, о чем шепчутся над вашей головой деревья? Нет… А я знаю. Волынский лес хочет узнать, кого вы так настойчиво приглашали на свидание?
У Трояна возникло безотчетное желание поделиться со старшиной своими душевными переживаниями. Рассказал о встречах с Верой во время летних каникул, о последнем свидании, слова застревали в горле — неловко было вспоминать. С грустью говорил о прерванной переписке.
— Да; молодо-зелено… — опустил голову Кирьяков и тут же поднял: — А ну-ка, тихонечко повторите свою песенку. Ничего, не оглядывайтесь — разрешаю.
Троян откашлялся. И в лесную тишину стала мягко вписываться нежная мелодия, делавшая ее еще более трогательной, очаровательной:
— Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,
Тепло — ні вітру, ні хмар…
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.
Ти не лякайся, що можуть підслухати
Тиху розмову твою:
Нічка поклала всіх, соном окутала –
Ані шелесне в гаю.
Сплять вороги твоі, знуджені працею, —
Нас не сполоха іх сміх.
Чи ж нам, окраденим долею нашою,
І хвиля кохання — за гріх?
— Все чудесно и глубоко душевно… Волынская природа возражает только против одного образа: «… ні вітру, ні хмар…» Это обманчивое впечатление, — и Кирьяков потрогал козырек своей фуражки, будто с целью того, — чтоб порывом ветра не смахнуло ее с головы. Лицо потемнело, а глаза сверкнули ярче обычного. Опустив руку, чем убрал тень с лица, сердечно продолжил: — Волнуетесь, что не пишет? Да, нелегко. Эх, не знает она, как сейчас нужна ее весточка! — и он резко хлестнул березовой веткой по голенищу.
Этим жестом Кирьяков ругнул себя за то, что так и не удосужился сделать и послать сыну свое фото.
Тем временем Троян набрался смелости выдавить из себя древнейший в мире вопрос:
— Товарищ старшина, что бы это могло означать?..
Кирьяков озадачился.
Пауза помогла курсанту прибегнуть к самому банальному уточнению значения слова «это»:
— … ее молчание?
И растерялся – показалось, что он первый человек на всем свете дерзнул поделиться сокровенным не вовремя, не к месту, да еще со старшим начальником. Его лоб покрылся испариной.
Кирьяков начал с вопроса:
— Ее звать Верой?… и в дальнейшем – участливо, доброжелательно: — Почти убежден, что задержка не по ее вине. И вам, как старший, запрещаю делать из ничего слона. Для подобной фантазии нужна хотя бы муха, а ее, к счастью, нет. Надо верить Вере.
Где-то в отдалении послышалось пение петуха.
— Скоро заря, — обрадовался Троян поводу переменить тему разговора. – Вторые петухи, чертей разгоняют.
— А первые?
— Полночь отпевали. Уже давно прокукарекали.
— А третьи?.. Хотя, ладно — сейчас не время заниматься петушиной службой. Надо свою проверить и до третьих соснуть часочек. Пойду, взгляну, не понесло ли на задремавших часовых чертей, разогнанных петухами, — произнес старшина с компромиссом в тоне между веселостью и строгостью, быстро повернулся в направлении просеки и начал энергично втыкать в сумрак своими длинными ногами и руками.
Самохин, взбудораженный беспокойными сновидениями, проснулся. Спать больше не мог. В голове не переставали ворочаться впечатления выезда по тревоге. Ему казалось, что танк с такой громоздкой компановкой не боеготов. Молодого танкиста удивляло то, что на занятиях командиры требовали в интересах обеспечения высокой степени боеготовности строго соблюдать уставные положения, а во время последней тревоги допускались послабления, начиная с того, что нарушались нормы времени, отпускаемые на выезд танков в район сосредоточения. «Теория — сама по себе, а практика — сама по себе»,- раздумывал курсант, выходя из палатки. Вдали замаячила тень Трояна. Усталый вид дневального говорил о том, что ему, и думать было лень. Онемелое тело вдруг встрепенулось — за спиной раздавались чьи-то торопливые шаги.
— Что кидаетесь, как заяц? Не ждали меня с этой стороны. Забыли, что проверяю посты… Только — что видел вашего земляка — часового Бабака. Под вашим поэтическим влиянием вот какое стихоплетство произвольно вышло у меня о нем:
Всех пугает у дороги…
Что за чучело стоит?
Уши врозь, дугою ноги,
И, как будто, стоя спит.
— Что скажете?
— Ничего.
Неопределенная оценка сразу вызвала у «поэта” реакцию:
— Почему ваши люди не спят?
— Мне сдается, все отдыхают.
— Я те дам… Посмотрите лучше… Возле бачка с водою, кто крутится?
— А… Это — Самохин, мой сменщик.
— Хорошо, что он поднялся. Товарищ Самохин, — ко мне! — приказал Кирьяков и, по своему обыкновению, весело добавил: — Вам не спится?
— Захотелось полюбоваться звездным небом, вдохнуть свежего воздуху… — начал Самохин, но тут, же сообразил, что старшина не любит околичностей и пошел напрямик: — Правду сказать, меня беспокоит одна мысль… Разрешите высказать?
— Валяйте, я те дам… Небось, критика…
— Точно. Считаю, что мы выехали в поле, как цыгане на базар… Меня беспокоит наш танк. Внутри перегружен и снаружи напичкан всяким барахлом, начиная от брезентов, шинелей, и кончая какими-то досками, ящиками, банками… В движении многое сползало на жалюзи, путалось под ногами… Командир на занятиях требовал, чтоб боевая машина была свободна от всего лишнего…
— Замечание справедливо. Правда, вы всего не знаете… Я только, что из парка. Шел обратно и ломал голову над этой закавыкой. Потерпим до утра, если ничего не помешает. Сразу, с подъема направьте курсантов к машинам. А пока пойдемте к пирамидам с оружием.
— Есть, товарищ старшина! — воспрянул духом Самохин, довольный тем, что Кирьяков разделил его мнение. «Баченко за подобное умничанье отругал бы», — подумал он.
Кирьяков и Самохин подняли за скобы ящик с противогазами и перенесли в сторону от пирамиды, освободив круговой доступ к ней.
— Так будет сподручнее, — говорил старшина. — Курсанты смогут с любой стороны разбирать оружие.
— Завтра, вернее уже сегодня – воскресение. Неужели после такой трудной субботы кому-то придет в голову сыграть тревогу? — осторожно зондировал Самохин, стремясь выведать у старшины то, что можно ждать в самый ответственный период дневальства.
— Воскресенье — день веселья… — начал нараспев Кирьяков. — И почему бы кому-нибудь не нагрянуть на беспорядок в лесу и не повеселиться, а заодно напомнить, что отбоя тревоге не было… Кстати, дневальные, вы, хорошо, знаете, где спят экипажи боевых машин?
— Так точно, товарищ старшина! – и Троян показывал: — справа, в палатке — экипаж лейтенанта Ярового, рядом — помощника командира взвода сержанта Селенина, далее…
— На левом фланге, кто отдыхает?
— Неполноценный экипаж курсанта Гридина, — перехватил Самохин.
— Почему? — встревожился Кирьяков. — Что с ним случилось?
— Пока ничего… Но из состава экипажа башенный стрелок Самохин стоит в наряде… — курсант невнятно сводил на нет свой пыл.
— «Впредь надо осторожнее соглашаться с критикой подчиненных”, — решил про себя Кирьяков, а вслух — шутливо:
— Как я понял, вы продолжаете свои критические высказывания… Ничего, эту неприятность переживем с вами… Хотя, вряд ли можно назвать неприятностью то удовольствие, которое вы испытали вчера во время построения, бросив камушек в огород «безлошадных». Верно, Троян? — закончил старшина так, будто рассчитывал во втором курсанте обрести союзника.
— Да; в жизни бывает хуже.
— Что вы имеете в виду?
Старшинский тон прозрачно намекал, что мысль Трояна разгадана.
И боец не стал запираться:
— Хотя бы то, что некоторые курсанты, не вошедшие в состав экипажей боевых машин, вчера, во время выезда в поле, высунув языки на плечо, изображали пеши, по-танковому всамделишние танки, а на ночь, без пересадки, заступили в наряд… — сам себя, слушая, Троян под конец смягчил остроту: — Но под влиянием тихой, очаровательной ночи, свежего лесного воздуха, настроение у «безлошадных” отличное.
«Святая простота — и ты подумал, что если я вольничаю, то и тебе можно… Да, нельзя на службе играть в панибратство. Где же найти грань между сугубо служебными отношениями и личными, душевными?” — озадачился Кирьяков, но вслух отшутился:
— Вот видите, товарищ Самохин, вы не заметили, как двух зайцев убили: днем отвели душу на танке, а ночью вкушаете целебный лесной воздухец.
Все трое рассмеялись. На лице Кирьякова выражение беззаботной веселости постепенно стала вытеснять ироническая строгая улыбка. Старшина незаметно для самого себя, по-своему перешагнул невидимую грань и очутился на служебном пьедестале, хотя лицо продолжало отражать сердечную непринужденность.
— Шутки в сторону, друзья, — Кирьяков уставился глазами в Самохина. — Вам предстоит дневалить в самое трудное время. Как никогда держите ухо востро и смотрите в оба. Народ спит без задних ног… — он зевнул. — Видите, и меня потянуло к матрацу, будто вернулся из забоя…
— Разрешите пожелать вам, товарищ старшина, спокойной ночи… вежливо попытался Самохин быстрее спровадить Кирьякова спать, чтоб — тот не придумал каких-то новых работ.
— Нет, не разрешаю. Обмен любезностями здесь не пройдет. Обстановка не позволяет мне ответить взаимностью — пожелать вам спокойного дневальства. Сантименты отложим на будущее. Предутренний сон — самый, сладкий, он может обольстить и дневального. Верно? — сверлил взгляд в упор курсанта, будто дополняя: «Докажи, брат, что ты вовсе не чепеносец».
У Самохина, в свою очередь, мелькнула догадка: «Все тот проклятый штык имеет ввиду”. Ответил же стандартно и бойко:
— Так точно! Все будет в порядке!
— Конец ночи подневалите вместе. Веселее будет. Вы, товарищ Троян, сменитесь в 4.00.На свое место разбудите Белобородова. Вам, товарищ Самохин: подъем — на час позже обычного, по выходному. Меня толкнете в бок на всякий случай без четверти шесть. Спортсменов поднимете в 6.00. Проследите, чтоб они позавтракали в первую очередь и своевременно убыли во Владимир- Волынский на соревнование. Все ясно?
— Так точно, товарищ старшина! — выпалили оба дневальные.
Кирьянов потянулся, передернул острыми лопатками, взглянул на небо, будто разыскивая так облако и еще раз довольно подчеркнуто предупредил:
— Сегодня месяц ущербный… Не так уж и на земле все ясно, видно «хоч голки збирай…» Учтите рядом Западный Буг, а за ним — коварный фашист. Чем черт не шутит…
С этими словами старшина, превозмогая зевоту, в развалку зашагал к палатке. С мелодичным напевом «Но сурово брови мы насупим…» скрылся за брезентовым пологом.
Долго было слышно, как он ворочался на матраце, кряхтел, чиркал спичками. Наконец, когда небо стало синеть, старшина ровно засопел. С отходом Кирьякова ко сну, Трояна постепенно охватывало таков ощущение, будто тот унес с собой в палатку неизрасходованные за ночь остатки бодрствования. Этим воспользовался предательский сон, который начал исподтишка распространять свое дремотно-томительное влияние и на должностное лицо — дневального, — мало ему было всего прочего живого в окружности. Усыпляющий гипноз сна казался неотразимым.
Трояну не раз приходилось за время службы стоять на различных постах, с глазу на глаз с коварным сном. Но, ни разу не поддавался его соблазнительным чарам. Правда, никогда ранее не хотелось так сильно спать, как в описываемые предутренние минуты. Веки, как свинцовые, сами падали к низу, хоть спичками подпирай. При этом, сознание мгновенно начинало заволакиваться приятной дымкой блаженного покоя. Боец встряхивал себя, массировал щеки, протирал глаза, но снотворная, туманная пелена не отступала. Часы точно остановились. Большой стрелке предстояло проползти больше половины циферблата, прежде чем дневальному должно было выйти время смениться с поста и отдать себя полностью во власть сна.
Мучимый тяжелой дремотой, курсант, не бездействовал. Подошел к бачку с питьевой водой, снял пилотку, расстегнул воротник гимнастерки, открыл кран, подставил голову, шею под холодную струю жидкости. Тело съеживалось, будто обдаваемое потоком льдинок. Придерживая одной рукой оружие, противогаз, боец второй энергично обмывал лицо, растирал виски, кожу, волосы. Освежающая влага вызывала бодрую дрожь.
Проделав эту насильственную процедуру, курсант, вздрагивая от легкого озноба, направился на поляну, где, ему казалось, не так безраздельно господствовала дремотная истома.
Кругом стала резче ощущаться предрассветная прохлада. Хмурые деревья нет-нет, да и начинали шевелить листвой. Сонный воздух, как бы вздыхая, просыпался.
Обнаруживались изменения и на небе. Воз опустился, погрузив свое горбатое дышло в темный массив дальнего леса. Крупные звезды продолжали гореть переливчатым блеском, а мелкие незаметно исчезали. Небо густо посинело. Но не надолго. Скоро оно начало постепенно бледнеть, как бы все выше поднимаясь над землею.
Троян стоял на посту, как зачарованный. Продолжая борьбу со сном, он испытывал счастье оттого, что наблюдал такое, невыразимое никакими словами, никаким набором красок, обаяние изменяющейся природы, предвещавшей рождение летнего дня. Ранее он ничего подобного не наблюдал.
С востока распространялась заря. Ночной мрак сменялся полусветом. Тени уползали в кусты, но не тускнели, а чернели, словно собираясь из-за укрытий дать бой.
Дремотное безмолвие стали нарушать робкие птичьи голоса. Где-то вдали репетировал свое первое несложное колено соловей. Во ржи ударил перепел. Со стороны молочно-белого тумана донесся испуганно-тревожный крик полусонной утки — будто на нее наступил кто-то сапожищем.
Подошел Самохин. Стал жаловаться на плохое настроение, на то, что не выспался. Троян, слушая товарища, не отрывал глаз от ржи, которая светилась сплошным массивом на краю леса. Внимание дневального привлекло то, что вдоль темной тропинки, рассекавшей хлебное поле, как-то загадочно — тревожно заколебались колосья.
— Внимание! Кто-то крадется, — шепнул он, многозначительно приложив палец к губам.
Курсанты на цыпочках подошли к кусту орешника, из-за которого стали наблюдать за подозрительным шевелением. Самохин щелкнул затвором оружия. За кустами послышался успокоительный голос часового:
— Ложная тревога, хлопцы. Я тоже было, чуть не шарахнул по «шпиону”, да вовремя спохватился. Это лиса. Сначала нюхала воздух возле нашей кухни, а теперь, посмотрите, — стежкой направилась в село.
В том направлении, где в хлебах бесследно терялась полевая тропа, бодро запел чистым молодецким голоском петух.
— Ну, и отлично… Так бы и обходились без тревоги, — вздохнул Троян.- Мой тезка в своем хозяйстве исправно несет службу — зарю встречает.
— Самохин недовольно покряхтел, почесал затылок:
Значит, говоришь, третьи петухи, по сельскому заведению, зарю встречают?
Троян не понял, затевал ли товарищ беседу, лишь бы убить время или его интересовало продолжение занимательного разговора о ночных петушиных соло, прерванного старшиной.
— Да, а что?
— А вторые всех чертей прогнали? — Самохин пропустил мимо ушей ответ товарища.
— Давно. После полуночи вышло время их бесчинств.
— Ой, ли? Так могло быть только в старину, когда и среди чертей ходило понятие о рыцарской чести. Теперь иное дело. Всякие лешие приспосабливаются, и в мутном утреннем тумане нередко норовят наброситься на беспечную жертву. Вон, и лиса изменила свою тактику, — с зарей направилась на свой кровавый промысел.
— В таком случае, третьи петухи выполняют еще одну важную задачу: напоминают о бдительности, предупреждают свое сонное семейство о приближении опасности. Стало быть, все в порядке, — заключил Троян убаюкивающим тоном, зевнул и двинулся на левый фланг.
У палатки Гридина он остановился. Постоял, расслабил нервы. Прислонился к шершавой коре старой сосны. Ее смолистый запах приятно туманил голову. Дневальный качнулся набок и прильнул к стволу.
Как ни старался держать в поле зрения стволы деревьев вдоль просеки, но те постепенно превращались в тени, потом совсем расплылись.
Гул раздался не столько в голове, сколько в ушах.
Он стукался левым виском о толстый шишкообразный нарост на стволе сосны. Боли не ощутил, а слух поразили — странно! — ритмически повторяемые удары, которые вовсе не прекращались, наоборот, усиливались. В полусонном сознании: не может быть, чтоб осторожное прикосновение к дереву вызвало такой громкий и продолжительный звуковой резонанс. Сомнение усилилось, когда почудилось, будто под ногами в земле что-то загудело. Дремотная звуковая фантазия расширялась, дополнялась зрительным представлением — сквозь закрытые веки мерещилось западнее лагеря роща, которая изнутри озарилась огнем. Вслед явственно повторилось ранее слышанное подземное, монотонное гудение. Под сосной вновь отозвались прежние, странные толчки, как удары отдаленного землетрясения. Через мгновение они повторились где-то совсем близко. В соседнем лесу прокатился громоподобный рокот. Раскатистые удары зачастили и, усиленные нескончаемым эхом, переросли в сплошной гул.
Троян переживал состояние человека, который неудержимо проваливался в бездну. Обеими руками судорожно схватился за ствол сосны, повернул голову в сторону загадочного шума, открыл глаза и увидел перед собою искаженное страхом лицо Самохина.
— Да отпусти ты сосну, устоишь, не так уж качает, чтоб упасть, — раздраженно кричал второй дневальный.
Самохину показалось, что напарник совсем растерялся. О том, что у самого голова шла кругом, не хотелось даже в уме признаться. Беспомощный вид друга толкнул Самохина на привычный путь критиканства. Однако из памяти улетучились колкие словечки и с языка произвольно сорвалось:
— Ну, Петро, почему молчишь? Что делать?.. Что происходит?..
— Боевая тревога!.. — как бы в ответ донесся чей-то голос из глубины леса, как из необъятной дали.
В голове Трояна не было ясности о происходящем, но два знакомых слова, как бы минуя сознание, сами дали команду языку, ногам. Он встряхнулся, окончательно вырвался из кратковременных объятий Морфея, и шагнул к палатке. На ходу смог невнятно повторить второе из услышанных слов:
— Тревога…
Потом сознание подсказало усилить сигнал наступающей опасности восстановлением на свое место решительного эпитета:
— Боевая…
Эти слова должны были немедленно поднять людей. Они сами просились стать рядом:
Боевая тревога! – наконец вздрогнул Троян от небывало громкого и бойкого своего голоса. Это уже означало призыв, мобилизацию всех бойцов к смелым, решительным действиям.
Поднимать людей? — начал было недоуменный Самохин, и тут же поняв нелепость вопроса, закончил протяжно: — Подъ-е-оо-м!!
— Правильно… А с чего же другого начинается исполнение сигнала о прекращении сна и призыве к оружию? Я махну на левый фланг, к экипажу Гридина, а ты подними лейтенанта и старшину.
Через минуту Троян уже дергал за ногу своего земляка. Тот с полусонным бормотанием дал сдачи и еще крепче обхватил руками матрац. Троян повторял сигнал опасности, вспомнил требование инструкции о том, что механик-водитель должен быть отправлен в первую очередь к своей боевой машине, выдернул подушку из-под головы Моторного.
Тем временем Гридин никак не мог расстаться со сном, под покровом которого пытался победоносно завершить борьбу с лопоухим фальцетом и его длинным напарником. Сознание слабо улавливало сигнал тревоги. Но в какое сравнение мог идти этот не раз слышанный призыв с необычным, действительно драматическим событием на сердечном фронте!
Он смутно слышал удары, похожие на выстрелы, но старался отогнать от себя неприятные посторонние звуки.
С мучительным исчезновением картин сновидения ему не стало легче. Его тело продолжало оставаться в цепких руках сна. Внешние шумы мешали доспать самые сладкие минуты. Приходилось отмахиваться от всяких раздражителей. Все его существо стремилось еще крепче прижаться к матрацу, который был дороже всего на свете.
В полусонном сознании боролись два голоса: один — сухой, казенный, — требовал подчиниться команде и немедленно подняться, а другой — вялый, сладенький — мямлил: «Полежи немножко может быть, как-нибудь, пронесет нелегкая стороной… Поспи еще капельку, добрый человече. Мгновениями верх брал первый, но под влиянием дремотной неги и он еле слышно, компромиссно советовал: полюбопытствуй, мол, взгляни краем глаза, из-за чего там расшумелись.
Мышцы рук, ног пытались шевельнуться. И опять новое: какая-то сила так плотно прижимала все члены к матрацу, что, казалось, и речи не могло быть изменить положение. Второй голос торжествовал: «То-то… А что я говорил? Еще до твоего рождения умные люди открыли, что сон милее отца-матери».
Не унимались и силы, враждебные сну. Одна из них решительно, грубо потянула тело спящего вниз, другая вырывала матрац в противоположном направлении. Отчаянная борьба за то, чтоб остаться на месте, казалась тщетной. Курсант висел над холодной пропастью с ежесекундным риском сорваться вниз. Руки беспомощно стискивали в своих объятиях подушку. Сквозь шум требовательно настаивал первый голос: «Опомнись, погибнешь в сонном царстве… Пойми: сейчас сон смерти брат свой»…
Над ухом Троян выходил из себя:
— Костя, черт! Будто за ночь кто-то подменил тебя… Очнись!..
Наконец, Гридин встал на ноги с прижатой к груди подушкой.
Медленно, озадаченно оглядывал свое ложе, себя, будто проверяя, реально ли все в окружении. Па лице ни одна черточка не выражала и признаков разрешения мучительного недоумения. Реальный мир представлялся в искаженном, фантастическом виде. Слова земляка не доходили. Взгляд остановился на скомканных постелях Самохина и Моторного. Его брови поднялись вверх. От резкого, дальнего взрыва дрогнул мускул на лице. Он тотчас же сгреб в охапку обмундирование, обувь и выскочил из палатки. Перед ним, как в тумане, на первом плане, обувался Моторный, дальше мелькали тени. Лес наполняли неясный гул, непонятный говор. Вдали, будто за пределами мира сего, что-то трещало, бухало. Казалось, Моторный так неистово притаптывал ногою о землю, что она покачивалась.
— Если каждый будет пытаться силою вбить свою лапищу в чужой сапог, то почва еще не так будет вздрагивать, — без тени иронии проговорил Гридин, размениваясь обувью с механиком — водителем. Со стороны можно было подумать, что он считал источником невообразимого шума в лесу неорганизованный подъем, проходивший по — выходному, без наблюдения должностных лиц.
Щадяще щурясь, Гридин удивлялся тому, что Моторный все делал невпопад: накинул на себя гимнастерку пуговицами и карманами назад, закачался, как пьяный. Когда с трудом оделся, не стал застегивать пуговицы, а схватил в руки сапоги, портянки, ремень и куда-то убежал.
Гридин с полузакрытыми веками стремился осмотреться и понять, что происходило в лагере. В течение какого-то короткого времени чувствовал себя, как в темном мешке, сквозь узкие дыры которого проникали яркие пучки света. После так тяжело прерванного сна не решался открыто взглянуть на свет, — под веками будто ощущался песок. С усилием заставил себя моргать, чтоб освободить глаза от чего-то сыпучего, щекотливо-режущего. «Да проморгайтесь же вы клятые»… — с сердцем проворчал он. Сердитое недовольство помогло — увидел в дымке раннего утра необычно тревожную беготню и услышал стрельбу. Наконец, сообразил, что следовало делать. Вмиг оделся и побежал получать оружие.
С поляны виднелись клубы дымов на окраине города и правее, в роще. Непривычно резкое: ”Трр-рах!.. Трра-трах!..» разразилось где-то в районе военного городка и почти одновременно в самом Владимире- Волынском. Страшное эхо прокатилось зелено-желтыми полями, молочно — сизыми лугами, пестрыми перелесками, отражаясь от темно-синих лесов, рощ многократными раскатами: «Ах! Ах-ах!..» В вышине прозрачный и чистый воздух, будто что-то прорывало, прорезало со свистом и шипением. Зеленая поляна с цветами маков, клевера, кашки, опушка леса казались оглушенными, вымершими — ни птица, ни кузнечик не подавали своих голосов. Все кругом замолкло, понурилось. Вблизи деревьев, кустов будто загустели тени. Время остановилось. Восход солнца задерживался… В привычно-радостную, ликующую утреннюю гармонию природы нагло ворвалось нечто чужое, враждебное, противоестественное.
Гридин недоумевающе проводил взглядом встречного Самохина, который сломя голову бежал вглубь палаточного лагеря. Его подстегивали, частые звенящие удары о пустую снарядную гильзу.
Навстречу широко и спокойно шагал старшина Кирьяков. Одет строго по форме, подтянут, со свежим лицом – будто и не спал. Превозмогая в уголках губ улыбку, казавшуюся искусственной, распоряжался:
— Товарищ Троян, проследите, чтоб все экипажи боевых машин немедленно убыли в парк. Самохин, — к пирамиде с оружием! Как только курсанты уйдут на свои места, обязанности дневального передайте Мотылькову, а сами — пулей в парк, в распоряжение своего командира танка.
Кирьяков энергичным жестом руки открыл полог палатки сержанта Селенина. Столкнулся с ним на выходе. Делая шаг в сторону, дал ему указания и пошел дальше. Перекинулся несколькими словами с лейтенантом Яровым и остановился на обочине дорожки. Наблюдая за тем, как бойцы сновали по лагерю в различных направлениях.
— «Все ли они знают, куда бегут?» — мысленно спросил он себя и тут же окликнул:
— Моторный, — ко мне!
Тот подбежал.
Старшина что-то выяснил у него и, будто лениво наблюдая за полетом птиц над головой, отрубил:
— Нечего описывать острые углы, повороты тропинок. Жмите в парк напрямую. Разрешаю отныне не соблюдать правил уличного движения.
Последнюю фразу перехватил бежавший следом Чапурин. Решив, что вряд ли она относилась к взбудораженным в лагере лесным птицам, он смело ринулся через переднюю линейку, чтоб кратчайшим путем добежать до парка боевых машин.
События развертывались с головокружительной быстротой.
Еще механик-водитель учебно-боевой машины БТ-7 Моторный, в поте лица бился над выяснением причины не включения стартера, башенный стрелок Самохин, привязывал к тыльной броне башни скатку брезента, — не видели, как прибежал с построения командир экипажа Гридин.
— Не загружать, а полностью разгрузить танк от всего лишнего. Получить боеприпасы и приготовиться к выходу на госграницу, — приказал он. Заостренные, строгие черты его лица как бы усиливали, подкрепляли недостаточно четкий командирский голос.
Самохин начал сбрасывать с брони на землю ящики, тюки:
— Какая предстоит задача?
— Уже не мирная, а боевая… Будем действовать… – дергал Гридин за веревки, которыми были привязаны к броне свертки какого-то имущества.
Нетвердый и неопределенный тон, нервные и порывистые движения, появление в руках второстепенного, а не главного — выдавало в Гридине человека, который имел весьма смутное представление об упомянутых действиях.
На лице Самохина застыли вопросы: «Какие действия? Военные или опять осточертелые маневрирования с условностями?..» Моторный беспомощно развел руками: мол, если не найду, куда делась искра, то не будет никаких действий.
Гридин отвернулся. На глаза попалась полуторка. Ее задний борт открыл дневальный Троян, показав экипажу Т-26 на ящики в кузове. Из-за шума не было слышно слов. Выражение лица означало: «Загружайтесь, а действовать, может, и не придется. Все прояснится, постепенно уляжется…»
«Петро не попал в состав танкового экипажа, и не растерялся», подумал Гридин и старался взять себя в руки. Залезай в башню, кинул башенному стрелку:
— Очистить танк снаружи и мигом внутрь.
Через минуты две-три башенный стрелок орудовал у пулемета.
— Вчера максимальный угол возвышения ствола ДТ был… начал он.
— Отставить прошедшее время, мы должны выполнить боевую задачу в настоящем… — поднял голову над башней Гридин и сдвинул с правого уха набок танкошлем. Его слух старался различить в сплошном шуме танковых и автомобильных моторов новый, незнакомый гул.
Механик-водитель тоже замер над топливоподкачивающим насосом.
— Мотор… — с металлическим звоном отпустил он пружину.
— Ты имеешь ввиду не свой, а чужой? — наклонил к нему голову Гридин.
— Да, и не один, а много.
— Не отвлекайся на многие, заводи один, наш…
— Воздух!.. — перебил чей-то визгливый голос.
Лес огласился многочисленными командами, призывами. Разобрать слова было трудно — серия мощных взрывов в районе города и в окрестностях подавляли все. В небо взметнулись огромные черные клубы дыма. Предупреждение о приближении воздушной опасности потонуло в общем шуме. Люди физически не могли реагировать на обилие неожиданных впечатлений. Прежде всего, каждый стремился не отвлекаться от своего дела. Возглас «Воздух!» не был каким-то новшеством для бойцов. Этот учебный сигнал не раз объявлялся на занятиях. У кое-кого выработалось пренебрежительное отношение к нему, так как он всегда отвлекал от чего-то более важного, заставлял искать укрытие, браться за противогаз.
В это время в парке появился лейтенант Яровой.
— Все военное имущество обратно погрузить на боевые машины,
приказывал он. — Через 15 минут выезд в свой район…
— В какой — свой? Разве мы попали в чужой? — недоумевал Гридин.
Но лейтенанта след простыл.
В лагере никто не знал, что произойдет через мгновение.
На опушке леса, возле обтянутой брезентом горы военного имущества стояла грузовая машина. В ее кузове ворочал тяжелые снарядные ящики коренастый сержант.
— Зарядил кто-то свой «Воздух!»… Не до тренировок… И без них не уложимся в отведенное время… — бурчал он, распрямляя спину. Снял с плеч противогаз и бросил его в руки курсанту вместе с недовольным окриком: — Дневальный Юрко, отставить «Разрешите доложить». Мне нужны не ваши доклады, а люди, грузчики. Поняли? Если с болтовней, по-щучьему велению, весь этот груз очутился на машинах… Вчерась вывозили с зимних целый день, а сегодня приказано перекантовать все в новый район за два часа…
— Разрешите… В пути к вам я лишился команды… С поста ВНОС приказали всем залечь… — пытался доложить дневальный.
— ВНОС не отвечает за перебазировку боеприпасов. Сорвем выполнение приказа командира, будет вам и в нос, и в хвост, и в гриву… Бегом назад. Поднять людей и ко мне. Я отвечаю…
Изворотливый дневальный ловко проскакивал между машинами, группами бойцов, кухнями, штабелями ящиков, добираясь к месту расположения курсантов. Лесные поляны, просеки сотрясал много сотенный топот сапог. Резко раздавались команды, распоряжения, слышались окрики фамилий, воинских званий, возгласы: «Посторонись!», «Освободи просеку!», «Убери свои манатки!», «Подсоби, браток…», «Убери ноги, не зевай!», «Это не мои проезжай!», «Дай четвертной… Не бидон, а ключ…». Взвизгивали стартеры. По-разному — бойко, с одышкой, с чиханием — набирали обороты двигатели. В воздухе распространялись запахи бензина, масла, выхлопных газов, хлеба, сухарей, мяса, селедки, прелого листа, свеже-вывороченной гусеницами лесной целины…
Под укрытием леса проснулась и бурлила жизнь большого и сложного войскового организма, который вставал на ноги вместе с просыпавшейся природой. Над массивом зеленой, влажной листвы поднимались сизые дымки, мало чем отличавшиеся от утреннего тумана. С воздуха трудно было определить место активной жизнедеятельности множества людей. В свою очередь, воины, занятые своими делами, не тратили время на рассматривание неба. Многократные повторения надоедливого слова «Воздух!» почти не изменило характера выполнения бойцами своих функциональных обязанностей.
— Какой там еще «воздух», когда и на земле дел невпроворот, — негодовал сержант, укладывая в кузове ящики. Увидев, на поляне курсантов во главе с изворотливым дневальным Юрко, он радостно воскликнул: — Вот это сила! Давай, давай, братва…
В тот же момент недалеко, вверху назойливо, все настойчивее заявляя о себе нудный, незнакомый гул. Там, где находился город, охнули неслыханно мощные, тяжелые взрывы. Курсанты из группы Юрко остановились и вопросительно переглядывались.
— Воздух!!! — кричал не своим голосом дежурный. — Всем в укрытия!
Совсем рядом — непонятно где, будто из-под земли — впервые ударили пушки, застрочили пулеметы. Земля ощутимо задрожала от взрывов, стрельбы. Горизонт на юго-западе померк от дыма.
Необычный, чужой рокот нарастал над вершинами сосен. Вдруг все увидели — отчетливо и ясно — огромные самолеты с черными крестами на крыльях и фюзеляжах. Диковинные чудовища низко плыли над лесом на восток. Из-за Буга приближались волны нового прерывистого заунывного гула.
Истинный смысл происходящего мало у кого укладывался в сознании. Не хотелось верить. Не сон ли это? Некоторые бойцы застыли в остолбенении.
— Что разинули рты? Ждете, чтоб капнуло сверху? — спрашивал ефрейтор, кладовщик из хозчасти, расталкивая группу курсантов, связкой котелков, которую нес впереди себя. Тоном человека, которому впервые представился случай отдавать распоряжения, он свысока добавил: — Всем приказано получить, согласно продовольственно-фуражных норм…
— Какой фураж? Очумел… Мы не лошади, — перебил насмешливый тенорок.
— Кто там пререкается? Мне интендант приказал… Согласно параграфу… — ефрейтор недоговорил — помешала кочка, о которую запнулся и грохнулся на землю, загремев котелками.
— Что за шум? Один ефрейтор разбушевался за Бугом, а другой здесь. Думают, что шум — это ум, — острил тот же тенор.
— Наш ефрейтор неопасен. Пошутит и перестанет — он безвластный. А вон, тот… Никак бомбит наш военный городок… Что деется?..
— Ничего страшного. Без паники! Пусть фашист выкусит — наши зимние пустые. Мы еще покажем тебе кузькину мать! — и сержант ткнул в небо своим кулачищем с таким усердием, что чуть не потерял равновесие, стоя на ящиках в кузове.
— Го-го-го!… Ха-ха-ха!.. Это здорово! Выходит, мы не зря вчера выехали на дачу… По брошенным, пустым паркам дубасит Гитлер. Сейчас выдохнется. Всыпят ему по первое число, — старался всех перекричать курсант Юрко. Однако жесты, лица у всех были тревожные.
— Будя языками трепать… И ты, ефрейтор, не прибавляй шуму. Катись отсюда колбасой со своими котелками. Ребята, грузи быстрее снаряды, требовал сержант с кузова.
Курсанты кинулись к штабелю с боеприпасами. Ефрейтор отошел на опушку леса, где на пне устроился с ведомостью в руках и начал выдавать бойцам котелки и продукты,- возле него появилась груженая полуторка.
Кто еще не получил сухой паек? Подходи… Стой, ты куда? Котелок можешь не брать, если он тебе не нужен, но распишись, — командовал ефрейтор.
На опушке леса столпилась группа людей. Многие в ожидании очереди возле ящиков и мешков с продовольствием рассматривали дальние дымы, обменивались впечатлениями, мыслями.
— Выходит ребята, война… Фашизм напал на нас… — говорил боец в каске, устанавливая на треноге зенитный пулемет.
«Война” и «фашизм» – синонимы. Красноармейцы часто слышали эти слова на занятиях, собраниях, в беседах. Но далеко не все представляли себе, что скрывалось за ними. Теперь они зазвучали по-новому, хотя с самого начала не вызывали чувства страха. Старое, давно известное слово «война» и сравнительно новое – «фашизм» скорее возбудили у большинства бойцов интригующее любопытство, повышенный интерес. Перспектива встречи с тем, что скрывалось за зловещими словами, продолжала рисоваться у многих туманной, далекой и маловероятной. Такова сила привычки.
Многие думали и говорили о второстепенном.
У Трояна вид городского пожара вызвал странное сожаление: «Посылку со своей гражданской одеждой так и не успел отправить домой. Как бы ни сгорел мой добротный «кондитерский» костюм…»
— Горит наш недостроенный парк… — переживал Чапурин.
Перебил какой-то наставительно-философский голос:
— Во-первых, еще вопрос — попал ли он в нашу стройку?
— Во-вторых, может быть, это вовсе и не фашист, а какой-нибудь польский пан провоцирует нас…
— В-третьих, голова твоя садовая, ты попал пальцем в небо, аж бовкнуло. И слепой видит фашистские знаки, — отрубил тенор.
— И мое недописанное письмо осталось в казарме, и фото — на почте… Не сгорит, ли?.. — сокрушался Фалеев.
— О, если бы только это сгорело… Многие мечты взлетают на воздух… — пророческим тоном ответил тенор.
— Загоревали… Все к лучшему. Через пару часов из-за Буга такое напишем!.. – патетически отозвался Юрко.
К группе подошел старшина Кирьяков. Предупредительно кашлянул, открыл, было, рот для отдачи какого-то распоряжения, но задержал свою ироническую улыбку на детски невинном лице маленького курсанта с белесым пушком на верхней губе там, где должны быть усы, на выцветшей гимнастерке с широким воротником. Старшина мысленно упрекнул себя за то, что так и дошли руки подогнать обмундирование всем бойцам по ростам. Он привычным жестом почесал затылок, сдвинул на лоб фуражку, вдохнул полную грудь воздуха, явно намереваясь дать команду.
На этот раз старшину отвлекла огненная строчка, которая отделилась от фашистского самолета и понеслась к земле. Вторая, третья… Под ногами курсантов заклубились фонтанчики пыли. Мощный окрик Кирьякова: «В укрытие!» слился с пулеметными очередями. Бойцы метнулись в лес, но не все. Двое упали, корчась на земле. Тот, что в белой, выцветшей гимнастерке, как-то неестественно подскочил, прогнулся в воздухе, упал плашмя и затих. Те же смертоносные трассы продолжали впиваться в стадо коров, выходивших на луг.
Гул самолетов постепенно стихал за лесом, удаляясь на восток.
Старшина и Гридин подбежали к сраженным. Один — Тимонин — тяжело ранен в ноги. Второй… Кирьяков приподнял безжизненное тело бойца в светлой гимнастерке и тут же опустил на влажную траву.
Скорбно-серьезное лицо старшины медленно повернулось к людям:
— Носилки…
Голова Юрка беспомощно откинулась набок, в какую-то невидимую в зелени ямку. Вытянутая рука со сжатым кулаком будто грозила воздушному врагу. Пятна крови выступили на плече, обагрили разорванный пулей просторный воротник с белым подворотничком. Алая, блестящая струйка стекала со лба на верхнюю губу, закрыла светлый пушок, которому так и не суждено было превратиться в усы.
Яркие живые капли зардели на кустике земляники. Одна, отсвечивая рубином, свисала с чуть порозовевшей ягодки, вторая наполнила до краев чашечку нежно-белого цветка. С острых свеже зеленых листиков свесились вниз кристально-чистые росинки, похожие на слезы. Под тяжестью сгустившихся багровых и прозрачно светлых капель, молодая, роскошная ветвь земляники поникла и как бы начала увядать.
За раскидистым дубом сверкнули огни зенитных орудий. Земля вздрогнула. С земляничного кустика упали на траву и кровавые и водяные капли. В сторону прыгнули замаскированные под цвет местной растительности кузнечик и пестрая бабочка, отряхивая с себя едва заметные брызги человеческой крови. На мгновение стихли прерывистый гул, грохот, металлический треск, но в ушах бойцов продолжали звенеть эти зловещие звуки.
Голова колонны вытягивалась на северо-запад.
Боевые машины маскировались под кронами придорожных деревьев. Их обгоняли с тяжелым скрипом грузовики, доверху забитые военным имуществом. Это обескуражило многих. Зловещие клубы дымов на юго-западе, кровь первых жертв взывали к возмездию, а стволы орудий почему-то направлялись в противоположную сторону.
Механик-водитель учебно-боевой БТ-7 принялся ни с того, ни с сего осматривать ходовую часть танка.
— Ваня, не отвлекайся на второстепенное, берись за главное. Никуда не делись за ночь твои траки и колеса. Проверь еще раз заводку двигателя, — Гридин осторожно снял с плеч ящик со снарядами и полез в башню.
Моторный уставился неподвижным взглядом в палец трака, будто старался вникнуть в хитроумное устройство самой сложной детали. И хотя он никогда с ходу не спешил выразить свои мысли, на этот раз, помогая языку обеими руками – без надобности стирая пыль с боковой брони – вдруг разразился тирадой:
— Воентехник только что, заводил… А тут, после вчерашнего, может, что-то держится на волоске. Металл не живой, не скажет, где у него болит… — до его слуха как бы доходили стоны и крики Тимонина; перед глазами мерещились предсмертные судороги Юрко. В тени, под катком, как бы мелькнуло окровавленное лицо. — Какой Юрко был подвижный, а мертв теперь… Тимонин лишился своей ходовой части и хоть бы на деле…
— Не причитай, а садись за рычаги, — оборвал изнутри танка Гридин.
Моторный неуклюже протиснулся в свой люк. Скрипнуло под ним сидение. Щелкнули выключатели. Послышалась какая-то возня с пыхтением. Бормотание — и все затихло. Вновь щелчки, скрежет металла, передвижение чего-то, удары. В итоге — разочарованный голос:
— Старая история — не проворачивается стартер…
— Бестолочь? Почему не потренировался при воентехнике?..
В это время мимо проходил лейтенант Яровой. Сразу в проеме люка показалось сухое, строгое лицо.
— Опять нет толку? А ну-ка, пропустите меня. Момент…
Лейтенант быстро занял место механика-водителя. Металлические удары, щелчки, скрежет сопровождались сердитым выговариванием:
— Базар развели… Тоже мне танкисты… Где третий?..
— Под сидением… — начал Моторный, но сообразив, что речь шла не о ключе, а члене экипажа, поправился: — Виноват, боеприпасы носит.
— Дайте мне ножик и провод.
Из танка полетели наружу брезентовые коврики, мешочки с гайками, болтами, тряпки. Вдогонку — поток раздражения:
— Плюшкин затесался… Захламлено… Много ненужного… Что вы подаете? Я просил не проволоку, а изолированный электрический провод. Где взять?.. В «ЗИП-е» — пора знать…
Механик-водитель волчком крутился. Через башенный люк залез к лейтенанту и принялся энергично наводить в машине порядок. И когда у приборного щитка что-то сверкнуло, Моторному показалось, что туда долетели искры из его глаз от удара об угол брони.
— Ч-черт… — лейтенант дал понять, что вмешательство увенчалось успехом.
Внутренний мрак рассеял электрический свет.
— Все. Теперь заводите сами. Только спокойнее. С вас так льет пот, что как бы от него не отсырели снаряды. Внимательно следите за работой мотора. Электрическая цепь пусть вас не беспокоит. Сделано намертво, — смягчился Яровой. Но на его потном лбу продолжала нервно пульсировать толстая, как веревка жила.
Через мгновение он очутился на корме танка. С раздражением выговаривал Самохину:
— Осторожно положите снаряд обратно в ящик. Как вы могли додуматься подавать командиру снаряды, едва не касаясь взрывателем брони? Случайно оступитесь — удар и взрыв… Делайте вот так… — и лейтенант продемонстрировал подачу снаряда Гридину взрывателем вверх.
Когда лейтенант Яровой скрылся среди машин, кто-то из соседей съязвил по адресу Самохина:
— Известное дело — чепеносец. Раньше холодным оружием забавлялся, сегодня Гитлера проспал на дневальстве и в довершение намеревался опробовать, много ли тепла выделит снаряд от удара взрывателем о броню.
Самохин не успел ответить — помешал Моторный небывалой расторопностью. Сначала натужно, будто нехотя, заскрежетал стартер. Неуверенные, прерывистые повизгивания как бы висели на волоске, грозили оборваться. После секундного отдыха что-то звонко завизжало, получив высокие обороты. Мотор завелся не сразу, несколько раз чихнул, словно от утренней свежести, потом громко прокашлялся и уверенно зарокотал. Машина ожила.
— Не сильно газуйте! Закончить погрузку. Трогаемся через десять минут, — услышали курсанты приказ вездесущего лейтенанта.
Яровой стоял возле поднятой вверх березовой жерди, обозначавшей открытый шлагбаум, торопил связистов быстрее убрать телефонный кабель с дороги и подал флажками знак: «Внимание!»
Водители приготовились. Моторный сбавил газ. Двигатель БТ-7 тихо работал на хорошо отрегулированных холостых оборотах.
— Давление масла… Уровень горючего… Зарядка аккумулятора… — громко докладывал механик-водитель командиру о показаниях приборов.
— Боеприпасы и продукты уложены. Брезент, шинели, вещмешки закреплены веревками к наружной броне. Все проверено и подготовлено к выезду, — добавил Самохин.
Поступила команда выводить БТ-7 в колонну.
Моторный уверенно схватился за рычаги управления. Несколько раз нажал газ и отпустил, чтоб еще раз убедиться в правильной регулировке двигателя. Изменение режимов его работы сопровождалось плавными усилениями или ослаблениями рокота.
— Мотор работает, как часы, — доложил механик-водитель,
— Если ты имеешь ввиду свою консервную банку, то восторгаться нечему, — критикнул Самохин.
Механику-водителю показалось, что лейтенант Яровой смотрел прямо в его люк, и в нем неожиданно шевельнулась несвойственная характеру змея хвастовства — ни с того, ни с сего захотелось показать, что тренировки не прошли даром. Включил первую передачу, осторожно тронул с места; слегка потянул на себя левый рычаг и тут же намерился переключиться на вторую скорость, чтоб бойко проскочить поляну и пристроиться в хвост колонны. Вышла непредвиденная задержка: коробка переключения передач неестественно громко заскрежетала — зубчатые колеса отчаянно завизжали, вторая скорость не включилась. Механик перегазовал, повторил попытку. Безуспешно. Третья проба — результат тот же. Пришлось вывести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Танк остановился поперек дороги, загородив выход из парка. Из люка медленно высунулась голова водителя. Пугливо озираясь, он ничего не видел своими потемневшими от злости и горя глазами. Однако чувствовал на себе колючие взгляды и слышал нетерпеливые выкрики:
— Освободи проезд, растяпа…
— Эй, сапожник, за рычагами…
— Тебе клячей управлять, а не танком…
— Еще далеко до дела, а у него гайка заслабела.
Танкошлем Моторного скрылся в машине. Послышались скрип, и звон каких-то пружин, скрежет железа. Известно: его язык подчинялся голове куда хуже, чем руки и ноги.
Перед люком вновь появилось взволнованное лицо лейтенанта; нервно задвигались скулы, глаза метали громы и молнии. Механик-водитель, убитый неудачей, не понимал в общем шуме, что говорил Яровой. До него дошло только грубое требование механика-инструктора освободить место.
— Живее! Что опустил уши, как лопух перед дождем, — торопил старослужащий.
Моторный сдвинулся в сторону, сжался в комок. В смотровую щель было видно, как лейтенант с сердцем повалил ногой столбы и жерди, которые обозначали границы парка, и стал выводить машины в объезд запруженных ворот.
Механик-инструктор копошился в танке минут десять, после чего вылез, посоветовался с воентехником и объявил экипажу:
— Ваша машина вышла из строя. Требуется замена коробки передач. Гридин зло скрипнул зубами. Самохин про себя с сердцем выругался. Моторный схватился своими замасленными руками за голову.
Подошла ремонтная летучка. Старший мастер после короткого осмотра сообщил:
— Эта учебно-боевая — известно, доходная… Прежде всего, просится в металлолом коробка передач, она давно барахлила… Ее мы сейчас заменим. За долговечность других узлов и деталей не ручаемся, в частности, правый ленивец от изношенности, заметно качается… Все немыслимо сменить, поэтому запчастей не спрашивайте. Гридин, зная повадки мастера, тут же попросил его и тот немедленно выдал нужные запчасти. Экипаж взялся активно помогать ремонтникам.
— Не горюйте, уедете, — успокаивал мастер. — А вот нам каково? Вчера прибуксировали сюда десять неисправных машин. Сегодня приказано в доску разбиться, а чтоб через час в лесу не осталось ни одного танка.
Колонны боевых и транспортных машин с войсками, боеприпасами, тылами ушли из лагеря раньше, чем отремонтированный БТ-7 начали опробовать.
Моторный только разогнул спину с намерением сообщить командиру о том, что готов выводить танк из парка, как прибежал весь мокрый, запыхавшийся лейтенант Яровой.
— Помогите экипажу сержанта Селенина натянуть гусеницу. Затем всем экипажем — вон к тому гробу… — лейтенант показал рукой танк без башни. — Он потребуется нам, как тягач, немедленно вдохнуть в него жизнь…
Торопливые, но, в общем, сдержанные слова лейтенанта не соответствовали той буре, которая бушевала в нем и отражалась в глазах, на лице.
Из-за перевернутого набок бронеавтомобиля БА-20 донеслась заключительная часть распоряжения лейтенанта:
— Работать на подхвате у специалистов до десятого пота. — Чтоб через час все машины были на ходу, иначе — труба.
Хотя объективно задание было невыполнимо — сложным для полевых условий, но каждый горел желанием отдать все силы, чтоб уложиться в срок.
Среди бойцов прошел слух, что если через час они не восстановят неисправные машины, то их ждет незавидная участь — по дорогам хлынут другие войска и тогда станет невозможным пробиться к своим.
На ремонтной площадке Гридин нос к носу встретился с Трояном, который выравнивал подкрылки над гусеницами КВ. И сразу прочел в его терпеливых и добрых васильковых глазах жгучий вопрос, на который никто в лесном лагере не смог бы ответить. И все-таки встречный вопрос Гридина прозвучал оптимистически:
— А что, Петро, возможно, твой путь через ремонтную бригаду в состав экипажа машины боевой — самый верный?
— С утра осваиваю третью специальность. После сдачи дневальства работал плотником — тесал заготовки из сосновых бревен для танковых колейных мостов. Потом стал грузчиком на складе вещимущества. Встретил там сержанта Баченко. Попросил его замолвить где-то словечко, чтоб перевели меня к танкистам. Его взгляд остановился на мне, будто на каком-то диковинном ископаемом. Бледные губы беззвучно шевельнулись, а лицо, цветом и структурой напоминало заплесневелый голландский сыр на срезе. Оно-то и договорило остальное… Кстати, когда сержант с удивлением отвернулся от меня и ушел, мне почудилось, что от него остался запах плесени сыра… — И, понизив голос, Троян делился:
— Машины автороты сумели сделать только одну ходку в новый район сосредоточения наших танков. Шоферы рассказывают, что назад порожняком еле добрались. Дороги забиты войсками. Фашист бомбит. Среди танкистов есть жертвы. То, что осталось в лесу, поручено охранять нам, безлошадным. Как ты думаешь, что это значит?
Все боеспособные танки дивизии ушли на северо-восток, в противоположную сторону от места стрельбы. Видимо, так надо …
— В таком случае, следует быстрее ремонтировать — авось зацеплюсь на одном из восстановленных танков, — повеселел Троян. Если сильно захочешь, то непременно станешь танкистом.
Прошел час, второй… Новые догадки вызвало появление в лагере старшего лейтенанта-пехотинца. К нему подбежал лейтенант Яровой, как к старшему. Тот фамильярным жестом прервал уставной рапорт. После рукопожатия, взял лейтенанта под локоть и торопливо о чем-то заговорил. Лицо Ярового то багровело, то бледнело. Губы сжались, а глаза сузились и стали похожими на танковые смотровые щели — триплексы. Они метали искрами злости, гнева. Затем оба отошли в сторону и стали рассматривать топографическую карту. Через минуту-другую торопливо зашагали к восстанавливаемым машинам.
— Это четвертая… — указал лейтенант рукой на БТ-7,и посмотрел на Гридина осмысленным взглядом: — Все ремонты закруглить. Через 20 минут — выезд, — и повернув лицо к старшему лейтенанту, взглядом как бы спрашивал подтверждения сказанному. Тот энергично закивал головой:
— Да, да… Ни минуты лишней. Что еще можно сделать, чтоб сдвинуть с места КВ?..
Продолжение разговора курсанты не расслышали — командиры скрылись за ремлетучкой.
Экипаж БТ-7 вернулся к своей машине и устранял мелкие неисправности. Прошло 20 минут, еще 20, а команды на выступление не было.
Становилось жарко. Гридин разогнул спину. На небо выкатилось большое светоносное солнце. Оно подавляло своей яркостью темно-лиловую тучу, которая растянулась на западе, вдоль задымленных вершин леса. Дневное светило, надвигаясь с востока, властно расчищало себе путь. Под теплыми лучами сизые пласты тумана плотно прижимались к луговым низинам и постепенно исчезали. Свежие, блестящие листья деревьев, зеленая, влажная трава, умытые росою полевые цветы благоухали нежными ароматами. На все это временами накатывали горячие волны с запахами порохового дыма, отработанных газов, едкой дорожной пылью. На фоне чистой и светлой небесной голубизны взрывались и постепенно таяли черно-белые дымные клубки. На восток плыли, волна за волной тени фашистских драконов, как бы стараясь затмить ясное солнце.
Земля кругом гудела и вздрагивала.
Убирая инструменты, курсанты впервые после подъема выпрямили плечи, перевели дыхание. И странно: вместо чувства облегчения они через мгновение томительно ждали новой деятельности. Каждый рвался туда, где все должно разрешиться.
Новые события не заставили себя долго ждать.
Все машины взревели моторами, вытягиваясь в колонну.
Экипажу Гридина приказано двигаться в походном охранении, с задачей разведывать местность, не допустить внезапного проникновения разведки противника к охраняемой колонне. При встрече с врагом обеспечить ее развертывание и вступление в бой.
Направление движения – прямо противоположное тому, по которому ушли из лесу все танки. Новая загадка. Курсантов охватили противоречивые переживания. То, что их направляли в ту сторону, где гремел бой, — хорошо; кто из них не мечтал во сне и наяву о героическом подвиге? И в то же время тянуло к своим. Хотелось участвовать в бою вместе с ветеранами — танкистами, в руках которых были не устаревшие учебно-боевые машины, а только вчера снятые с консервации танки, в том числе Т-34 и КВ. Отрыв от своей боевой семьи, мучительные ожидания, изменения сроков выхода — все это нервировало людей.
Волнение немного улеглось, когда к колонне пристроились две красавицы — тридцатьчетверки и грозный КВ, а на двух автомашинах заулыбались радостные лица товарищей из сержантской школы. С переднего грузовика приветственно махал пилоткой Троян, из кабины задорно-интригующе прищуривал левый глаз и загадочно ухмылялся старшина Кирьяков. В голову колонны пробежали озабоченные лейтенант Яровой и политрук Зорин.
— Не унывайте, хлопцы,- кричал Троян. Здесь кругом наши.
— Не нравиться мне этот вертлявый старший лейтенант -пехотинец, — заметил Самохин.- Он больше всех нервничает и будто командует нашим лейтенантом Яровым. Не отстает от него, как тень.
— И я замечаю, что старший лейтенант прибирает нас к рукам. Не взял ли он нас внаймы? Похоже на то, что пехотинец начинает крутить нами, как цыган солнцем… — медленно тянул Моторный.
— Вот так, так… Я те дам… — оглядывал старшина Кирьяков людей в машинах, будто смутно намекая на нечто совершенно непредвиденное.
Курсанты не знали — все это выяснилось позднее, — что выбыли из состава своей танковой дивизии, что приказом сверху переданы в соседнюю стрелковую часть, вместе с боевой техникой, которая из-за неисправности, не могла уйти своим ходом, с главными силами, что их боевые товарищи — кадровые танкисты, — по плану развертывания на случай войны, убыли в свой, заранее намеченный высшим командованием, район действий.
В смотровой щели мелькали узкие полоски земли, дымов, неба…
БТ-7 мчался на предельной скорости. В глазах танкистов рябило от мгновенной смены видов природы. Они не успевали заметить на местности ничего конкретного. Их несла на своих крыльях любимая песни:
Но глаза разведки видят точно,
И пошел командою взметен…
В воображении молниеносно сменялись захватывающие картины — одна фантастичнее другой. Сердца, переполненные трепетным волнением, нетерпеливо рвались навстречу новому, неизведанному. Неясность в поле наблюдения интриговала.
И вдруг — проблеск реального.
— Я узнаю местность, — радостно вырвалось у Моторного.
— Да, недавно мы здесь атаковали «противника” пеши, по-танковому, — подтвердил Гридин и сразу высказал поправку к маршруту: — Ваня, нечего нам описывать дугу. Жми напрямую. Маленький спуск, затем — пологий подъем, и в кустарнике – возле грушек-дичек – помнишь, где лейтенант Яровой расставлял мишени? — на возвышенности, остановимся. Рядом, справа, увидим проселок, по которому движутся машины во главе с лейтенантом Яровым. Удивим всех: выехали с опозданием, в круговую, а заявились впереди с опережением, — в его голосе звучали горделивые нотки.
— Здорово получится, — подхватил Самохин. Через минуту критикнул: — А можно ли нам уклоняться в разведке от заданного маршрута? Не забывайте, что напрямик ворона летает, да и та на кукан попадает. (Кукан – бечевка, на которую надевают под жабры и в рот пойманную рыбу. Попасть на кукан – быть посаженным в неволе, оказаться в плену).
— Что ты хочешь этим сказать? — насторожился Гридин.
— А то, чтоб нам не попасть на кукан.
— Не болтай… Ваня, на крутых поворотах сбавляй газ. Прибавишь в том месте, где потерял сапог и трак с пальцами. Узнаешь место своей «аварии»?..
— Как не узнать?.. Теперь не промахнусь…
Не предполагал тогда неопытный механик-водитель, что он свернул навстречу промаху и не одному.
Казалось, все шло нормально. Смотровые приборы позволяли танкистам узнавать конфигурации кустарников, знакомые груши-дички, группы деревьев, различные, приметные объекты, которые служили ориентирами на недавних тактических занятиях. В поле зрения прибавился на горизонте новый ориентир — клубы дыма и пыли, огненные вспышки на черном фоне. Сквозь гул мотора в танк прорывалась перекатная стрельба.
Гридин разрешил себе вольность — приоткрыл люк. Убедился, что зрительная связь с главными силами не нарушалась — длинный желтовато-серый хвост пыли над мелколесьем справа указывал на то, что лейтенант Яровой двигался параллельно.
Перед мысленным взором командира танка по-новому выглядели пути выдвижения к границе: дуга сильноизогнутого лука, по которой шел лейтенант Яровой, и тонкая прямая тетива — наметка для БТ-7. Наблюдением курсант установил, что танк находился на последней трети прямолинейного отрезка, а пыль от колонны главных сил достигала только середины дуги.
Зловещие вспышки и дымы на горизонте постепенно терялись за лесом. Гридин не опасался сбиться с пути — с выходом на возвышенность ожидалось возобновление видимости дальнейшего маршрута, лесного массива, который прикрывал район боя.
Моторный уверенно вел танк. Чувство удовлетворенности располагало к мечтательности. Водитель с пренебрежением рассматривал в щель бурый суглинок, который не так давно приходилось месить одеревенелыми ногами, терять в нем сапоги, а теперь даже на подъеме труднопроходимая почва легко подминалась гусеницами и почти не мешала держать высокую скорость движения. Он не заметил, как попал левой гусеницей в мягкую пашню.
— Возьми вправо, не трави посев! — крикнул командир экипажа.
— … и зайцев, — добавил Самохин, наблюдая, как серый клубок катился между кустами под уклон.
Механик-водитель встрепенулся не меньше напуганного косого, взял рычаг резко вправо и его охватил мальчишеский задор – показалось, что танк не отставал от зайца. Прибавил газу, впервые вообразив себя на каких-то диковинных гонках. Откуда-то понесло пылью, ухудшилась видимость. Танк почему-то начал переваливаться с бока на бок, заскрипел всем корпусом и стал резко терять скорость. Моторный с опозданием заметил, что машина сделалась непослушной и еле карабкалась по размытому дождями оврагу. В сознании всплыло предупреждение Ярового: «… вы еще не представляете, что значит одевать гусеницу в…», как обнаружилось, что танк барахтался в рыхлой, сыпучей почве. Водитель принялся дергать, рвать машину. Послышались удары, металлический скрежет. Качнуло резко вправо, и мотор заглох.
— Кажется, приехали… Что-то случилось с направляющим колесом, выходил из себя командир экипажа, свешиваясь влево из своего люка.
— Сломалось… Не зря оно ленивцем зовется, не захотело даже вхолостую прокручиваться вокруг оси, — стремился шуткой смягчить происшествие Самохин.
— И в такую траншею угодили, хуже не придумаешь. Чуть правее — равнина. Как я прошляпил? — рвал на себе волосы Моторный.
— Вернее, протравил, — с издевкой уточнил башенный стрелок. — Достать запаску, сменить… – с усилием преодолевая вдруг наступившую сухость во рту и тут — же ругнув кого-то, Гридин кинулся к переполненному запчастями ящику. Танкисты мигом вооружились ключами, молотками, приспособлениями и приступили к замене колеса. Через полчаса натяжение гусеничной цепи было закреплено новым ленивцем.
Танк поднялся на возвышенность. Справа светлела змейка проселка, со свежими отпечатками протекторов машин, гусениц танков. Над лесом, в накладку к черному дыму, висел в воздухе густой столб пыли.
— Наши недавно прошли, — с горечью определил командир танка, рассматривая полевую дорогу, которая поворачивала вправо, делала большой полукруг по окраине низкорослого березового молодняка и пряталась в темном лесном массиве. Слева простирались хлеба. За лесом грохотала стрельба.
Гридин задумался: кружить проселком — далеко, время дорого; Свернуть полем — жаль недозрелых хлебов; само собой напрашивалось — безо всяких поворотов двинуть целиной, покрытой молодым березняком. Экипаж, разделяя идею командира ничего не делать наполовину, единодушно поддержал его мнение.
БТ-7 рванулся с места. С легкостью птицы несся по гулкой травянистой целине. Справа и слева мелькали зеленые кустики. Молодая лесная поросль хлестала по кормовой броне, терялась под днищем и гусеницами. Приближался синий выступ леса, за которым прятался ориентир — облако дорожной пыли.
— Довольно ползти черепашьим шагом… Газуй вовсю… Надо сейчас же настигнуть своих, — поторапливал командир экипажа.
Внезапно впереди, как из-под земли, вырос частокол толстых пней — ни дать ни взять настоящие противотанковые надолбы.
— Левый поворот! — услыхал механик-водитель команду.
Но было уже поздно. Моторный не решился на большой скорости резко зажать рычаг, чтоб не угодить боком на деревянные препятствия. Только успел сбросить газ, начал плавно поворачивать, как машину потряс сильный удар, второй, третий… Все, что плохо закреплено к внутренней броне, загремело, словно орехи в ящике, а экипаж испытал крепость брони своими лбами. Танк подскочил и остановился с поднятыми вверх передней частью и пушкой с пулеметом. Двигатель замолчал. Снаружи прозвучал с замиранием металлический скрежет раскатывавшейся гусеницы.
Курсанты выскочили из машины. Понуро осматривали результаты происшествия. Моторный жмурил глаза от блеска на солнце звеньев гусеницы, расстелившейся за кормой в высокой траве.
— Трынды-рынды с маком борщ, — пробормотал он.
Самохин с разных точек зрения присматривался к пням под днищем. Гридин закашлялся, словно давясь, сделал глотательное движение – голос не подавался ему. Его невеселые думы растравляли близкие звуки орудийной и ружейно-пулеметной стрельбы. В общем шуме не удавалось уловить гула своих танков. Пылевой ориентир рассеивался.
Друзья приуныли. В их учебной практике не встречалось подобного сочетания неполадок. Всем живо представилось искаженное злостью выражение лица лейтенанта Ярового.
Гридин снял пилотку, вытер ею мокрый лоб и неистово впился пятерней в угловатый подбородок. Первоначальное чувство гордости за то, что ему доверили командовать экипажем, поколебалось. Растерялся. Кровь ударила в лицо. Оглянулся вокруг в надежде найти подсказку о ближайших шагах, но встретил вопросительные взгляды товарищей.
— Час от часу не легче… Сорвана гусеница, танк днищем сидит на двух столетних пнях… — начал он и неожиданно слова лейтенанта Ярового:
— Ваше решение, товарищ механик-водитель?
Моторный боднул головой воздух:
— Натянуть гусеничную цепь на катки, соединить разорванные траки, срубить пни и — вперед!
— А как ты думаешь, Самохин?
— Сбросить ко всем чертям вторую гусеницу, под опорные катки уложить бревна, включить колесный ход и с ветерком к своим!
После минутного молчания Моторный осторожно возразил:
— Заманчиво, но без гусениц опасно. Резко ухудшится проходимость машины. На колесах мы выиграем в скорости, зато в десять раз увеличится давление на грунт и в песке или болоте сядем…
— Да, рискованно добровольно лишиться гусениц, — начал приходить в себя командир танка. Нам неизвестно, какая ожидается задача. Если будем гнать нарушителей границы по шоссе, то, конечно, без гусениц удобнее — разовьем скорость более 70 километров в час. Но нельзя надеяться на авось — вдруг обстановка вынудит атаковать врага где-то на лугу или в пойме реки, что тогда? Засядем, как дважды два… — и его тенорок окреп: — Поэтому ясно, как день, что правильно поставил Колумбово яйцо Ваня — действуем по его варианту. Саша снимай с машины лопату, топор и освобождай от пня переднюю часть. Механик, давай кувалду, лом, трос, подтянем гусеничную цепь под катки, затем возьмемся за второй пень, срубим его и машина, опираясь на обе гусеницы, опустится на почву.
Работа закипела.
— Как далеко тебя, окаянную размахнуло… — говорил про себя Моторный, цепляя трос за отшлифованное до блеска звено гусеничной ленты.
Гридин выбил кувалдой из проушины трака сломанный палец, заменил новым. Вдвоем, при помощи лома-рычага и троса подтянули гусеничную цепь к опорным каткам. Блестящие металлические звенья, мокрые от росы, облепленные семенами и лепестками цветов, трав, бурьянов, послушно скользили поверх катков к ленивцу.
— Живее, Ваня, — торопил командир машины.
— Еще роса не успела высохнуть… — начал Моторный, очевидно не представляя, что хотел сказать.
Гридин дополнил:
— По-твоему, еще не поздно? Не самоуспокаивайся. Если ловить ворон, как до сих пор, то можно украинскую пословицу переделать на новый лад: пока солнечные лучи росу высушат, как бы она не успела очи выесть таким растяпам, как мы… Понял? Мы не хотим остаться в росистой траве при битой дороге…
— Договаривай: расстрелянными вражеским огнем с воздуха, — вставил Самохин.
— Ну, уж зачем так страшить себя? И так кругом хватает страхов, — кивнул головой на дым за лесом Моторный.
Из-за лесного массива нарастал гул. Показалась группа вражеских самолетов. Передние вытягивались в цепочку и кидались вниз. Там, где рассеялась полоса дорожной пыли, тяжело заохали взрывы.
— Неужели на Ярового пикируют? — округлил глаза Моторный и присел.
— Какое-то безобразие твориться… — возмущался Самохин. — Где наши истребители?
Друзья угрюмо молчали.
— Все может быть… — начал рассуждать Моторный.
— Возможно, наши специально не трогают фашистскую авиацию, хотят выяснить силы, места расположения, чтоб заманить ее в ловушку и одним махом всю накрыть… Или, возможно, мы стоим твердо на своем: не поддаемся на провокации… — и он запнулся, заметив, что вопреки привычке становится многословным.
— Чем гадать на кофейной гуще, взгляните на реальность: мы оказались в ловушке, на виду у воздушного врага, — прервал Гридин. — Фашист не испугается задранной вверх танковой пушки, клюнет разок и поминай, как звали. Ваня, замаскируй веткам танк, и давайте дружнее освобождаться от этих дурацких пней.
Гридин залез под лобовую броню и принялся с ожесточением вгрызаться ножовкой в вялую древесину. Моторный расчистил лопатой — грунт, протиснулся под самую средину танка, где в темноте и тесноте изловчился размахивать молотком и ударять по зубилу, откалывая от пня кусочки дерева. По-видимому, нередко задевал и свои пальцы, судя по причитаниям:
— Ах, ты, бестолковый молоток… Что ж, по своим бьешь? И ветра нет, а тебя сносит в сторону… По зубилу — гха!..Гха!..
Работали во всю силу. Спешили. Глаза заливал пот, во рту пересохло. Общими усилиями курсанты с разных сторон все же скололи неподатливый пень. Потом второй. Машина грузно опустилась на траву. Механик завел мотор, троганием вперед и назад натянул опорную и заднюю наклонную ветви левой гусеницы. Самохин и Гридин устранили при помощи натяжного устройства чрезмерное провисание верхней половины цепи. Уложили инструменты.
— Все готово. Выезжаю, — подал голос Моторный.
— Нет. Обожглись на горячем, приходится дуть на холодное, не поедем наобум Лазаря. Прежде всего, разведаем выезд из вырубки, — распорядился командир машины и направился вместе с башенным стрелком осматривать местность.
Опасения оправдались. Под ногами торчали мощные пни, замаскированные зеленью. Курсанты побежали на опушку рощи. Назад вернулись с длинным бревном на плечах, которое положили впереди машины, напротив гусеница. За эту работу принялись всем экипажем. Ноги подкашивались, пот ручьями катил, а они все таскали кругляки сосен и берез. Только после того, когда впереди танка выросло сооружение, похожее на колейный мост, механик-водитель сел за рычаги и на малом газу осторожно выехал со злосчастной вырубки. Экипаж занял свои места. Раздумывать некогда. Решено напрямую, — о кукане опять забыли – по ровному полю мчаться туда, где грохотало и дымило.
БТ-7 плюхнулся в золотые волны хлебного массива и поплыл, как челн в море. Качка не ощущалась. В полуоткрытые люки врывался встречный поток степного воздуха с запахами ржи, васильков и гари. Тяжело налитые колосья, казалось, больно ударялись о стальную грудь боевой машины, которая легко и безжалостно валила их, кромсала гусеницами, дробила и вминала в мягкую почву. Сзади тянулся, извиваясь, хвост черной пыли, маскируя потраву, и демаскируя движение танка.
Внезапно изо ржи, перед машиной выросла фигура бойца в каске, с винтовкой в руках, поднятой над головой. Этим жестом красноармеец преграждал дальнейший путь. Рядом виднелись штабеля ящиков, замаскированных сверху пучками недозрелой ржи, вырванной с корнем. Далее, над легкой зыбью хлебов торчали стволы пушек, как трубы кораблей на морском горизонте.
Моторный сбавил газ, слегка взял рычаги на себя. Гридин выглянул из люка: к танку приближался, ныряя в волнах ржи, командир с биноклем на груди. О чем он кричал, нельзя было расслышать, но искаженное гримасами лицо, раздраженные жесты свидетельствовали о том, что сосед встречал танкистов не с распростертыми объятиями.
Через минуту послышались обвинения:
— Куда черт несет? Повылазило? Порядочные танки прошли вон за селом, дорогой. А вас куда угораздило? Поворачивайте сейчас же назад. Чтоб духу вашего здесь не было!..
Из-за спины командира выглянул приземистый старшина. Поводил усами, как кот, и с ехидцей добавил:
— Ишь, нашлись храбрецы… С тылу атаковали свою артиллерию, возомнили, что фашистскую… А если бы мы вам влепили в борт бронебойный?.. Соображайте: танковыми следами на пашне раскрываете наши огневые позиции, накличете сюда бомбовозов…
Делать было нечего. Механик-водитель, нехотя взял на себя правый рычаг, намереваясь объехать артиллеристов стороной.
Как только танк начал выходить на свое прежнее направление, артиллеристы вновь ринулись в атаку. Их поведение напоминало людей, которые бежали сломя голову, чтоб любой ценой предотвратить какую-то трагедию. Когда в руках переднего сверкнул пистолет, Гридин тревожно осмотрелся кругом: не прорвались ли где-то поблизости фашисты.
Донесся гневный голос:
— Черные дьяволы, прекратите сматывать телефонную связь! Пристрелю, как шкодливых собак! Немедленно распутайте и снимите со своей шарманки телефонные провода!..
Гридин и Самохин выпрыгнули из машины. Поразились: вся ходовая часть была опутана кабелем.
Они вместе с артиллеристами с большим трудом снимали с траков, катков, провода, затянутые в тугие узлы. Приходилось разрубать их. Связист с потоком ругательств сматывал куски проводов на катушку.
— Бестолковые сопляки… — возмущался усатый старшина.
— Им лишь бы разъезжать, как на параде. А не понимают, что без связи мы ни аза, в глаза не увидим, ни вас, ни пехоту не сможем поддержать… Вот это намотайте себе на ус, а не провода… Кто сейчас ответит за то, что на огневых позициях замолчали наши телефонные аппараты?..
Когда танк выпутался из паутины кабеля, командир-артиллерист приказал:
— Командир танка, не вздумайте вновь куролесить вокруг артиллерийских позиций. Поверните строго назад и убирайтесь отсюда по своему старому следу. Ослушаетесь — пеняйте на себя, время — военное.
Пришлось вернуться к злополучной вырубке. От нее БТ-7 свернул вправо, выехал на полевую дорогу, которая кружным путем выводила к большой роще.
Командир экипажа угрюмо делал для себя открытия:
— Эта стежка, похожа на след, проделанный разморенным жарой ленивым быком… И все-таки, она короче любых неразведанных маршрутов.
Он лежал в состоянии, близком к шоковому.
Хотя глаза крепко зажмурены, кругом чудились кроваво-красные вспышки. Страшное нарастание душераздирающего воя сирен с рокотом и свистом рисовало в воображении разительную картину: черные, огнедышащие драконы с фашистскими крестами на крыльях и бомбами в приспущенных лапах стремительно пикировали на людей.
Громоподобный треск, грохот. Постепенное удаление гула моторов.
От бомбежки и обстрела в голове продолжался умопомрачительный шум. Понятие времени исчезло.
Сменил неудобную позу. Ладони сползли с ушных раковин. И удивительно: в лесу царило гробовое безмолвие. Обоняние поражали запахи тротила, пыли, сырой земли с примесью гнили.
Открыл глаза. Сквозь нагромождение ветвей, корневищ синело небо.
Его слух ловил живые голоса:
— Эй, кто уцелел? Отзовитесь…
— Если уж тебя, жердея, с решетом-физиономией не задело, то нас, карандашей, и подавно.
— Не слышу соловья-запевалу. Петро, где ты?
Ему хотелось откликнуться, но, не лежа, а стоя. Попытался подняться. Раздвинул руками над собой березовые ветви. Ухватился за сосновый сук, похожий на перекладину, взвелся, будто из шалаша, высунул наружу голову:
— Где мне быть, как не на посту дневального?
— Братцы, чудо! Троян, как ни в чем, ни бывало, выглядывает из своего секрета.
— А что ему сделается? Он с природой на «ты», часто разговаривает с ней, она и оберегает…
— Фалеев, а тебя, что затолкало под танк?
— Профессия. Я с металлом на «ты». Он меня и прикрыл… Петро, помочь тебе выбраться из-под деревьев?
— Нет. Здесь так затишно, что не охота выходить…
Он стремился и не мог преодолеть предательскую дрожь во всем теле.
Затрещали сучья. Лес огласился выкриками, отзывами, шутками, смехом. Весть о том, что среди людей не было жертв, кроме контуженного башенного стрелка из экипажа Селенина, ободрила бойцов. Правда, все с волнением ждали возвращения из разведки БТ-7 Гридина. Слышались недоумения, наивные толкования:
— Что оно такое было?..
— Известно — провокация,- на пушку Гитлер брал…
— Норовил напужать сиренами, грохотом…
— Для модели фашист волком выл.
— Будет врать — на самом лица нет. Заикаешься…
— А не влип наш боковой разведчик БТ-7? Может, Гридин махнул на Буг, а там попал на кукан?..
— Брось молоть вздор. Пошевеливайся, а то экипаж Гридина без нас захватит в плен провокаторов.
Лейтенант Яровой и старшина Кирьяков выводили боевые машины по узким лесным дорогам на противоположную опушку, где определялись исходные позиции для контратаки. Старший лейтенант — пехотинец и политрук Зорин собирали курсантов, стрелков, связистов и бойцов других специальностей. На ходу формировалось свободное стрелковое подразделение.
Фалеев подбежал к Трояну, шепнул что-то на ухо, взял под руку и увлек вслед за танками. В чаще встретил лейтенанта Ярового с просьбой:
— Товарищ лейтенант, не передавайте нас в пехоту. Мы учились на танкистов. Хотим участвовать в первом бою в составе танковых экипажей.
— Если нет мест в боевых машинах, разрешите нам поехать в бой сверху, на танковой броне, — добавил Троян. Лейтенант быстрым взглядом окинул курсантов. В их глазах было одно: жгучее желание наилучшим образом выполнить свой долг. И он нервно задвигал скулами. Сухое, костлявое лицо отражало внутреннюю борьбу. Было заметно молчаливое одобрение тяготения курсантов к танковому оружию, желание пойти им навстречу, но не было танков.
Яровой посоветовался с Зориным.
— Понимаю… Ваших питомцев охватил специфический танкистский подъем… Я помогу им только тем, что сам, как танкист, пойду в бой вместе с ними, в пешем строю, — ответил политрук.
— Это не самый лучший выход… Я еще поломаю голову, — обещал Яровой.
Выход подсказал старшина Кирьяков:
— Мне пришлось силою приказа отправить в санчасть контуженного башенного стрелка из экипажа Селенина. Взамен посадите в танк Фалеева. Трояна можно ориентировать в мой бронеавтомобиль БА-20 — есть надежда, что Чапурин закончит ремонт кардана и с минуты на минуту прикатит сюда.
Лейтенант Яровой согласился и объявил курсантам свое решение. Оба воспрянули духом. Фалеев немедленно забрался в Т-26 и начал осваиваться: проверял работу затворов пушки и пулемета, изучал назначение различных рукояток управления, маркировку боеприпасов, уточнял размещение смотровых приборов. Молодой танкист считал, что попал на седьмое небо. Троян чувствовал себя несколько ниже, но не унывал — занял место, согласно своему росту на левом фланге сводного подразделения и с нетерпением ждал вызова.
Между тем, старший лейтенант обеспечивал бойцов всем необходимым для боя. Троян заметил перемену в пехотном командире. Если в лесном лагере он казался неугомонным, нервно-суетливым, то по мере приближения к району боя, становился уравновешенным, менее подвижным и даже философски — рассудительным. Как выяснилось, пехотинец имел странную фамилию – Олимпиев.
Прежде всего, он выдал всем бойцам гранаты, патроны, танкистам поменял пистолеты на винтовки. Трояну досталась СВТ. Это несколько приподняло дух недоученного танкиста — все-таки в руках оказалась не какая-нибудь старая трехлинейка, а новая самозаряжающаяся винтовка с блестящим плоским, как кинжал, штыком. Только три человека получили такое необыкновенное оружие. Курсант внушал себе мысль, что с полуавтоматической винтовкой в руках, сверкавшей на солнце свежим маслом, вороненой сталью и зеркальным блеском ножевидного штыка, он имел грозный вид. Казалось, товарищи не могли скрыть своих любопытных, завистливых взглядов. Некоторые вспомнили, что весной на полигоне, Троян с первого захода выбил из СВТ 29 из 30 возможных.
Политрук Зорин разъяснял бойцам, что пока согласовывается со стрелковой частью порядок ввода в бой танков, вновь сформированному подразделению приказано выдвинуться вперед, за шоссе, занять выгодный рубеж, удерживать его с перспективой перехода в контратаку. Ударом пехоты, артиллерии и танков предстояло уничтожить противника, который прорвался через границу и вторгся на советскую территорию.
Бойцы построились в походную колонну. К ним присоединилось стрелковое отделение в стальных касках.
— Танкистам, привлеченным действовать по-пехотному, надо выдать каски, — потребовал Зорин.
Принятые меры не дали желаемых результатов. Удалось разыскать дополнительно только пять касок.
Сводное подразделение двинулось вперед, туда, где земля дрожала от стрельбы, взрывов, а небо помрачнело от пожаров и пыли. Возглавляли колонну старший лейтенант Олимпиев и политрук Зорин.
Троян так и не дождался вызова в экипаж БА-20. Пришлось дополнительно вооружиться не раз испытанным оружием — терпением, — и, как наставляла мать, принять свой жребий, и быть «не хуже людских детей». Сжался в комок, заставляя себя смириться с новым положением. Этому способствовали старшие начальники. Заметно подобрел и начинал нравиться Олимпиев. Особую симпатию вызывал к себе простой, приветливый Зорин. Политрук казался настолько нужным, желанным человеком, что без него было немыслимо представить себе ни вновь созданного подразделения, ни характера выполнения предстоящей боевой задачи.
И все же, в голове бойца роились различные противоречивые мысли. В сознании плохо укладывалось то, что приходилось идти в бой не танкистом, а простым пехотинцем. Как об этом написать в институт, товарищам, родителям? В предыдущих письмах он довольно прозрачно намекал на то, что приобретал героическую профессию: мол, весь пропах боевой техникой, руки даже в бане не отмывались от металлической пыли, масел, на пальцах мозоли от рычагов… А на деле? Выходит, учился, но не сумел всего постичь, чтоб стать танкистом. Подумают: кишка тонка. Засмеют. Взять хотя бы последнее письмо. В нем он советовал посмотреть кинофильмы: «Трактористы», «Танкисты», из которых становилось ясным, к какой миссии ему посчастливилось готовиться. Теперь рушилась мечта о лихой танковой атаке. В действительности, все оказалось довольно прозаичным: он плетется замыкающим в разношерстном строю с тяжелой винтовкой на плечах…
Одновременно в груди зарождалось и радостное, приподнятое чувство возбуждения, поэтического восторга. Произвольно возникала гордость за то, что ему выпало счастье быть в числе первых из тех, кто нанесет сокрушительный удар по наглому агрессору. Вырисовывалась своеобразная героическая романтика: обстановка потребовала и танкист в пешем строю пошел в бой. Хотелось быстрее доказать способность оправдать высокое доверие Родины. Скорее бы наступил решающий момент! И то, что встретилось впереди, не могло предвосхитить никакое воображение.
Бойцы обливались потом, рвались вперед. Трояну казалось, что он не приближался к таинственным и опасным задымленным кустам, а выбиваясь из сил, топтался на месте. Временами по спине пробегал вместе со струйкой пота и холодок страха. Неприятные ощущения заглушал ободряющий свист из-за своей спины снарядов. От этого вой, визг, шуршание невидимых пуль и осколков казались менее опасными.
— Взять вправо. Прижиматься к кустарнику. Шире шаг! — спокойно и внятно командовал старший лейтенант Олимпиев.
Как только направляющие успели выполнить команду, впереди, в 200 метрах взметнулись столбы пыли и дыма. Воздух рвануло с таким треском, словно кто-то изо всех сил разорвал очень прочный брезент. Запахло серой. Через несколько шагов слух поразило звучание самой высокой ноты, ушную раковину обдало воздухом так, будто рядом пролетела птица. Трояну приходили на ум такие сравнения, которые хотя бы немного сглаживали остроту впечатлений.
В груди шевелилась бойким ознобом непривычная смесь мальчишеской радости и невольного страха. Сердце билось учащенно. Мысли прыгали, перескакивали с понятий о долге, выдержке на внешние ошеломляющие впечатления, производимые артиллерийским и ружейно-пулеметным обстрелом.
В смрадных клубах взрывов витала возможность случайной смерти. А как же быть с подвигом? Что скажут друзья? Вера, узнав, что он погиб от шального осколка, не достигнув врага? Перенесет ли это трагическое известие мама? Где-то в уголке сознания шевельнулся новый вопрос: зачем давать волю всяким чувственным слабостям? Решил взять себя в руки. Что для этого нужно? Как ни старался стабилизировать свои мысли на чем-нибудь одном, наиболее важном в данную минуту, ничего не выходило. Мысли порхали с предмета на предмет, подобно птичке, закрытой в комнате вместе с шаловливыми мальчишками.
Время текло тягуче медленно и будто даже останавливалось. Не было видно конца ужасному пути. Колонна растянулась, петляя по обстреливаемой местности. Старший лейтенант поминутно требовал уклоняться то влево, то вправо, маскироваться в жидкой растительности.
Политрук неустанно отпускал шуточки, поговорки.
— Не тот казак, что за водой плывет, а тот, что против воды… — ловил Троян его слова, еле поспевая за деформированным строем.
Делая крутые зигзаги возле укрытий, он поцарапал себе руки и лицо о колючие ветки шиповника, боярышника, дикой грушки; то и дело спотыкался о кочки, камни, оступался в невидимые ямки, промоины. Закрадывалось опасение: не заблудились ли провожатые? Снаряды рвались кругом. Шуршание осколков, повизгивание пуль вызывали то страх, то сознание превосходства перед теми товарищами, которые находились далеко, в тылу. Со временем стали мучить опасения: не заманивает ли враг в мешок? Неспроста он не обнаруживает себя. Знают ли командиры, кто и откуда стреляет?
Навстречу стали попадаться раненые.
— Как там?.. поинтересовался кто-то из курсантов.
— Немножко жарковато. Дает прикурить… — пыхтел и отдувался коренастый пехотинец, стараясь меньше хромать на левую забинтованную ногу. Подмышкой левой руки — разорванный и окровавленный сапог, через правое плечо — винтовка. На широком лбу прилипла прядь волос, склеенных запекшейся кровью.
— Не его зацепило, а он боднул — вишь на голове солома, трава, — шутил дружок с забинтованной рукой.
— Чем зацепило? Дюже болит?..
— Ерунда, — храбрился раненый. — Своим ходом меняю дислокацию. Спешите в наши ячейки. Прогоните, а вечером встречу вас пляской.
В глаза бросилось несоответствие между неприглядным внешним видом раненых и их неунывающим настроением. Это подстегнуло Трояна.
Изнурительное движение скачками от укрытия к укрытию, под непрерывным огнем продолжалось. Одолевала смертельная усталость. Хоть бы присесть, Троян позавидовал двум красноармейцам, которые, развалясь, лежали в сторонке, под тенью куста.
— Ишь, нашли место дрыхнуть…
— Кой черт – убитые…
— Вот те и на-а…
Троян шарахнулся в сторону, словно увидел за кустами смерть. Он боялся взглянуть на мертвецов, чтоб не поколебать свое поэтическое представление о войне. Стал искать глазами вражеские трупы — хотелось убедиться, что не зря погибли наши. К сожалению, на траве, присыпанной комьями земли, валялись только две красноармейские пилотки, ремни, разорванные осколками противогазы и никаких следов противника. Это отбило желание интересоваться местностью. Через несколько десятков шагов с испугом отпрянул в сторону — нога наступила в траве на что-то мягкое. Украдкой скосил глаза и ужаснулся — из комка свежей земли торчала мертвая рука со сжатыми в кулак пальцами. Над головой ошалело пролетел каркающий ворон. «Дурное предзнаменование…» — думалось и ему показалось, что просторный ворот гимнастерки был тесен. Он расстегнул пуговицы.
После каждого взрыва он вздрагивал, будто от него отлетали остатки выдержки. Все больше переполняло чувство неудовлетворенности собою. Неужели сбываются давние подозрения о том, что в нем поселился трус? Вот так орел, лишенный крыльев и оперения. (Вспомнилось первое приветствие Кирьякова: «Здорово, орлы!».)
В самом деле, бой еще не начался, а боевой дух не иначе, как кончился. Голова шла кругом. Ноги то и дело стали заплетаться. Догоняя товарищей, падал, впопыхах поднимался, тяжело дышал. Бросало в жар и холод. Перед глазами показалось что-то красное, справа — подозрительно измятая трава. Хотел отскочить влево и нечаянно сбил с ног рослого рыжего пехотинца.
— Тю, черт… Мать… Какой шмель тебя укусил? — ругался тот. Троян не выносил сквернословий, тем более в свой адрес. Всегда умел дать сдержанную, умную отповедь матерщиннику, но тут безропотно принял на себя многоэтажный мат, как справедливый минимум наказания за свою трусость.
Никогда в жизни не терпел вида крови. Здесь же хоть глаза закрывай. «Какое несчастье, что я вырос непроходимой рохлей… Лучше не жить на свете такой размазней…» — сурово бичевал себя курсант. «Оказывается, только на войне узнается свой действительный удельный вес».
Все-таки, старался гнать от себя мысль о неминуемой смерти. На что же опереться? Жаль, что рядом нет Кости — носителя храбрости отца — котовца. Перед глазами встал образ матери. В жилах бодрее запульсировала кровь. Облик старой, измученной родительницы был примером неистощимого терпения, выдержки.
Что-то заставило осмотреться кругом, в результате чего возник вопрос: а разве новые боевые товарищи не достойны того, чтоб брать с них пример? В самом деле, справа шагал красный, маленький пехотинец, весь потный, грязный, с широким, скуластым лицом. Как проворно мельтешили его ноги! На ходу что-то завязывая ниже колена, улыбался:
— Пехотная гусеница размотался, шайтан, чуть не потерял…
Слева шел с приседанием рыжий здоровяк, вобрав голову в плечи.
— … Какой леший тебя сюда принес? А ну, брысь, говорю, шитая твоя рожа, вязаный нос!.. Нечего антимонии разводить…- слышался отрывок какого-то рассказа.
«Что за наваждение? — недоумевал Троян. — Не дурни остальные хлопцы, а у них постороннее на уме». И он забежал несколько вперед.
Поразился словам политрука Зорина:
— И вот, трусливый заяц, удрученный тем, что один на всем свете боится любого шороха, пошел к реке топиться. И вдруг — чудо: с тропинки лягушка прыг в воду. Косой остановился в остолбенении: «Значит, есть на свете живые существа, трусливее меня. Останусь жить», — решил серый. «Какие могут быть сказки в таком аду»? — дивился Троян, задумываясь над словами политрука. У него возникло желание не соблюдать ранжир, а шагать в числе направляющих. Стал внимательно приглядываться, прислушиваться. Все люди, как люди, перекидываются незначительными замечаниями. Многие спокойно и красноречиво молчат. Все напропалую рвутся к цели. На их лицах — ни тени подавленности, растерянности или страха. Учащенно дышат однокашники-курсанты — будто на стрельбище спешат к мишеням.
Троян стал внутренне подтягиваться. Начал смутно сознавать, что в его судьбе происходило что-то бесповоротное, решающее. От этого момента зависело то, чем все это кончится. События развивались в одном направлении неумолимо, неотвратимо. В сознании всплыла мысль о том, что никогда не представиться второго случая, переиграть свое неудачное боевое крещение. Дважды вступить в одну и ту же реку невозможно. Голова горела от мыслей, жары. Во рту сухо, губы потрескались, в горле жгло, мучила страшная жажда. Гимнастерка противно липла к телу. Впереди, на ремнях политрука, рыжего бойца поблескивали на солнце фляги, от одного вида которых горло еще больше пересохло. Попросить? Сумеет ли он выговорить слова? На зубах скрипел песок. Во рту мешал сухой, шершавый язык. Хоть плачь. Может ли теперь идти речь о воде? Никто из бойцов не пьет. Выходит, только у него возникла такая детская потребность. Идти за чей-то спиной было легче – она будто притягивала к себе, в то же время за его, Трояна, спиной страх в свою очередь притягивал к себе. Кто кого перетянет? Гридин упрекнул бы в отсутствии силы воли. Троян облизнул нижнюю губу, глотнул слюну пересохшим горлом, презирая себя: — Мысленное самобичевание не помогло — начал задыхаться, отставать.
Случайно заметил, что пехотинцы по-иному дышат — глубоко вдыхают через нос, и выдыхают ртом. Стал подражать. Хуже не делалось, наоборот, со временем почувствовал облегчение. Так увлекся своими экспериментами, что не заметил, как ткнулся головой в спину Олимпиева.
— Что танкист, решил таранить пехоту? — засмеялся командир.
Старший лейтенант остановил бойцов. Вместе с политруком осмотрел всех. Приказал с выходом на открытую поляну, где торчал остов сгоревшего вражеского танка, продолжать движение по-пластунски.
— Кто не имеет касок, снять с убитых, — предложил Зорин. «Ни в жизнь ничего не сниму с трупа»,- решил про себя Троян. Переползая поляну, среди крупных супесчаных глыб грунта, вывороченных авиабомбами, он нарочно уклонялся в сторону, как от убитых, так и от начальства, чтоб оно не заставило снять каску.
Артобстрел усиливался. Осколки превращали в пыль глыбы земли. Бойцы передвигались, как под маскировочной завесой. Старший лейтенант требовал ускорить движение.
Троян не успел опомниться, как оказался в кювете рядом с политруком. Их взгляды встретились. В светлых глазах Трояна мелькали тени страха. Политрук все понял. Посмотрел добродушно, участливо, а словам придал деловитость, строгость, правда, с оттенком юмора:
— Вначале мне показалось, что вас контузило — вы не откликались на мой голос. Вон, слева зеленеет каска. Подползите и снимите. У всех головы под броней, только ваша, танкистская, белеет в пилотке. Ничего не оставалось делать, как внять добрым словам.
Крадучись, подобрался к убитому. Брезгливо отворачиваясь, взял каску. Надеть на себя не мог — уже заранее чудилось прикосновение к голове леденящей душу холодной плоти мертвеца. К счастью, политрук, словно разгадал его переживания, отвернулся в сторону и заговорил с рыжим пехотинцем. Троян воспользовался этим и прополз кружным путем в более углубленную часть канавы. Замаскировался. Рядом шевельнулся замасленный комбинезон. Оказалось, знакомый курсант.
— Э, да у тебя в руках новая каска, — поднял голову товарищ.
— Да, но трошки величенька, не трафлялось моего размера… — невнятно лгал Троян.
Из-под воротника комбинезона сверкнул хитрый, прищуренный глаз:
— А у меня, наоборот, мала. Махнем, и обоим будет впору.
Поменялись. Надели.
— Ты, как теленок в ярме, — прыснул смехом комбинезон.
— Молчи, пугало на баштане.
— И то хорошо — фашистов буду пугать.
Приглядываясь, друг к другу, оба от души рассмеялись. Глаза выдали истинную причину обмена.
Подполз рыжий пехотинец. Тоже не удержался от хохота, рассматривая щуплые лица танкистов, утонувших в касках.
— Как засушенные грибы-подберезовики, — шутил он. Серьезно добавил: — Не смущайтесь, механики, зато ваши мыслительные аппараты теперь имеют стальную экранировку. Больше того — вы упрятали под колпаки свои шеи и большую часть спинного мозга. Отдохните. Скоро получим сигнал переползать шоссе, вон, в ту картошку, что зеленеет впереди.
Боец показал окопанные вдоль дороги приземистые орудия. Кругом гремела стрельба, а замаскированные в придорожных кустах пушки молчали. Перед ними чернели и еще дымились несколько покореженных вражеских танков и остовы автомашин.
— Железные, а видали бы, какими факелами горели, — с гордость за артиллеристов сообщал пехотинец. — Не пугайтесь выстрелов, у них цели — броневые объекты противника, который рвется по этому шоссе к Владимиру-Волынскому.
Троян безотчетно стал отползать в сторону, подальше от орудий. Очутился в глубокой свежей воронке. Решил отдохнуть. В голове мелькнуло воспоминание чьего-то совета: воронка на поле боя — самое безопасное место. Припал разгоряченным лицом к прохладной земле. Забылся. Через какое-то время почва под ним начала методически вздрагивать. Над головой что-то проносилось с резким свистом. Это насторожило. Мелкая дрожь почвы усиливалась на фоне нараставшего зловещего гула. Вибрирующий шум передавался всему телу, которое тоже начало произвольно дрожать.
Он уперся локтями в края воронки, поднял голову, осмотрелся и застыл в остолбенении: прямо на него, с тылу мчалось что-то похожее на танк. Справа, в пыли двигались две чужие, диковинной конструкции машины, облепленные солдатами в черных касках. За ними бежала масса озверелых врагов, строча впереди себя из автоматов.
Перед глазами вспорхнула линия фонтанчиков, пыль от которых ударила в лицо, попала в рот. Страх парализовал волю, оледенил сердце.
Троян в отчаянии схватился за голову и опустился на дно воронки.
— И люди наши мужества полны…
Старшина Кирьяков на ходу выстукивал пальцами по целлулоиду планшетки мелодию «Марш танкистов». Напевным голосом выделил только слова о мужестве наших людей.
Молодые танкисты услыхали приближение шагов и отрывок знакомой песни.
Они мигом выскочили из люков. Без команды построились впереди БТ-7.
— Вольно! Сам прошусь в рядовые, — лукаво моргнул левым глазом Кирьяков. На его лице сквозь наигранную начальническую степенность проступал какой-то мальчишеский задор. Он остановился и прежде всего, окинул взглядом гусеницы, колеса машины. Оказалось, веселая вежливость Кирьякова таила в себе что-то совершенно непредвиденное.
Гридин насторожился: «Очевидно, старина пришел снимать меня с машины. А я, простофиля, полагал, что лейтенант Яровой ограничился словесной проработкой за самовольное изменение маршрута и несвоевременное прибытие танка на исходные позиции».
Курсанты так хорошо изучили все нюансы в мелодиях, улыбках, жестах Кирьякова, что, как правило, расшифровывали их безошибочно.
Командир экипажа удачно разгадал существо, принесенной старшиной новости, допустив ошибку, однако в частности. Молодой, неопытный танкист не смог и отдаленно предположить об этой частности, которая как раз и оказалась самой существенной в конкретно сложившейся обстановке.
— Ну, три танкиста, теперь, после всех передряг, надеюсь, у вас не осталось никаких неясностей об особенностях действий на вашей старушке-бетушке, — подмигнул Кирьяков почему-то одному Моторному.
Механик-водитель потупился, смутился.
Друзьям показалось, что их товарищ в чем-то заодно со старшиной, и будто при всех не решается высказаться.
Старшина Кирьяков, взглянув на свои часы — цыбулю, пошел напрямик:
— Итак, время не терпит. Давайте, товарищ Моторный, поменяемся на часок должностям. Я сяду на ваше место, за рычаги танка, а вы подождите здесь, в лесу, мою бронемашину. Она голубушка, вот-вот тихо подкрадется, как кошечка, на новой резине, только что полученной со склада. Лады? Командование не возражает.
Моторный поднял вверх глаза. В них заиграл умоляюще-просительный блеск.
— Не с руки мне меняться с вами, товарищ старшина… — с трудом произносил слова механик-водитель, словно выжимал их из-под педали туго прокручивавшегося стартера. Встретив на лице Кирьякова выражение волевого нетерпения, он решительно наступил на куст чертополоха, оказавшегося под ногой, — будто с усилием нажал на педаль стартера: — Понятно, любая просьба старшего — приказ для подчиненного. — О себе подумал: «Значит, — в пехоту. Броневик — так, для отговорки. Не по Сеньке шапка, чего тут ерепениться”.
— Сумеете ли вы повести в бой БА-20?.. — своеобразно воодушевлял старшина растерявшегося механика-водителя.
— Да… — мотнул головой Моторный и начал с таким ожесточением попирать носком сапога чертополох, будто хотел начисто стереть его с лица земли. Эти жесты помогли ему подкрепить скупой, односложный ответ не только готовностью действовать на любой машине, но и выразить способ действия — решительность.
Гридину не терпелось:
— Мы не смеем просить вас оставить нас в машине… Но разрешите следовать за вами в бой пешком, в готовности помочь экипажу…
— Не торопитесь, Гридин. Вы остаетесь командиром танка и в атаке держите экзамен на зрелость. Справитесь?
— Получается необычная компоновка экипажа. Разве бывает механик-водитель старше командира?.. — и курсант испугался, что своими словами разладит дело. Тут же с юношеской самонадеянностью выпалил: — Так точно!
— То-то. Лейтенант Яровой того же мнения. Понимаю, что Моторному не хочется даже временно вылезти из БТ-7, но так надо. Решено в первой атаке иметь на каждом танке хотя бы по одному «старичку». Я выбрал себе ваш танк. Не смущайтесь. Стажируясь командиром, Гридин будет работать как бы наводчиком, а я буду вести танк и командовать. Сговоримся, я те дам…
Прежде чем сказанное дошло до сознания курсантов, в лесу прозвучала команда:
— Экипажи боевых машин, строиться!
В это время совсем близко послышались пулеметные очереди. Хорошо зачастили отбойные молотки, — обрадовался Кирьяков.
— Это наши дают прикурить. И нас торопят. Шевелись!..
— Ваня, а ты чего окаменел? — обратился Самохин к Моторному.
— Беги на левый фланг. Наш веселый шахтер приберегает тебя в запасном штреке, в резерве.
Лейтенант Яровой вывел танкистов на опушку молодого сосняка, с которой виднелись вспышки и дымы недалекого боя. Каждому танку была поставлена боевая задача.
— Экипажу товарища Гридина атаковать противника в направлении отдельной высокой сосны с шапкообразной вершиной, — приказывал лейтенант Яровой. — Уничтожить огневые точки и живую силу, расположенные в кустах правее ориентира 200 метров… В дальнейшем наступать вдоль шоссе, на запад, в готовности к борьбе с вражескими танками…
— Экипажу сержанта Селенина…
Становилось жарко. В небе появилась вражеская авиация. Бомбы падали вдоль линии телеграфных столбов.
Яровой торопился:
— Я — в БТ-7 с призывом на борту «За Родину!». Наступаю в направлении отдельного дома, у шоссе… Мой заместитель — сержант Селенин… Лейтенант ответил на вопросы и подал команду:
— К машинам! Заводи!
В общем грохоте боя стали выделяться усиленные удары советской артиллерии. Фашистские самолеты удалились на юг. Лес задрожал рокотом танковых моторов. Сизые клубы выхлопных газов заполнили тропинки, поляны, поднялись над кустами, деревьями. Дышать становилось все труднее — духота.
Из лесу грозно выступали боевые машины. Танк с надписью на броне: «За Родину!» вырвался несколько вперед. Замедлил ход. Над башней поднялась до пояса энергичная фигура лейтенанта Ярового с флажками в руках. Его быстрый взгляд сразу высказал все. Голос подкрепил:
— За Родину! За Сталина, вперед!!!
Флажками дополнил:
— Делай, как я!
Даже самые отдаленные экипажи уловили, если не ушами, то всей глубиной души пламенный, вдохновляющий призыв. Родина и Сталин были для каждого советского человека словами -синонимами. Они вызвали у танкистов ощущение крылатости.
Пламенные сердца патриотов пели:
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет.
Перед тем, как захлопнуть люк над своей головой, лейтенант Яровой, окинул, казалось, слишком долгим, запоминающим взглядом окружавший мир. И каждая черточка его мужественного лица раскрыла глубоко-символический смысл требования, выраженного последним взмахом сигнальных флажков.
Приветственно качнулись ветви сосняка, березы, орешника, хрустнули под гусеницами сучья валежника, низкорослые кусты терновника. Боевые машины выскочили в открытое поле. Впереди шли две красавицы-тридцатьчетверки. Сзади, следом за Т-26 и БТ-7, грозно переваливался на неровностях местности мощный КВ. Хотя ремонт тяжелого танка завершался в дороге, в неторопливой поступи богатыря ощущалась постоянная готовность надежно поддержать и весомо нарастить удар танкового подразделения по врагу.
Т-26 сержанта Селенина прыгала по бугоркам, как стрекоза. Машина с нарастающим повизгиванием набирала скорость. В унисон танковому мотору учащенно бились сердца танкистов. Ведь каждый из них не раз видел себя в детских и юношеских снах героем всесокрушающей, победоносной атаки против ненавистного врага — фашистов. И эта счастливая минута наступила. Фалеев открыл на мгновение люк, взглянул в бесконечную, светлую голубизну высокого неба, полной грудью вдохнул свежего воздуху и довольный опустился на сидение башенного стрелка. Он чувствовал себя превосходно. Тонкий металлический визг мотора, лязг гусениц, общий гул близкого боя, в какой-то мере напоминал танкисту производственный шум в цеху родного металлургического комбината.
Фалеев ощупал рукоятку затвора орудия, пулемет, плечевой упор, гильзоулавливатель, тяжелые, снаряженные патронами диски, близко расположенные снаряды — бронебойные слева, осколочные справа. Взглянул в смотровую щель, в диоптрический прицел пулемета. Везде все было на своих местах.
Сближение с противником ничем не отличалось от выдвижения танка к рубежу открытия огня на полигоне, во время выполнения упражнения боевых стрельб. И там и тут гул машины и мешал танкистами, в то же время притуплял нервное напряжение. Шум заглушал тревожное биение сердца и как-то отвлекал от других раздражающих звуков боя.
Снаружи послышались раскатистые взрывы. Танк вздрогнул, закачался со стороны в сторону. По броне что-то градом забарабанило. Соседние боевые машины заволокло не то дымом, не то пылью.
Командир экипажа приказал: —
— Механик-водитель, направление — березы-близнецы! Увеличить скорость!
Фалеев, как ни всматривался в пыльную мглу, не видел никакого ориентира.
— Башенный стрелок, кустарник слева «близнецов”, — пулемет!
— Пулемет готово! — ответил Фалеев.
— Огонь!
— Пушка, осколочным!..
— Осколочный — готово!..
Горячий пороховой дым обдал лицо Фалеева. Ничего особенного — такое же ощущение он испытывал у летки вагранки. Команды, щелканья затвора, выстрелы следовали один за другим. Фалеев ранее и не подозревал, что может допустить оплошность, промедление в заряжании. Но тут, на деле, еле успевал. Выбрал все снаряды из боеукладки правого борта башни. Полез вниз, там замешкался. В наушниках шлемофона услышал требовательный голос командира.
Селенин торопил, приказывал, неистово кричал:
— Механик, увеличить скорость! Вправо, реж на кусты!.. Влево!.. Маневрируй под огнем!.. Эх, ты, медведь, извозчик!.. По ниточке едешь. Быстро правый рычаг на себя, черт!.. Левый… газ!..
В то же время Селенин беспрерывно вел огонь. Судя по его голосу, Фалеев догадывался, что обстановка за бортом крайне напряженная. Сам он ничего особенного не замечал, вернее, не успевал замечать. Удивляло другое: толчки, тряска, резкие повороты в движении усложняли командиру вести прицельный огонь, и он именно требовал увеличения всего этого.
— Башенный, не зевать! Снаряды… Осколочные!.. Диски…
Машину подбрасывало, колотило, как в гигантском решете. На корме загремел оглушительный взрыв. Удар. Корпус рвануло назад. Башня загудела со страшным звоном. Откуда-то брызнул сноп искр. Запахло чужим порохом, бензином, дымом.
— Горим! Я вытаскиваю раненого механика. Ты, Фалеев, выскакивай наружу с пулеметом и прикрывай нас огнем… — хрипели наушники шлемофона.
Из люка механика-водителя кубарем полетели одни за другим танкисты. Первый из них беспомощно упал на землю, полыхая языками пламени. Второй стал быстро переворачивать товарища, обсыпать песком.
Фалеев рванул обеими руками пулемет на себя. И ни с места. Он стал дергать за рукоятку к себе, раскачивать в стороны и все безрезультатно. Схватился одной рукой за плечевой упор, другой — за спусковую раму, пытаясь как-то силой выкрутить оружие и все без толку. Молодой танкист забыл о планшайбе, при помощи которой ДТ был закреплен в шаровой установке.
Между тем, что-то надоумило посмотреть в прицел. Сквозь сизую пелену дыма впервые увидел, как во сне: у подножья берез-близнецов — живые силуэты врагов. Четыре солдата лихорадочно перекатывали влево не большую пушчонку. Да это же счастье! Какая находка!
И Фалеев сразу стал совмещать в себе обязанности командира и башенного стрелка. Ударил кулаком сверху по пулеметному диску, убедился, что он точно сел в пазы, нащупал правой рукой спусковой крючок, левой откинул наплечник, навалился на плечевой упор, впился глазами в линии прицельных рамок, подвел маховичком черный волосок к делению с цифрой три – что обозначало 300 метров – и сам себе скомандовал:
— Огонь!
Нажал на спуск. ДТ послушно отозвался длинной очередью. Гитлеровцы взмахнули руками и рухнули на землю. Черное орудие остановилось. Воодушевленный танкист закричал:
— Ура! – и его глаза засверкали точно яркие искры, в момент прорыва расплавленного метала из летки вагранки.
Посмеялся над собой — какой был недогадлив. Сейчас он четко представлял себе, как надо снять пулемет, но не стал этого делать. Поспешно искал новые цели.
Рядом с брошенной вражеской пушкой шевельнулись кусты. Фалеев присмотрелся — узнал те же чужие силуэты. Прошил пулеметными очередями… Стало очень жарко. Надо покидать машину. Кажется, все сделано.
Вдруг, откуда ни возьмись, к орудию подбежал маленький фашист в фуражке. За ним — еще четверо. Фалеев вскрикнул от радости и со знанием дела разразился длинными и короткими очередями.
Он начал задыхаться от угара. Все же нашел в себе силы еще раз посмотреть в сторону «близнецов». Гитлеровское орудие стояло одиноко, клюнув стволом в землю. В таком положении оно не опасно. Только отвернулся, как опять движение. То ли померещилось, то ли наяву, а враги, как в тумане увлекали пушечку за кусты. Танкист снова взялся за оружие. Закашлялся. Обоняние уловило: в пороховом дыму смешивались запахи горелого металла, масел… О, Фалеев, металлург, не ошибается. Он бывал во всех цехах своего завода, изучал различные процессы металлообработки. Всегда отличался умением носом безошибочно определять, что происходило с металлом – ковка, плавление, закаливание в масле, воде.
За спиной, внизу, что-то треснуло. В башню хлынул очень горячий воздух. Стало так жарко, как бывало тогда, когда он стоял напротив открытой летки вагранки, из которой плыл расплавленный металл.
Что ж, на Венере будет еще жарче. Надо тренироваться. Троян как-то в беседе восхищался умением своего земляка Гридина вырабатывать в себе волю. Вот и представился случай…
Фалеев ощутил удушливый, горячей дым, которым быстро заполнялась внутренность башни. Едкий газ проникал в рот, нос, больно щекотал в горле. В нижней части гортани что-то нестерпимо резко царапало. Танкист задыхался, заходился кашлем. Нет, не от дыма. Душно. Мешало и что-то другое. На грудь навалилась какая-то тяжесть. Она шевелилась, давила. Попытался открыть люк, но руки и ноги стали ватными, как во сне. Ему показалось, что все же удалось приподнять тяжелую крышку люка. И что же? Снаружи еще жарче полыхало пламя, чем внутри. Положение между Сциллой и Харибдой?
Сквозь веки — закрытые от дыма — танкист видит сплошную красную реку расплавленного металла, которая распространялась, как лава ожившего вулкана. Над лавой клубился красно-черный дым. Фалеев сделал попытку схватить длинную красную палку, концом которой намеревался заткнуть летку, приостановить истечение расплавленного металла и проделать в грунте канавку, чтоб направить смертоносный ручей против врагов. В поте лица частично достиг цели, но за палку стали цепляться серо-зеленые солдатики с красными, как расплавленный металл, глазками. Они, словно муравьи, облепили ноги, руки, полезли на плечи, добрались к горлу и начали душить. Противная нечисть копошиться на груди, упирается в ребра своими коваными сапогами, разрывает тело. Фалеев пытается одной рукой при помощи длинной палки закрыть отверстие летки, а второй старается сбросить со своей груди ненавистных врагов. Некоторых удается оторвать от тела и швырнуть вниз, в горящую лаву. Вражеская нечисть отчаянно барахтается в красной, расплавленной массе, которая постепенно становится янтарной, похожей на мед. А солдатики выглядят, как мухи, тонущие в густой патоке. К их отвратительным конечностям налипли комья сгущенной кровавой массы. Они отчаянно дрыгают руками, ногами и не могут ни освободиться от тяжелых пут, ни вылезти из кровавой трясины не сухое место. Огнедышащая масса стала их засасывать.
Фалеев почувствовал болезненный металлический стук в голову. Потрогал рукою — и там ползали гнусные твари. Они путались в волосах, долбили, кололи череп чем-то острым и горячим. От ударов по голове, в глазах появлялись все цвета радуги и ощущение раскаленного песка. Временами горстями сыпались искри.
Танкист собрал все силы, тряхнул головой. В результате, все тело пронзила невыносимая боль. Вслед за этим наступило заметное облегчение. Он провел рукой по голове и назойливые фигурки-солдатики покатом валились вниз, звеня металлом, замертво плюхались в расплавленную массу. Так им и надо! Туда им дорога! Их никто не просил…
Раскаленная лава заполнила все в окружности. На ее поверхности торчит ствол фашистской пушченки, которая ранее была у березок-близнецов. Вокруг плавают серо-зеленые чудовища. Некоторые из них пытаются выкарабкаться, но безрезультатно — теряют силы в своей мышиной сутолоке.
Фалееву невыносимо тяжело от жары, но он ликует: в огненной лаве извиваются в предсмертных судорогах ненавистные враги. Он узнает их — это карлики-марсиане, о которых шла речь с Трояном на ночном дневальстве. Все же товарищ был прав — не удалось миновать схватки с дряхлым воинством. Враги шкварчат, удушливо чадят, вспыхивают грязным пламенем и, в конце — концов, исчезают во мраке. Воин чуть ли не начинает жалеть жалких тварей. Но что поделаешь? Не он открыл огнедышащую летку. Это сделали серо-зеленые маньяки Марса. Сами виноваты во всем. Пусть корчатся в страданиях.
Фалеев ощутил сильную встряску во всем теле. Жара отступила, звуки катастрофы гремели где-то далеко, как под сурдинку. Наконец почувствовалось облегчение, прохлада, свежесть. Откуда-то полился мягкий свет. Изможденные члены ослабли, блаженно разомлели, во что-то мягкое провалились… В мозгу сверкнуло сознание одержанной победы и тут же все угасло.
БТ-7 обогнал все танки.
Гридин оглянулся назад: уступом вправо отставали Т-26 сержанта Селенина, машина лейтенанта Ярового. Его охватил отчаянный задор, появилась страсть состязания с опытными танкистами. Ощущение новизны, жажда подвига захлестывали.
В нараставшем, бодром рокоте мотора, как бы звучал призывной мотив любимой песни:
Мчались танки, вихри подымая,
Надвигалась грозная броня…
Горячее, возбужденное воображение юного танкиста рисовало картину всесокрушающего танкового удара. Его окрыляла то, что приближалась суровая расплата с коварным врагом, который посмел осквернить своим грязным сапожищем советскую землю.
Все существо командира экипажа слилось с оружием: руки сжимали рукоятки подъемно-поворотного механизма пушки со спаренным пулеметом; глаза впились в окуляр телескопического прицела. И сразу начали тревожить резкие качания танка на неровностях местности. В поле зрения прицела быстро чередовались неясные картины дымного поля и светлого неба.
Росло напряжение нервов, зрения. Воображение обгоняло скорость боевой машины. Впереди, в дыму разрывов чудились скопища врагов. Нетерпелось быстрее увидеть их, сокрушить огнем и гусеницами. Поспешно установил нити прицела. Нащупал спуск… Что случилось? Под пальцем не ощущалось привычно мягкой податливости пружины. Неисправность? Это хуже самого тяжелого ЧП… Тело вздрогнуло от холодной волны ужаса. Дыхание участилось. Еще один нажим… Ах, вон, в чем дело!.. Предохранитель. Сдвинул на себя бугорок-препятствие. А дальше? Какая-то клеточка мозга отдала команду: «Отставить!» Повторил щелчок в обратную сторону — спуск снова на предохранителе. Неугомонное сердце продолжало колотиться. Оно опережало частоту всяких других колебаний, вибраций, которыми в избытке наполнялась машина. Каким предохранителем сдерживать неукротимое биение в груди мускулистого комка с многочисленными кровеносными и нервными ответвлениями? Неужели этот мудреный живой прибор не подчиняется никаким ограничениям? А есть ли потребность ставить его на предохранитель? Наверное, нет. Ведь сердце быстрее разума, молниеносно реагирует на малейшие возбуждения.
Мысли танкиста ни на чем специально не задерживались. Они устремлялись в туманную даль, которая смутно плыла за четкими линиями сетки прицела. Потные пальцы до боли сжимали скользкие рукоятки. Жажда подвига зажигала мозг, лихорадила весь организм. Где-то в извилинах сознания возникла версия о том, что, будто советская пехота не сумела одним ударом уничтожить нарушителей госграницы, что привлечены на помощь танкисты и уж они, конечно, оставят мокрое место от наглых фашистских молодчиков. Вот-вот танковая буря обрушится на врага. Мама, Надя в этот воскресный день по-праздничному отдыхают и не подозревают, что он мчится в одном из вихрей этой беспримерной бури. К вечеру все узнают о разгроме провокаторов на Буге. По радио сообщат. Интересно, как прозвучит из репродуктора его фамилия? Скорее бы… Боец досадовал, что в прицеле слишком долго не показываются враги. Возможно, сообразив, в чем дело, дали тягу?.. Перед глазами только пыль и дым.
Танк раскачивало все сильней. Стекло прицела мгновенно темнело серой пылью или светлело голубизною неба. От частого мелькания земли и неба рябило в глазах. Все поле впереди покрыто взрывами. Кругом грохотало, клокотало.
— Ориентир … 200 метров вправо — вражеское ПТО… — звучал в наушниках шлемофона голос старшины Кирьякова.
Импульсивный Гридин страстно припал к смотровому прибору. Напряглись каждый нерв, каждый мускул, но молодой танкист ничего не мог обнаружить в задымленной мути. Вспотел, задрожал, растерялся. Нет, не смерть страшила – позор. Он находился под двойной защитой: стальная броня и некий магический круг безопасности, создаваемый высоким патриотическим чувством. Последнее и помогло взять себя в руки, неустанно искать выхода из тупика.
Рациональный, рассудительный и критически настроенный башенный стрелок Самохин тоже охвачен общим наступательным порывом. Свою фантазию он стремился сдерживать. Не в его характере витать в облаках. Целесообразнее с самого начала вникнуть в глубину явлений, узнать, что происходит в широком, стратегическом плане. В мозгу начали закрадываться отрицательные предположения. Стала пугать таинственность, неизвестность. В голове возникли вопросы: как это с бухты-барахты танки понеслись на воображаемого, невидимого врага? Если у фашиста хватило нахальства нарушить наши священные рубежи и уже через несколько часов оказаться на пути к городу, то не обладает ли он чем-то сверх естественным, кроме самоуверенности? Кто знает?.. Можно предположить и другое: мы специально выжидали в лесу. Не случайно район назывался выжидательным… Враг прет вперед и попадает в ловушку. Ну, даже, если и нет у нашего командования какого-то хитрого замысла, все равно мы обязаны дать отпор агрессору. Не спрашивать же у бандита разрешения на то, чтоб дать ему в морду. Сочли нужным выждать, а сейчас и ударим так, что только рожки да ножки от него останутся.
Самохин увидел и ощутил вблизи взрывы. Машину несколько раз подбросило. Курсант с недоверием покосился на броню. Время от времени хватался за снаряд. Хотелось быстрее заряжать, стрелять. Ведь жребий брошен. Исход должен быть только один – выиграть.
Команда на открытие огня не поступала.
Опытный танкист старшина Кирьяков — участник штурма линии Маннергейма — стремился за рычагами боевой машины не рассеивать внимание по всему многообразию впечатлений. Хотя глаза то и дело ослепляло светлое небо, он стремился приучить их улавливать через узкий триплекс то, что происходило на задымленной земле. Не упуская из виду земных ориентиров, твердо и уверенно вел танк в заданном направлении. Смотровой прибор все чаще застилали клубы дыма, пыли. Временами засыпало песком, по броне стучали комья земли. Старшина вздрагивал от этих сигналов. Эму-то хорошо известно, чем от них пахло. Поэтому, первая забота — искусно маневрировать.
Ориентир исчез. Нервная дрожь захолодела на спине. Правый рычаг чуть на себя — вдали с ходу окутывались дымными клубами пушечных выстрелов красавицы-тридцатьчетверки; несколько ближе — стремительный БТ-7 Ярового. Кирьяков невольно стал прижиматься к надежным соседям. Помимо желания ощутить верный локоть друга, старшина знал, что если идти строго прямо, то вскоре путь пересечет глубокая часть оврага. Легче взять препятствие вверху, где оно только начиналось. Еще одно соображение: преодоление глубокого оврага было бы связано со снижением скорости. Мгновенно представилась трагическая картина: танк медленно сползает в глубокую вымоину, потом, на подъеме показывает противнику днище, чем тот сразу может воспользоваться и всадить снаряд в самое уязвимое место. Тогда крышка. Следовательно, надо прижиматься как можно больше вправо.
Размышления старшины нарушила цепь молниеносных событий.
Вокруг БТ-7 командира подразделения лейтенанта Ярового заплясали густые огневые смерчи. Ухо Кирьянова уловило какой-то зловеще-странный вой. Интуиция подсказала: враг стрелял по боевым машинам специальными противотанковыми снарядами. Глаза поразила страшная вспышка. Танк лейтенанта Ярового окутался дымом, сквозь который брызгами вырывалось пламя, значительно обесцвеченное ярким солнечным освещением. Пушка и пулеметы перестали сверкать выстрелами. Тем временем, Т-34, а уступом, как лебедь среди утят, КВ, сокрушая все на своем пути, с правого фланга врывались во вражеское расположение. Все это в стороне. А перед ним, Кирьяковым, — тоже новое. На шоссе показались тупорылые вражеские машины, облепленные солдатами в касках. Отсюда, поворот в размышлениях старшины: нечего выбираться на пристрелянное врагом направление, надо держаться своего маршрута.
И старшина со смешанным чувством огорчения от гибели БТ-7 и гордости за бесстрашные действия тридцатьчетверок и КВ, резко отклонился влево. Перед ним сразу встала проблема преодоления глубокого оврага. Кирьяков принял дерзкое решение и начал его осуществлять.
Наращивая скорость, он неустанно спрашивал, требовал, указывал:
— Чего ждете? Ведите огонь!.. Вон, между телеграфными столбами…
А перед глазами молодых танкистов продолжал мерещиться дымный факел командирской машины.
Старшина несколько раз круто вильнул танком, выровнял маршрут и строго предупредил экипаж:
— Всем наклониться вперед, слиться воедино с машиной… Сейчас вас сильно тряхнет… Не теряться!
Мысли курсантов спутались. Ими владело смутное ожидание конца.
БТ-7 мчался с бешеной скоростью в желтовато-бурую мглу. Гридин крутился на своем места, как белка в колесе — и не стрелял, по указанной Кирьяковым цели, потому что не видел ее, и вообще не знал, как подключиться к молниеносным событиям.
Самохин вслух выразил свои переживания:
— Ничего не вижу, не слышу, не понимаю… Что делать в этом аду? Как неохота погибать зря, без пользы!..
Инстинктивно оба прижались к оружию. Приготовились к чему-то страшному.
Внезапно почувствовали, что танк будто оторвался от земли. Каждый на мгновение пережил ощущение подобно тому, какое переживает человек во время быстрой езды на машине, которая начала резко спускаться с горы, вниз; в дорожных выемках она, как бы отделяется от земли. Странное впечатление полета и невесомости, переживаемое экипажем, продолжалось доли секунды. Потом разразился резкий удар, во время которого Гридин и Самохин так рванули вперед, словно намеревались своими телами пробить броню танка и выскочить наружу. Вся машина загрохотала металлом, будто рассыпалась на части. У каждого внутри, словно что-то оборвалось, в голове помутилось.
Что произошло?
Старшина Кирьяков на ровной местности, разогнав танк, придал ему предельно высокую скорость. Пылевой вихрь с грохотом приближался к глубокому оврагу, который, однако, был не пуст — там укрывались люди.
На пересохшем илистом дне копошились двое: круглый, черноглазый танкист перевязывал раненого рослого пехотинца. Оба, когда услыхали нарастание страшного гула, подобного землетрясению, переглянулись и сдвинулись к стенке крутого обрыва.
Пехотинец испуганно взглянул вверх:
— Сто чертей надвигается… Может, самолет падает?..
Чумазый танкист отрицательно качнул головой, заикаясь:
— Н-нет… Земля дрожит по-нашему…
На их головы посыпалась глина. В воздухе промелькнули отполированные до блеска гусеницы, больше катки, мгновенно накрыв дно оврага тенью и пылью. 13-ти тонная, зеленая махина птицей перемахнула через естественное препятствие и тяжело грохнулась о твердую почву на противоположной стороне.
Танкист разинул рот и с опозданием издал нечленораздельное:
— Вон-н-а…
— Наш! Ей-бо, наш!.. — закричал пехотинец. — Птица-танк! Чудасия та и годи! Танки летают — такого не слыхал… А увидел, своими глазам.
Танкист нервно покрутил головой. С сердцем взмахнул рукой:
— Да… Он… А я на четырех ползаю. Побегу!..
— Постой, браток. Ты что-то знаешь — расскажи, что произошло?
— Ничего особенного. Если надо, наш танк в умелых руках может летать… Так, брат-пехота… ВТ-7 — любимец советских танкистов — способен с разгону перемахнуть любую канаву, небольшую речку… Такое преодоление препятствий производит впечатление прыжка, а для тех, кто окажется в углублении под танком — иллюзию полета… Мы и через Буг перемахнем… Ну, бывай. Пошел, — сказал черномазый сам себе.
Хотя манера разговора мало была похожей на Моторного, но жесты, заикания не оставляли никаких сомнений. Танкистское самолюбие увлекло молодого механика-водителя пеши, по-пластунски за танками.
В момент удара машины о землю экипаж выдержал огромные перегрузки. Их лбы высекли целый «Млечный путь» звезд. К счастью, обошлось без тяжелых увечий.
Танкисты отделались небольшими ушибами. Ходовая часть танка тоже оказалась целой. Несмотря на изношенность, учебно-боевая машина выдержала невиданное испытание. Значит БТ-7, действительно обладал незаурядными боевыми качествами. На подобный прыжок мог решиться только такой опытный и бесстрашный танкист, каким был старшина Кирьяков.
— Нет, оказывается, слова: «Искры посылались из глаз» не надуманные. Сам испытал… — начал Самохин.
— Гридин, я те дам… — возобновил старшина свои требования.
— Немедленно стреляйте из пушки, пулемета!..
Командир машины, потрясенный страшным ударом и непонятной ситуацией за пределами башни, с трудом соображал, что от него требовалось. Руки не повиновались — тряслись. В голове — сплошное гудение. Перед глазами — горячие, туманные круги. Курсант кусал губы, чтоб обострить в себе чувствительность, царапал ногтями что-то металлическое… Наконец, немного, овладел собою, осознал, что держался за рукоятки управления. Сразу же прильнул к прицелу, стараясь найти ориентир. Каково там! Перед глазами с бешеной скоростью прыгали кадры пыльно-серой мути и дымно-голубого неба. Он судорожно поворачивал башню вправо, влево, вверх, вниз — нигде ни ориентира, ни врагов. Куда стрелять? Нельзя же палить в белый свет -копейку… Так и подрывало открыть люк я выглянуть наружу хотя бы на секунду. По солнцу можно было бы сориентироваться. Мозг воскресил требование Ярового: «Танк атакует врага только с закрытыми люками». Курсант нервно дергал рукоятками подъемно-поворотного механизма. От этого устал и терял последние силы.
Донимали нестерпимая жара, духота. Едкий соленый пот заливал глаза. В окуляре прицела совсем размылась сетка с прицельными марками и шкалами, исчезли нити перекрестия. Он в панике взялся тереть стекла окуляра, но потными, грязными пальцами еще больше затемнил их. До сверлящей боли в мозгу задумался. Сверкнула догадка: выдернул из-под ремня подол нижней рубашки, рванул лоскут и вытер стекло. Опять увидел черные линии перекрестия. Повернул башню вправо и… о, ужас! Не кошмарный ли сон это? В поле зрения свечкой пылала Т-26. Вблизи – фонтаны черной земли. В груди зачастили удары сердца, как бы состязаясь по силе с взрывами снарядов за броней танка.
До последней минуты где-то в закоулках сознания теплилась надежда совершить подвиг. А тут, на глазах… Все рушится. Если уж кадровый танкист подбит, и такая же участь постигла старослужащего сержанта, то, что думать ему, желторотику? Огромные шары черного дыма вперемежку с кровавым пламенем уносили в небо благородные мечты.
На мгновение в голове Гридина помутилось, в глазах потемнело. И тут же в нем что-то запротестовало: «Стыдно!.. А если это происходит первый и последний раз в твоей жизни?…» И зарождавшийся душевно-психологический надрыв стал отступать. Благо этому способствовало мимолетное впечатляющее видение: — пожар на танке Селенина не затмевал острые кинжалы пулеметных очередей, которые беспрерывно сверкали из башенного ДТ – значит, экипаж героической Т-26 до последнего дыхания бьет врага. Какая стойкость! Вот он, подвиг! Гридин терзался, как тигр в клетке, от сознания того, что ему судьба уготовила только роль пассивного созерцателя. О, как он завидовал Фалееву. Однокашник попал в легенду.
Через мгновение трагико-героическая картина осталась позади. Гридина бросало в жар и в холод. Потерян с виду ориентир.
— Огонь!.. Огонь!.. — до хрипоты требовал Кирьяков.
Гридин стал соображать: поскольку Т-26 по ходу остался справа, то ориентир должен быть впереди. И он всем своим существом впился в прицел. Прощупывал поле боя метр за метром. Из пыли вынырнули телеграфные столбы, А вот и сосна с шарообразной вершиной. Выходит, все правильно — Кирьяков ведет машину строго в заданном направлении. Маленький доворот рукоятки на себя, в глазах предстало невиданное зрелище: справа, в мутной пелене дыма и пыли ползли черные коробки, сверкая вспышками. Вражеские танки! Это вернуло Гридину силы. Сколько их? Это не имело значения. «Не пороть горячку, — убеждал себя. — Спокойно…» И уже совсем опомнившись, начал тщательно, методически выполнять все, чему научился на занятиях.
Выбрал в центре фашистского боевого порядка танк, прикинул дистанцию, подсчитал и определил упреждение — ведь цель двигалась, — и только хотел открыть огонь, как вражеский танк свернул в сторону и загорелся. Выходит, что пока Гридин занимался расчетами, кто-то упредил метким выстрелом.
Его опять бросило в жар. Но на поле боя горевать некогда. На перекрестье прицела уже выползала длинная автомашина с солдатами в кузове. На буксире орудие.
Гридин схватился за рукоятки. Стараясь держать перекрестия нитей на цели, он быстро определял упреждение.
Танк, грохоча, приближался к шоссе. Казалось, земля под ним горела, раскалываясь, броня пышала жаром. Как бы самому не вспыхнуть.
Вражеская автомашина тем временем скрылась в придорожном кустарнике. Только кабина с гибким штырем — не антенна ли? — виднелась среди ветвей. На счастье, в поле зрения оказался телеграфный столб с расщепленной вершиной. На него и сориентировал Гридин свой выстрел, учтя все требования Ярового.
— Осколочный!
Самохин зарядил. И как только вражеская машина вынырнула из-за кустарника, прозвучал выстрел. В тот же миг ее радиатор окутался дымом и огнем. С кузова посыпались гитлеровцы. Трое кинулись к орудию, очевидно, пытаясь отцепить его.
— Есть попадание в мотор! — крикнул Самохин.
— Наконец-то, — с облегчением прошуршало в наушниках шлемофонов. — Так их! Я те дам!.. Режь пулеметом.
Из-за гулких очередей ДТ внешний шум был еле слышен.
Возле горевшей машины с орудием уже не было солдат. Для уверенности Гридин еще раз прошелся очередью. В результате над машиной противника взметнулся столб огня и дыма. Очевидно, взорвался бензобак.
Но и БТ-7 сильно тряхнуло — будто танк свалился в яму. Гридин почувствовал, ожег на левой щеке, во рту — соленый привкус. Самохин сидел на днище, не выпуская снаряд с рук. Стало жутко от внезапно наступившей тишины. Мотор заглох. Запахло горелой шерстью.
— Вылезай из машины! — потребовал старшина Кирьяков.
Гридин опустился на днище. Ощупал Самохина. Тот был невредим, но какой-то вялый. Они выбрались наружу через люк механика-водителя. Оба жадно хватала открытыми ртами воздух, подобно рыбам, выброшенным из воды на берег. Ручейки пота текли по их лицам, прокладывая в копоти светлые дорожки.
— Потушить пожар! — услышали они приказ старшины Кирьякова, — Без суеты, я те дам.
Почувствовав на пересохших губах соленые капельки пота, друзья подумали: «А где же взять воду?»
Озабоченные этим немым вопросом, они увидели, как старшина энергично сбивал лопатой с кормы танка дымившиеся скатки шинелей, засыпал огонь на жалюзях песком, и им другого ответа не потребовалось.
— На кой черт было привязывать к броне всякое барахло? – ругался Кирьяков.
— Мы с вами говорили об этом… — хотел было оправдаться Самохин, но не успел.
Что-то оглушительно треснуло. Ударило волной горячего воздуха, комьями земли, песком.
Гридин и Самохин кинулись за корму, откуда, только что звучал голос старшины.
Гридин споткнулся о какое-то железо и похолодел: под ногами валялись куски разбитой гусеницы, двух катков. В стороне от дымившейся воронки лежал навзничь старшина Кирьяков.
Гридин припал ухом к груди старшины.
— Не пугайся, студент. Живой, я те дам, — послышался хриплый голос. — Меня только тряхануло, как следует.
Кирьяков подполз поближе к танку, на необстреливаемую сторону.
— Да не дрожите, как новобранцы, — со слабой улыбкой успокаивал он курсантов.
— Считайте, что я у вас принял экзамен за полковую школу. Вот только не имею права присвоить вам воинские звания, к наградам некому представить. Слышите, как уже далеко наши бьют фашистов? — Кирьяков провел ладонью по лицу, полагая, что стирал пыль, копоть. На самом деле он смачивал ее потом, кровью и размазывал, изнемогая от жары, жажды. Повернул голову к Гридину: — Что у вас за кровь на щеке?
— Ударился, — смешался курсант. — В машине сильно подбрасывало.
— Погасить огонь!
Они засыпали песком моторную группу, чтоб не вспыхнули масло, горючее.
Самохин осматривал ходовую часть. Гридин залез в танк. Темно. Только на приборной доске выделялось зеленоватое фосфорическое свечение. Мерно тикали часы, фосфоресцирующие стрелки показывали 12.
— Приборы в порядке, — доложил он старшине.
— Отлично! — обрадовался Кирьяков. — Как двигатель?
— Нужны запчасти — траки, катки, пальцы…
— Все это можно найти на поле боя, — сказал старшина.
Невдалеке еще дымились наши и вражеские машины. Бой перемещался на юг.
К ним подкатил бронеавтомобиль БА-20. Маленький воентехник, в очках, сердито хлопнул дверцей. Он бегло осмотрел танк. Выругался и велел самостоятельно к 16.00 отремонтировать машину.
— Вон, недалеко разбитый БТ-7, — показал воентехник. – Возьмите там траки, пальцы… А вы, товарищ Кирьяков, на броневике проскочите на зимние квартиры. Пускай немедленно дают сюда боеприпасы. Водитель Чапурин знает, что и где.
Из броневика выглянуло улыбающееся лицо Чапурина.
— Есть! — вытянулся старшина Кирьяков.
— Разрешите выполнять?
— Действуйте! — махнул рукой воентехник и засеменил короткими ножками к подбитому танку без башни.
— Маленький человечек, а голосок — дай боже, — ехидно заметил Самохин.
— Ты, Саша, опять со своей критикой, — вмешался Гридин. — Война. Поэтому воентехник и закручивает гайки.
Кирьяков приказал:
— Теперь, Гридин, командуйте экипажем. — Он залез в броневик, и Чапурин повел машину к шоссе. А оттуда, петляя меж воронок, бежали двое. Гридин, присмотревшись, узнал политрука Зорина и Моторного.
— Молодцы, танкисты! — крикнул издали Зорин. — Спасибо за выстрел из танковой пушки, и за очереди из пулемета. Вы здорово нас выручили. — Переведя дыхание, он остановился. — Ну а танк маневрировал с артистической виртуозностью. Видно, рычаги были в руках настоящего аса. Вот я ему замену привел, — показал политрук на Моторного. — Пробирался, сердяга, за танками и в пути раненых перевязывал.
— Заблудился немного, — смущенно отозвался Иван Моторный. — Не заметил, как очутился в пехоте. А там — политрук Зорин…
— Что ж, теперь главное — побыстрее отремонтировать танк.
Что с Кирьяковым?
Гридин кратко доложил.
— Орел ваш старшина, — сказал Зорин. — Мастерски он выскочил из огневого мешка, а потом и нам помог. В умелых руках были вожжи стального коня, мощностью 400 лошадиных сил. Правда, танкового огня было маловато. Вы, товарищ Гридин, наверное, не видели врага?
— Да. Потерял ориентировку. Это очень серьезный промах, и не только ваш… Если бы все танки так умело стреляли, как бетушка лейтенанта Ярового и Т-26, то всем гитлеровцам была бы здесь крышка, а так многие отступили и сейчас, похоже, пытаются прорваться левее шоссе. Побыстрее бы Кирьяков добрался до складов — боеприпасы нам вот как нужны! — Зорин усилил сказанное выразительным жестом. — Свой танк сможете отремонтировать?
— Все силы приложим, — сказал Гридин.
— Постарайтесь. — Политрук прислушался к все усиливавшейся стрельбе на левом фланге. — Вы все-таки счастливые —
удачно испытали свое, несчастье. Побегу. Слышите? Начинается «концерт». Это возле ручейка, где вчера пел Троян.
— А сам он, где воюет? — встрепенулся Гридин, услышав фамилию друга.
— Среди надежных товарищей.
Политрук Зорин, пригибаясь, побежал к картофельному полю, на котором все чаще рвались снаряды.
Над головами послышался вой вражеских пикировщиков. Бомбы рвались вдоль Владимиро-Волынского шоссе. Картофельное поле спряталось в пыли и дымах. Из темно-желтоватой мглы вновь поползли вражеские танки.
Гридин и Самохин нырнули в люка бетушки. Изготовились вместе с Моторным к стрельбе с места. Ждали сигнала Зорина. Но неожиданно увидели другой «сигнал»: две вражеские машины запылали.
— Из придорожных кустов ударили наши противотанковые орудия, — сообщил Гридин.
Сквозь грохот пальбы донеслось красноармейское:
— Ура-а-а!..
Оно прокатилось низиной и отразилось от выступа темно-синей рощи:
— Аа-а-а!..
В этом звуке было нечто широкое, раздольное, напоминавшее самую высокую ноту, которую брал в тех местах накануне Троян.
На гребне картофельного поля, где свежими ранами, язвами пестрели окопы и воронки, ничего не было видно.
Мало-помалу Троян побеждал… себя.
В нем закипала злость. А тут, совсем близко что-то резко хрястнуло. Потянуло горелым маслом, вонючим бензином. Передвинул на затылок каску, сползавшую на глаза, чуть приподнялся и выглянул из воронки. Перед ним что-то горело — в пламени чернели ребра крытого кузова грузовой машины.
С большой неохотой выбрался из уютной воронки и пополз к шоссе. Вскоре очутился в глубоком кювете.
— Товарищ старший лейтенант, танкист прибыл, — пробасил отдаленно знакомый голос.
Возле березовых веток, привядших на солнце, Троян увидел здоровяка. Узнал: Медведев.
— Живой! Молодец, — осклабился тот. Затем кому-то, в сторону сообщил: — Порядок. Все налицо — живые и мертвые.
Рядом прозвучала команда:
— Справа, тройками, по-пластунски, вперед! На шоссе не задерживаться, раненых не оставлять!..
Из-за кустов шмыгнуло на дорогу поразительно гибкое тело Олимпиева, следом — двое красноармейцев. Все трое тотчас исчезли в противоположном кювете, оставив за подошвами обуви небольшие клубки пыли. Среди них вспорхнула дымными фонтанчиками стая пуль. В кювет брызнули кусочки гравия.
— Ишь, камушками бросается, — заметил кто-то.
— От таких камушек вмиг ножки протянешь, — ответил другой.
Случай подтвердил сказанное.
Из второй тройки замыкающий, будто пригвожденный пылевыми вихрями, странно задергался руками и ногами, вытянулся во всю длину своего роста и замер.
Кто-то отрезал:
— Наглядный пример: чуть замешкался и — конец биографии. Точка.
— Что, механик, свет в рогожку кажется? Ничего, сынок, не тушуйся. Вместе духом перемахнем, — толкнул рыжий пехотинец прикладом винтовки в бок. — Ты за моим корешем, Федей, уступом справа, а я за тобой.
— Эх, если бы мне твой махонький рост, горя не знал бы.
— Я от жажды умираю… — прохрипел Троян, еле ворочая сухим языком.
— От этого нет смысла умирать на войне, куры засмеют. Тут, брат, есть более сурьезные причины, которые толкают на тот свет, да и то неохота поддаваться.
Троян старался собрать в себе все внутренние силы, чтоб вытерпеть без воды. Между тем, пехотинец с кряхтением повернулся набок, и сунул под каску курсанта горячее горлышко своей фляги.
— Глони чуток, да живи еще сто лет, прожитое не считается. Здесь дивя переносить природные условия. На финской бывало… — пустился рыжий в воспоминания.
Троян не слышал слов — отвлекало приятное бульканье во рту теплой живительной влаги, которая сразу вернула и голос, и силы, и способность продолжать борьбу с новыми невзгодами. Впервые открыл для себя неимоверно чудодейственную силу нескольких глотков простой, теплой, несвежей воды.
— Следующая тройка, — вперед!
Плотный красноармеец – Федей называли его сослуживцы – вытянул на обочину дороги правую руку с винтовкой на предплечье, сильно оттолкнулся левой ногой, из-под которой ударило в лицо курсанту комом суглинка вместе с какими-то камнями, и ринулся через шоссе. Троян выплюнул изо рта землю и со словами: «Эх, куда кривая не вынесет»… — последовал за бойцом.
Перед ним мелькали стертые подошвы и каблуки ботинок пехотинца, подпрыгивал противогаз, глаза засыпало струей песка. Троян уткнулся головой в шоссе. И тут же ощутил резкий рывок за левую руку — чуть сам не отделился от нее. Рядом хрястнул взрыв. Каска дернулась от какого-то тупого удара. Не успел глазом моргнуть, как очутился в кювете. Лежа навзничь, с болью шевельнул пыльными веками.
Жив курилка. Ну и ладно. Перебьемся с кулька в рогожку, — говорило над ним жаркое, красное лицо пехотинца.
— Удачно ты подхватил своего механика со средины дороги, — восхищался кто-то.
— А что его хватать — ровно пушинку. Глаза парню ослепило песком – пулеметная очередь врезалась в почву перед самым его носом, тут же подтолкнула волна взрыва мины. И по-моему кумполу немного шмякнуло.
Троян снял каску. Рассматривая вмятину на ней, думал: «На старой Владимиро-Волынской дороге мне дважды подарена жизнь: политрук заставил надеть каску и пехотинец силою уволок в кювет”. Он почувствовал себя так, словно все неприятности в мире безвозвратно ушли в прошлое, совсем забыв о страшной действительности, и не подозревая, что через несколько минут предстояло бросить на карту то, что считалось подарком.
Кругом бушевал огонь. Взрывы квакали, как сказочные лягушки-великаны. Солнце припекало. Дышать становилось все труднее. Воздух перенасыщен пылью, дымами, отвратительно-удушливым смрадом.
Как ни старались Олимпиев и Зорин, сколько ни предупреждали, разъясняли, — сами носились вдоль цепи бойцов, — все-таки на шоссе остались еще двое убитых.
Троян отдышался, протер глаза, сполоснул во рту водой и почувствовал себя боеспособным. Понял, что, благодаря своим новым товарищам, не только остался жив, но и обрел новые духовные силы, физическую способность, для дальнейших действий.
Старший лейтенант Олимпиев указал рукой на свежевырытые холмики в конце картофельного поля. Там окопы. Туда предстояло сделать последний бросок.
Закачалась картофельная ботва. Слева и справа рассекали ее бойцы. В цепи вновь появилась одухотворенная фигура политрука Зорина. Троян увязался за ним. Рядом пыхтел рослый рыжий пехотинец. Курсант не отрывал глаз от знакомых, потных гимнастерок — вблизи их он чувствовал себя, как за каменной стеной. От них веяло родным, близким, добрым.
Над головами то и дело скулили пули, выли осколки. Троян уже знал, что воронки не страшны.
Стал убеждаться, что смерть, пропевшая свою зловещую музыку над ухом, уже была не его. И все-таки, каждое звуковое раздражение над головой инстинктивно, с опозданием прижимало тело в междурядье картофеля. По достижению желтых холмиков оказалось, что и там не было, где укрыться от огня.
— Быстро окапываться вдоль межи на линии: куча белых камней – сухое расщепленное дерево, — приказал старший лейтенант.
Троян брезгливо обполз — кованые сапоги убитого фашиста — это был первый труп, которому курсант обрадовался, — залег у замаскированного ветвями холмика, переводя дыхание. Из-за увядшей маскировки показалась каска с подвязанной над полями картофельной ботвой.
— Пополнение?.. Теперь живем. Не лежи, браток, зря. Быстрее окапывайся. Глянь-ка справа, сколько полегло… Курсанты нашей полковой школы… Не успели стать командирами. А почему? Не зарылись своевременно в землю. Грудью встали и погибли. Но и врага здесь не пропустили.
Каска поднялась — курсант увидел три треугольника на петлицах гимнастерки.
— Возьми вот эту штуку, поработай с ней до пота, — старший сержант швырнул малую саперную лопату.- Живой рукой, а то мне надо углубиться еще настолько.
Троян схватил на лету за рукоятку, сел и принялся копать.
— Э, нет, танкист, лопата — друг солдата только тогда, кода ею умело пользуются, — вылез старший сержант из своего окопа, подполз к Трояну, растянулся на животе в картофельном междурядье и начал лежа энергично рыть канавку. — Вот так… Сядешь только тогда, когда не будет видно из вырытой ямки твоей головы.
Продолжая работу, Троян быстро, как крот, уходил в рыхлую, песчаную землю. Только сделал приступку, опустил ноги в углубление и сел, как над головой пронеслись звуки, похожие на вой пожарных сирен. Вслед рявкнули один за другим взрывы.
— Минами садит, — со знанием дела определил сосед.
«Здесь и мины летают», не сразу сообразил, в чем дело курсант. И еще недоумение: грохот боя справа перемещался к городу; — слева отдаленные выстрелы тоже уходили на восток.
Артиллерийский налет усилился. Троян сел на дно окопа. Переживал, что не успел замаскировать свежую насыпь. Почва вздрагивала, охала, стонала. Со стенок шуршал песок. Сверху градом падали комья земля. Что-то увесистое ударило по каске. Недалеко раздавались какие-то крики, вроде поспешно отдаваемых команд.
Троян запрокинул голову назад. Над полем боя простиралось высокое светло-голубое волынское небо, испещренное пятнами пороховых дымков, к горизонту подернутое мутно-желтой пеленой дымов; местами нежную голубизну пронизывали зеленоватые огненные трассы. Резко очерченный красный круг солнца бил всем своим жаром по дымившейся земле.
Курсанту чудились картины героического прошлого советского народа. Представилось, что и в далекие времена, когда шла борьба против вражеских нашествий, это же солнце светило русским чудо-богатырям, и тогда его лучей не затмили зловещие пожарища. Неожиданно с помутневшего неба стали сваливаться вражеские пикировщики с выпущенными шасси, как хищные птицы, роняя свои смертельные яйца. Воздух непривычно — устрашающе вибрировал от воя сирен, завывания моторов. Земля вздрогнула и застонала.
«Ну вот, сейчас и конец… А я надеялся исправить свою беспомощность благородным поступком…” — пронеслось в голове.
— Не дрейфь, танкист. Бомбы летят не к нам. Фашист норовит ударить по нашей противотанковой артиллерии, и, как видно, мимо, — воодушевлял сосед.
На смену раздражающей музыке воздушного врага загрохотала наземная артиллерийская канонада. Троян прижался к стенке своей маленькой крепости, которая поминутно вздрагивала, осыпалась и угрожала завалиться. От резких сотрясений воздуха барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут. Сквозь орудийный гул, пулеметную трескотню прорывались какие-то чужие выкрики. Почва где-то рядом словно раскалывалась на части, со стенок отваливались целые глыбы. Нарастало мерное гудение. Моторы!.. Выделялся лязг гусениц. В противном скрежете металла улавливалось что-то чужое, выворачивавшее душу. Что делать? В потных руках СВТ, с ремня свешивались противопехотные гранаты. Достаточно ли этого оружия против фашистского танка?
Он выглянул из окопа — местность клокотала взрывами, сверкала огнем. В клубах буро-желтой пыли надрывались волчьим воем стальные фашистские чудовища. Два из них приближались к окопам, окутываясь клубами дыма и пыли, изрыгая огонь. В лицо курсанту ударило жарким смрадом.
Троян прицелился с упора о бруствер из СВТ в смотровую щель люка вражеского механика-водителя. Нажал на спусковой крючок, второй раз, третий… Нет выстрела. Засуетился, растерялся. Весь вспотел. Пот проступал во все поры его обмякшего тела. Он нечеловеческим усилием стремился сдвинуть с места затвор — бесполезно, в нем туго скрежетал песок. Боец очутился, будто в кошмарном сне. Ни жив, ни мертв. Ноги, руки перестали повиноваться. Его охватило паническое сознание своей беспомощности.
Металлический грохот пронесся рядом, удаляясь к шоссе. Там есть, кому встретить эти шарманки. Наше дело — отсечь фашистскую пехоту. Слышь, танкист? Бей по мяснику с закатанными рукавами! — кричал старший сержант.
Слух Трояна уловил чужие, лающие голоса. Во рту стало совсем сухо, ощущался какой-то незнакомый противный привкус. Близкий автоматный треск встряхнул. Вновь попытался открыть огонь из СВТ, но забитый песком затвор не действовал.
Под куст, рядам с окопом, камнем свалилась откуда-то знакомая комсоставская гимнастерка с сумкой гранат на боку. Левая рука со звездочкой на рукаве приподнялась, сдвигая назад зеленую каску. Правая, протянула вперед обычную винтовку с примкнутым штыком. «Если бы не каска, а фуражка, и не стрелковое оружие, то был бы наш политрук», — подумал Троян. Каска вздернулась вверх, качнулась влево, вправо. Мелькнувший на мгновение полупрофиль рассеял сомнения — это был политрук Зорин.
— Товарищи, подтянитесь, ко мне. Приготовить гранаты! Не забывать, что фашистская пуля — дура, а наш суворовский штык — молодец… — звенел голос политрука с присущим ему спокойствием, простотой, убедительностью.
На Зорина валила серо-зеленая стена врагов. Вдруг широкая спина политрука закрыла, чуть ли не половину вражеской толпы. Энергичный рывок лицом к людям и — возглас:
— За Родину! За Сталина! Вперед, ура!!!
Далее все произошло молниеносно.
Шевельнулись кусты — из них полетели гранаты. Вслед за взрывами кинулись в клубы пыли и дыма пехотинцы во главе со старшим лейтенантом Олимпиевым. По картофельному полю хлынула лавина бойцов с винтовками наперевес. Троян заметил, как впереди политрука замелькала богатырская фигура рыжего пехотинца, как его выгоревшая на солнце гимнастерка энергично наклонялась то вправо, то влево, будто боец что-то доставал из земли. Потом гимнастерка упала и больше не поднималась.
Троян скользнул разочарованным взглядом вдоль своей винтовки:
— «Эх, если бы ты стреляла!..” И в ответ штык заиграл своим блеском:
— ”А я для чего сделан?»
И курсант не успел опомниться, как оказался вне своего уютного окопа. Разморенная в нем жарой мягкотелость сразу превратилась в ожесточенную решимость. Какая-то сила пружиной выбросила его из укрытия в бешеный водоворот разыгравшихся событий. Инстинктивно зажав в руках свое грозное наступательное оружие, он легко, будто на крыльях, летел вниз. Хотя местность была равнинной, создавалась иллюзия спуска с возвышенности. И почему-то впечатляли второстепенные детали — под ногами мертво, безжизненно шуршали сбитые пулями и осколками картофельные стебли, вялые, скрученные от жары листья. Перед глазами сверкало широкое лезвие штыка.
Воспаленное воображение рисовало: на слепящей стали играли отблески того солнца, которое освещало победный путь далеким предкам, громившим на волынской земле немецких псов-рыцарей. Нет, благородный дух русских чудо-богатырей не бесследно исчез во тьме веков. Он в трудную минуту окрылил потомков, и они неудержимо неслись против извечного врага. На пути красными осами носились вражеские огни. Рука курсанта выдернула из сумки гранату и бросила в источник осиного роя. В нос ударил сладковатый запах пороховой гари — от взрыва РГД. Злые огоньки исчезли. Значит, он делает то, что требуется.
Троян продолжал нестись грядками картофельного, поля, несознательно оббегая трупы. Вот впереди, в дыму, из-за кустов смутно замаячили тени в карикатурно-глубоких касках. Трое-четверо из них суматошились возле какой-то трубы. Курсант, не задумываясь, автоматически выхватил гранату и изо всей силы метнул в мрачную кучу. Вторую… И больше нечего бросать. Путь вперед освещал и расчищал воинственно горевший солнечным блеском широкий штык. Прыжок и — лезвие само вонзилось во что-то тугое, хрустящее. Выдернул. Еще удар…
— За нашу споконвечную землю! — прокричал он и перемахнул через кусты, где еле удержался на ногах — подошвы сапог разъехались в стороны на чем-то мокром. Устоял. Кругом валялись чужие трупы. В окружении их лежал с остекленевшими глазами пехотинец, которого звали Федей. К нему не подступиться — междурядья и ботва забрызганы кровью. Сзади бежали новые группы красноармейцев. Старший сержант кинулся к трубе.
Послышался ободряющий голос политрука:
— Товарищи, наша взяла! Гитлеровцы драпают. Ни единого не выпускать с нашей земли живым, а то вернется… За мной!
Бойцы продолжали преследовать врага. Троян отставал от мокрой, потной гимнастерки Зорина. Вот его спина с ремнями накрест закачалось перед кустом, над которым взвивались сизые струйки дымков. Политрук, как бы стараясь что-то поймать в воздухе, взмахнул руками, и, падая, обнял куст боярышника. Молодая и гибкая ветвь пружинисто взмахнула вверх, закачалась и понурилась, будто в чем-то провинившаяся.
Курсант больше сердцем, чем умом, понял, что нужно немедленно прийти на помощь. И он, разгоряченный жарой, вызвав в себе холодную ярость к врагу, перемахнул через куст. Штык с хрястом опрокинул препятствие на пути — гитлеровца у пулемета. Только черная каска зазвенела.
Его мысленно влекла вперед бегущая и неуязвимая фигура политрука. На бегу, Троян уперся в упругую воздушную стену. Остановился. В тот же миг ощутил непривычное состояние полета, мгновение невесомости и мягкое падение. Во рту, в глазах — едкий песок. Лицо обожгла горячая волна. Ветер дохнул чем-то сладковато-приторным. Голоса людей исчезли.
«Неужели смерть? — кольнуло в сознании. — А когда же я с оружием в руках, которое не откажет в стрельбе, совершу подвиг?»
Преодолев режущую боль в глазах, открыл веки. В вышине горел, жарко дыша, красный шар, который двоился, троился и, наконец, заполнил собою все небо.
Над мертвым полем боя наступило затишье.
Дымная пороховая гарь, смрад, придавленные к земле полуденным зноем, застыли между кустами, в луговых низинах. Воздух неподвижен.
Знойное безветрие настораживало. Острее всего тревожило то, что слева и справа продолжался все тот же зловещий гул. На юге, низко над горизонтом, стаями тянулись вражеские самолеты.
Гридин осмотрелся. На мгновение ему показалось, что от всех его довоенных представлений остались только пепел и дым. Испугался этой мысли. Усилием воли встряхнул себя. И в мрачной, дымившейся дали почудились красные угольки надежды.
Моторный припал ухом к танковому двигателю. Вслушался. Поднялся. Лицо посветлело; в то же время он скосил хмурый взгляд на восток:
— Стонет наша земля, будто по ней бухают многотонными кувалдами… — и положил руку на головку блока цилиндров: — А от сердца танка веет не горелым, а здоровым теплом. Стало быть…
— … ничего серьезного в машине не сгорело, — быстро завершил конец фразы Гридин. И вновь обрел возможность распоряжаться — Оживить двигатель, и параллельно — движитель…
Он забрался на корму танка, позвав к себе Самохина. Оба приступили к очистке от золы и песка моторное отделение.
Механик-водитель, провозглашая кровное родство всех чертей с Гитлером, удалял искореженные снарядами остатки катка.
Недостающие детали курсанты принесли с разбитого БТ.
Во время монтажа нового катка подошел пехотный командир.
— Я — старший лейтенант Олимпиев… — отрекомендовался он.
Курсанты узнали пехотинца. С неудовлетворением вспомнили утро, неожиданное появление в лагере представителя пехоты. Это он постепенно взял власть над лейтенантом Яровым, подталкивал ремонт и вывод танков в выжидательный район, забрал всех под метелку людей к себе, в пехоту. Друзья понуро приготовились выслушать новые неожиданные требования. Самохин демонстративно схватился за крышку люка, чтоб не упасть, слушая приговор пехоты. Моторный отвернул лицо в сторону из-за боязни того, что старший лейтенант прочтет на нем неприязненные мысли о себе. Гридин смотрел на командира прямо, открытыми глазами думая: «Хотя и есть разница в наших воинских званиях, но мы не ходим на поклон к стрелкам, а вы с самого утра часу не можете прожить без нас. Что ж, нам все равно, где выполнять свой долг. Приказывайте — выдержим…»
Спокойные, отрывистые слова Олимпиева поразили танкистов:
— Наши стрелки в содружестве с вашими пешими танкистами только, что успешно ликвидировали вклинение противника на левом фланге… — старший лейтенант кашлянул, повернулся к полю боя с таким видом, будто хотел отвести настороженное внимание курсантов от себя в сторону подлинных виновников тех неприятностей, о которых собирался сообщить. Его голос стал глухим: — Первый успех дался нелегко. Мы заплатили очень дорого… В числе погибших — ваш политрук Зорин… Несколько молодых танкистов уже никогда не смогут сесть за рычаги управления… Мне доложили, что курсант Троян не вернулся из контратаки…
Недоговоренная фраза вызвала тревожные возгласы:
— Что с ним?
— Где это произошло? Кто искал?..
— Лучшие люди…
Последние слова, произнесенные Моторным без восклицания, упавшим голосом, совпали с падением из его рук большого ключа, который звонко и как бы жалобно задребезжал, и рикошетом от наклоненного к борту трака ударил механика по ноге. Тот отозвался приглушенным стоном.
— Данные о потерях еще нуждаются в проверке… — сочувственно продолжал Олимпиев. Мысленно он не одобрял слишком сухо подчеркнутую прямолинейность начатого разговора. В то же время считал, что интересы дела требовали во всем ясности и четкости. — Наша пехота с танками преследуют врага в направлении Западного Буга. Мне приказано силами сводного подразделения — стрелков, курсантов-танкистов, связистов, хозяйственников — расчистить шоссе от разбитой техники, чтоб облегчить подвоз всего необходимого для боя к границе, в район боевых действий, и в содружестве с вами оборонять данный участок дороги. Вас подбили на открытой местности… Механик, через сколько минут вы сдвинете танк с места?
Моторный нежно погладил ладонью кормовую броню, сделал шаг назад и посмотрел на БТ-7 так, словно тот был его другом и советчиком.
Если бы нам помогли человека три пехотинца, то через минут 30-40…
— Сейчас пришлю… Срочно подвинуть танк к шоссе. Замаскироваться в придорожных кустах и выполнять задачи: заканчивать ремонт и находиться в постоянной готовности огнем с места отразить новые вылазки противника. Ясно? Действуйте!
— Слушаюсь, товарищ старший лейтенант! — ответил Гридин.
Олимпиев хотел уходить, но заметив на лицах курсантов сиротливые выражения, скупо улыбнулся:
— Не горюйте. Вы не совсем сироты. Мне известно, что в дальнейшем вами будет командовать старшина Кирьяков.
Слова Олимпиева несколько согнали с курсантских лиц мрачную тень.
Он, не прощаясь, ушел. Курсанты какое-то время не двигались с места, ошеломленные тяжелыми жертвами, неясностью событий.
Новая вспышка недалекой стрельбы заставила взяться за свои дела.
Моторный проверил состояние двигателя, тщательно очистил зажигание от песка, осмотрел, прощупал основные агрегаты, узлы. Его мерное дыхание, без вздохов, свидетельствовало о том, что он не находил серьезных повреждений. Через минут десять двигатель завелся. Танкисты несказанно обрадовались. Четкий, ритмический рокот танкового мотора успокаивал нервы, отгонял страхи, вселял надежду, укреплял веру.
— Ваня, хватит услаждать слух, — нарушил приятное оцепенение Гридин. — Установи минимальные холостые обороты и выскакивай наружу — надо соединить гусеницу, а то вон уже «гости» летят, — показал он рукой на край дальнего леса, где с гулом выползала темная группа самолетов.
Бомбардировщики прошли стороной, на восток. Возле городка захлопали зенитки.
К танку подбежало четверо пехотинцев.
Бойцы, сообща, наскоро кое-как соединили искалеченную гусеничную цепь, собрали и сложили запчасти на броню. Танк тронулся с мест. Покидал свою открытую стоянку. Со страшным железным скрежетом, сопровождаемым проскакиванием зубьев в зацеплении ведущего и ведомого колес с покореженной и плохо натянутой гусеницей, БТ-7 медленно, на первой скорости, двигался к шоссе. Как тяжело раненный воин, но гордый и грозный, он прощупывал впереди себя стволом пушки воздух. В железном скрежете как бы слышалось: «Помогите мне чуть-чуть, я вам сторицею отплачу. Вы еще не знаете моих способностей… Ну, ну, еще немножечко…»
Танк слегка уклонялся то в одну, то в другую сторону, делал остановки, вздыхал, выравнивал свой маршрут. И все-таки приковылял к укрытию. В тени придорожной посадки он облегченно отфыркался и замолчал. Экипаж сразу стал готовиться к бою.
Красноармейцы замаскировали машину, помогли размонтировать поврежденную гусеницу. Одному из них Олимпиев приказал вырыть ячейку для пулеметчика впереди танка, у самой дороги.
Старший лейтенант поманил Гридина к своему НП.
— Здесь, на изгибе шоссе нам выгодно иметь две огневые точки, подготовленные для ведения огня вдоль левой и правой частей дороги, — излагал он свой замысел. — Танковая башня с пушкой может держать под обстрелом местность вкруговую, на 360 градусов. Пулемет вы снимете с танка и установите под естественной маской — вон, под тем шиповником, — дооборудовав уже подготовленную для вас щель. Досконально изучите сектор обстрела…
Олимпиев указал курсанту на местности ориентиры и побежал руководить инженерными работами. Он торопил бойцов то и дело, поглядывая на запад, прислушиваясь к яростным приступам стрельбы.
Гридин и Самохин забрались в танк, опробовали действие подъемно-поворотного механизма, затвора пушки. Моторному было показано, как самому справиться с заряжанием орудия, ведением огня, если к этому вынудят обстоятельства. Определены расстояния до резко выделявшихся вдоль дороги ориентиров. В дальнейшем Самохин продолжал с механиком-водителем восстанавливать движитель танка, будучи в готовности в любой момент вскочить в башню и открыть огонь.
Гридин снял с машины ДТ, взял магазины, патроны и ушел в свои окоп. Оставалось расчистить площадку для пулемета, замаскировать бруствер, снарядить патронами дополнительные диски.
Курсант, глядя в прицел ДТ, изучал свой сектор обстрела. Определил ориентиры и дистанции к ним: отдельной дом, слева от шоссе — 400 метров, старая сосна на песчаном пустыре — 300 метров, придорожный, развесистый дуб — 200 метров… Все эти объекты мрачно рисовались на мутно-желтом небосклоне, подернутом дымами, в которых вспыхивали огни.
Гул боев в ближайших окрестностях не прекращался ни на одну минуту.
Слух курсанта ловил и другие звуки. Где-то прозвенела робкая трель жаворонка. В бездонной голубизне неба ничего не было видно, кроме одиноко парящего коршуна. Далее, на западе, над опушкой темно-синего леса, всполошилась стая воронья.
— Товарищ старший лейтенант, на шоссе что-то задымилось, — доложил наблюдатель с высокого дуба.
— Прекратить работы! В ружье! — скомандовал Олимпиев.
Бойцы заняли свои места. Недооборудованная оборона замерла в напряженном ожидании. Старший лейтенант рассматривал в бинокль дальнюю перспективу — шоссе. Из пылевого облака вырисовывалась грузовая машина с прикрепленными к кабине и кузову маскировочными ветками. На загроможденных участках дороги разбитой техникой она двигалась медленнее, часто останавливалась.
— Никак, наши, товарищ старший лейтенант… — предположил наблюдатель. — Видать, прикончили фрица и возвращаются с победой. Как есть всему конец.
— Держи карман шире, — возразил старший сержант. — Прочисть уши — стрельба за лесом разгорается.
— У него вся энергия ушла в зрение, для слуха ничего не осталось.
Загадочный грузовик приближался.
— И все же наблюдатель наполовину прав, — сказал Олимпиев. — Глазищи у него, как у кота ночью… В кузове – красноармейцы с оружием… Никому из укрытий не высовываться! Сержант Сметкин и рядовой Ургаев, остановить машину и узнать, кто в ней.
Бойцы выскочили на шоссе. Полуторка, взвизгнув тормозами, остановилась. Открылась скрипучая, продырявленная дверца, с подножки спрыгнул знакомый Олимпиеву сержант. Командир поднялся навстречу. Тот подтянулся, заправил за ремень рваные лоскутья гимнастерки. Его возбужденные глаза сверкали, ноздри трепетали, но начал доклад четко и внятно:
— Товарищ старший лейтенант, сержант Квач с отделением красноармейцев прибыл в ваше распоряжение для выполнения специального задания, — и с миной секретности на лице достал из планшетки топографическую карту, по которой вполголоса продолжил доклад.
Лицо Олимпиева стало серьезным. Спокойные, короткие фразы свидетельствовали о том, что обстановка осложнилась.
— Старший сержант Сметкин! Покажите вновь прибывшим бойцам на правом фланге место для окапывания. Шофер полуторки, продолжайте путь в город, без задержек!
Тот, кто знал Олимпиева, догадывался, что восклицания в конце фраз означали не что иное, как такое обострение опасной ситуации, которое еще позволяет принять кое-какие меры.
Когда красноармейцы, спрыгнув с кузова, и во главе со старшим сержантом повернули на запад, а облегченная от груза машина с грохотом запрыгала в противоположную сторону, сержант Квач, с видом бывалого и умудренного боевым опытом человека продолжал:
— Мы тоже вначале считали, что именно здесь решалась судьба вражеской вылазки, — сержант небрежным местом показал поле с разбитой и сожженной военной техникой. – На самом деле, мы имели дело только с небольшим отрядом гитлеровцев…
Олимпиев не перебивал сержанта. Подавив в уголках губ еле заметную ироническую ухмылку, он сделал знак поторапливаться. Поощряемый вниманием старшего лейтенанта и его ближайших помощников, Квач увлекся:
— Большие силы врага стремятся прорваться к Владимиру -Волынскому. Прут, как бараны, просто плюнуть негде, не иначе, как пьяные. На пути грудью встали советские стрелки, уровцы, артиллеристы. На обочинах пограничной дороги замаскировались наши противотанковые орудия. Пехотинцы и артиллеристы близко подпустили вражескую мотоколонну и внезапным огневым налетом устроили в немецком «образцовом порядке» тот порядочек! — своими собственными глазами видел. Фашисты забегали, загалдели, стащили в сторону разбитые машины, и, прикрываясь стеной своих танков, вновь двинулись. Как ни отбивались артиллеристы — противотанкисты, уровцы, стрелки, все же фашистскому бронированному кулаку удалось пробить нашу оборону. Беда! Надо исправлять положение. И тут подошла наша крупная артиллерия. Все орудия, в том числе и гаубицы, как ударили прямой наводкой, вышла каша. Ихние танки запылали, как банки с бензином. В колонне рвались бочки с горючим, забрызгивая и заливая огнем солдат. Я вам доложу: пожарище бушевало аж до самого неба. У Гитлера натурально получилась загвоздка. Все его старания сбить с шоссе советскую артиллерию ни к чему не привели. И он стал искать обходы. В одном месте пролез…
— Мы здесь встретились с настырной группой, — вставил кто-то.
— Да, гитлеровцы не унимались, перетащили из-за Буга новые силы и ударили по нашим флангам. Выбрали места, где не было артиллерийского усиления. Пришлось срочно снимать с центра орудия и перенацеливать на вновь угрожаемые направления, — рассказывал Квач так, будто лично принимал решения и добивался их осуществления. — Вы представляете, что значит снять с ОП такую махину, перетащить на новое место и подготовить новые данные для стрельбы — это целая история. Нам угрожало вражеское окружение. И тут как тут нагрянули наши славные танкисты. Всего четыре танка Т-34, но они резко изменили погоду. Стальные красавицы как ушкварили по открытым вражеским колоннам, вмиг смяли и опрокинули их назад…
— Молодцы танкисты, — восхитился старший лейтенант. — Они и здесь отлично показали себя, как на машинах, так и в пешем строю. Там на флангах Т-34 действовали в качестве кочующих орудий?
— Так точно! — подтвердил сержант. — Наш командир части говорил, что танки действовали, как подвижная артиллерия. На практике эффект получился оглушительный. Я на себе испытал, случайно попав в мертвое пространство. В течение пяти минут над моей головой играла тридцатьчетверка своими двумя пулеметами под аккомпанемент танковой пушки, мамочка моя! Что творилось! Все едино, что конец света… Я будто уже был на полпути в сущий ад… После этого представляю самочувствие фрицев…
Подошел старший сержант Сметкин. Олимпиев выслушал доклад о ходе окапывания, отдал распоряжение приступить к маскировке и спросил Квача:
— Каково сейчас положение в месте вражеского прорыва?
— Агрессора набито тыщами…
— А наши потери?
— Нет.
Все поняли, что ничто не было так далеко от истины, как это отрицание. И сержант тут же поправился:
— До сегодняшнего дня я занимался в штабе учетом личного состава. Совсем недавно получил от своего начальника указание: быть связным, попутно учитывать убитых врагов, а со своими потерями разберемся вечером, когда полностью ликвидируем агрессора… Одним словом, наши стоят грудью и не видно, чтоб падали… духом. Но… Я вам докладывал…
Старший лейтенант развернул карту:
— Введите в курс дела сержантов.
— Прорвавшийся гитлеровский отряд на мотоциклах, велосипедах и двух транспортерах движется вот по этому проселку, — показал Квач извилистую черную линию, которая выходила к шоссе в том месте, где начиналась оборона сводного подразделения. – Если бы фашистам удалось овладеть возвышенностью с изгибом шоссе, они перерезали бы единственный путь снабжения боеприпасами наших подразделений, которые дерутся у границы и угрожали б непосредственно Владимиру-Волынскому…
— Стоп! Что ж вы раньше не показали мне этот проселок? — всполошился старший лейтенант. — В этом месте наша оборона не приспособлена воспрепятствовать выходу противника на шоссе. Боюсь, что нам не успеть сменить или даже перенацелить свои правофланговые позиции…
Все задумались. Раненый в руку сержант, как бы про себя рассуждал:
— Получается, что если противник обнаружит наш правый фланг, — а это просто, потому, что он идет к нам с тылу, — то наша засада окажется в невыгодном положении…
— Надо придумать что-то такое, чтоб враг не мог обнаружить наши окопы, чтоб его заманить каким-то калачом в секторы обстрелов наших пулеметов… — говорил сержант Квач с присущим ему видом знатока.
— Все ясно, — прервал Олимпиев с решимостью перейти от слов к делу. — Надо срочно усовершенствовать нашу оборону. Товарищ Сметкин, немедленно снимите свое отделение с правого фланга и переведите на противоположную сторону шоссе. В конце картофельного поля, на возвышенности, займите те ячейки, которые вы оборудовали утром. В этом случае несколько изменится характер выполнения задачи. Если противник» выходя с проселка на шоссе, обратит внимание на оборону — боюсь, что вас подведут увядшие ветки и свежая земля — и начнет прощупывать, мы не подадим никаких признаков жизни, а вы, товарищ Сметкин, издали, двумя-тремя винтовочными выстрелами привлечете врага на себя… Это один калач, которым можно заманить врага в ловушку. Второй – вон, за поворотом, мост. Товарищ Муркин, сбегайте сейчас же туда, оборвите траву на обочинах возле перил так, чтоб столбики моста хорошо просматривались с запада. Обозначьте также ширину проезжей части вешками с пучками травы на концах.
Красноармеец сразу побежал выполнять приказание.
Старший лейтенант неторопливо, как бы механически, не думая, снял фуражку, надел каску, поправил на ремне кобуру, гранатную сумку, расправил складки гимнастерки. Внешний вид, аккуратно подогнанное снаряжение, жесты удивительно точно гармонировали с ясными, логически убедительными мыслями, которые он продолжал излагать.
— Таким образом, противник, привлеченный заманчивым видом моста и слабыми, неуверенными выстрелами из окопов на возвышенности, будто прикрывающих мост, неизбежно постарается выйти на шоссе, чтоб опираясь на кюветы, двинуть к мосту. Как только вражеский отряд окажется в зоне нашего кинжального огня, мы по моему сигналу сначала огневым ударом, а потом контратакой при поддержке огня из танка наголову разломим кичливого врага. Товарищ Сметкин, бегом в отделение, без суматохи выводите людей из окопов и галопом на новое место, — закончил Олимпиев твердым, пониженным голосом.
Старший сержант со всех ног бросился кратчайшим путем к отделению. Он знал, что значило в речи Олимпиева отсутствие восклицаний.
Как только на картофельное поле стала выходить цепочка бойцов, наблюдатель тревожно доложил:
— Товарищ старший лейтенант, справа, на проселке — мотоциклы…
Квач, Гридин, раненый сержант окинули взглядами незавершенные окопы, отделение Сметкина на открытой местности, длинную змейку гусеницы, инструменты около танка и значительно переглянулись. Потом, как по команде, перевели свои вопросительные взгляды на Олимпиева. Тот вскинул к глазам бинокль. После паузы четко, с философским спокойствием, пропечатал:
— Сметкин, назад. Бегом, к танку. Всем замаскироваться. Замереть.
В конце каждого короткого распоряжения он подчеркнуто ставил точки. Ни малейшего намека на восклицание, тревогу. Все понимала, что это означало высший накал напряженности обстановки. Дальнейший ход событий зависел от степени перевоплощения воли командира в своих подчиненных.
Бойцы потеснились, в ячейках, дав место отделению Сметкина.
Самохин и Моторный улучшили маскировку БТ-7, кое-как забросав ветками, оставленные вокруг него инструменты, детали и заняли свои места в танке. Гридин вложил снаряженный магазин в пазы ДТ и изготовился к стрельбе.
Зазвенела трель жаворонка; в ответ ударил перепел.
Эта странная перекличка на мертвом поле боя как бы напомнила людям, что живая природа неистребима и продолжает стойко сопротивляться урагану войны, что жизнь берет свое.
Бойцы, слушая птичьи голоса, поправляли маскировочные ветки, проверяли оружие, изготавливались преградить путь смерти.
Старший лейтенант Олимпиев приказал наблюдателю кошкой, незаметно спуститься с дерева, и занять свой запасный пост в придорожном окопе.
Сам не отрывал глаз от бинокля.
Вдали, под лесом, заклубилась серо-желтая пыль. На ее фоне показались темные точки. В движении они заметно подпрыгивали, увеличивались и начали чем-то сверкать. Беззвучное ведение огня? А, возможно, световая сигнализация?
— Блестящие детали отсвечивают на солнце, — успокоил Олимпиев.
Стала доноситься беспорядочная трескотня. Затем послышался гул, который поминутно нарастал. Выделялось завывание моторов. Мотоциклы. Один, два, три… За ним пылил какой-то диковинный транспорт. Второй… Гридин стал различать в кузове отблески вражеских касок. Потная гимнастерка начала холодить. На спине забегали мурашки. Каждый удар сердца отдавался в голове, ушах орудийным выстрелом.
— » Это же враги, с которыми ты мечтал сблизиться, — упрекнул внутренний голос. — Радуйся…” А в глазах любопытство, изумление, страх…
Усилием воли он старался подавить в себе страх. Одновременно искал мысленное оправдание: мол, оказался не в своей тарелке; с какой уверенностью можно было бы держать сейчас врагов из башни БТ-7 на перекрестье оптического прицела! А тут дрожи, как голый, под кустом, у пулемета…
За последней вражеской машиной беспорядочной гурьбой накатывала группа, похожа на велоспортсменов. Воинство на велосипедах?! Это несколько ослабило первоначальное, тревожное впечатление.
Выстрелы с переднего мотоцикла — заставили вздрогнуть. Среди картофельной ботвы запрыгали пылевые вихорьки. От остова сгоревшего танка с завыванием отрикошетировали пули.
Перед выездом на шоссе отряд остановился. Две-три минуты тягостного ожидания. Это время показалось вечностью. У Гридина заболели глаза от напряженного всматривания в пришельцев из чужого мира. И любопытно, и страшно, и возмутительно. Реально ли все это? Ни дать ни взять оловянные солдатики на каких-то игрушечных колесиках. Все казалось угловато-тупорылым: короткие мотоциклы, машины с усеченными носами, солдаты с тупыми, карикатурными головами-касками, с укороченным оружием.
Вооружен до зубов. На каждом болтаются какие-то коротыши, — приподнимался на носки Гридин.
— Наше штатное оружие превосходит… Да плюс моральный перевес… Воля. Выдержка. Терпение, — резко, выразительно, рубил Олимпиев.
Чеканные слова старшего лейтенанта пронзили все существо курсанта неким вяжущим, скрепляющим средством. Они как-то охладили и сцементировали бурные чувства молодого воина.
Вражеские мотоциклы вышли на шоссе, свернули налево, к засаде.
Гридина разбирали радость и страх. Затаив дыхание, он следил за тем, как фашисты, словно завороженные, вытягивали шеи и обозревали картофельное поле, усеянное разбитой техникой и трупами.
Мордастый гитлеровец в фуражке, с первого мотоцикла, вскинул бинокль к глазам, приподнялся на сидении и долго вглядывался в направлении дымного города и хорошо заметного на шоссе моста. Взмахом руки подал знак. Отряд увеличил скорость.
В засаде прокатилось тревожное напряжение, подобно вихревой волне на хлебном поле, которое примыкало к правому флангу. Резкий порыв ветра, вызвав волнение хлебов, замер в трепетном шелесте листьев придорожных кустов, над головами замаскированных бойцов. На их дубленые солнцем лица, выцветшие гимнастерки падали тени и блики.
Некоторые вражеские солдаты стали поглядывать налево. Головной мотоцикл затормозил, как по заказу: у ближайшего ориентира — старинного дуба, который в прошлом видел немало врагов и, как символ Руси, устоял против грозных бурь. Кряжистый старожил гордо возвышался над дорогой войны в безмолвной готовности служить советским воинам и ориентиром и образцом непоколебимой жизнестойкости и неустрашимости.
Гридина охватило нетерпеливое раздражение. Украдкой пытливо взглянул на командира. Вытянутый в направлении ориентира окаменелый профиль Олимпиева, казалось, реагировал на происходящее не более активно, чем многовековой ветвистый великан, у подножья которого злобно рычали моторы машин с фашистскими знаками.
Курсант не находил себе места. В полусогнутой позе стоял, как на каленых углях. Лихорадочно схватился за пулемет, повел стволом к исполинскому дубу. Установил прицел 200 метров, довернул чуть вправо и мушка, запрыгала по напряженно-выжидательным физиономиям фашистов. Он впервые видел так близко врага в лицо.
Длинный и тонкий, как доска, гитлеровец, весь казавшийся зеленым, со второго мотоцикла не отрывал глаз от поля боя. Приводнялся в коляске, дугой склонился на правую сторону и будто что-то подсчитывал, шевелил губами:
— Разбитая техника… Трупы… Трупы… Кто победил?
— Русских живых не видать. Значит, мы — деревянно ответила фуражка с первого мотоцикла, продолжая изучать в бинокль мост.
«Кажется, клюет на приманку», — предположил Гридин, успокаивал дрожь.
Длинный фриц вскинул автомат и, не целясь, дал очередь в сторону картофельного поля. Лугом прокатилось эхо. Офицерская фуражка указала рукой на мост. И туда просвистели пули. Выстрелы с заднего мотоцикла кромсали листву придорожных кустов, в которых замаскировалась засада. Горсть свинца со звоном отскочила от брони невидимого БТ-7. Казалось, гитлеровцы оживились. Шоссе заполнилось чужим говором, похожим на гоготание встревоженных гусей. Мордастый фашист в фуражке перевел бинокль в сторону нагромождения веток. С минуту не шелохнулся. Потом неохотно, рывками опустил на грудь массивный оптический прибор. Вытянул шею, тронул пальцами горло, крутанул головой так, будто стремился ослабить воротник – веревку на шее. По-бычьи обернулся назад, дал какое-то указание. Крякнул и вновь взялся за бинокль. Коснулся рукой пенсне. Сверкая попеременно — то очками, то биноклем, фашист будто силился разобраться, что пряталось под слегка увядшей зеленью.
Гридин невольно съеживался от холодного, пронизывающего блеска вражеских стекол. В животе что-то опустилось. Горло перехватил спазм. Язык будто присох к небу.
— Нас заметили? – еле прохрипел он командиру.
Старший лейтенант кивком головы призвал к спокойствию. На его лице ничто не отражалось. «Воля. Терпение…» – мысленно твердил сам себе боец, несознательно копируя Олимпиева.
Старший лейтенант, ни к кому не обращаясь, рассуждал:
Транспортеры остановились на фланге. Как бельмо на глазу. Какая сила подтолкнула б их к шоссе? Хотя бы велосипедисты осмелели, сдвинулись бы поближе…
Он не договорил. Враги загалдели, привлеченные чем-то на картофельном поле. Многие из них показывали в сторону дальних кустиков и желтоватых холмиков. И не без причины.
На мертвом поле боя выросла, как из-под земли, фигура человека. Простоволосый, без оружия, неизвестный, как ни в чем, ни бывало, медленно шагал к шоссе. Остановился. Раскланялся, будто на сцене, демонстративно принял артистическую позу, и — произошло совершенно неожиданное — послышалось пение:
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой
Умирал ямщик.
Гром с чистого и ясного волынского неба не произвел бы такого потрясающего эффекта, как столь необычное соло.
Фашисты на дороге, советские бойцы в укрытии, хотя по-разному, но и те и другие оцепенели от изумления. Не мираж ли в опаленном войной и зноем поле? Призрак? Но в мнимых сказочных видениях, ни существа, ни вещества — они безгласны, а этот поет.
Плоский мотоциклист, видимо, намеревался проверить реальность видения — пересел к пулемету и стал прицеливаться в химерного певца.
— Отставить! — возразил гитлеровец в фуражке. — «Стэп да стэп» — известная русская песня. Пусть допоет. Это последний солдат разгромленных русских войск. Он — сумасшедший. Но его пение — символично. Мы слышим лебединую песнь Красной Армии…
Олимпиев и Гридин, хорошо знавшие немецкий язык, вопросительно переглянулись. В глазах обоих проскакивали огоньки восторга и замешательства, гордости и угнетенности, злости и ненависти. Губы, скулы побелели – они до боли сжимались.
Загадочный солист в каком-то сумасбродном экстазе поднял руки вверх.
Этот жест враги истолковали просто: обреченный взывал к помощи всевышнего. Советские воины видели в выразительном взмахе дерзновенного человека стремление подняться ввысь и показать всем, что волю свободолюбивых людей никому не сломать.
Живой, волшебно-гармонический напев среди мертвого поля боя подействовал на суеверных иноземцев алогично падению солнца с неба, на советских воинов — подобно новой вспышке сияния дневного светила, которое озарило путь к победе.
И враги и свои тяготели к чудо — певцу так, как магнитная стрелка компаса к полюсу. Объективно вышло так, что из ряда вон выходящая увертюра сумела на какой-то отрезок времени возбудить у той и другой стороны самые разноречивые мысли и чувства.
Между тем, независимо от воли и желания исполнителя, широко известная русская песня, ее мелодия, в конкретной драматической обстановке, рисовала в музыкальных образах шаги, поступь движущихся народов, грохот и гул столкновения армий двух миров, начало конца фашистской авантюры, и всего «нового порядка» в Европе.
Старшему лейтенанту и Гридину показалось, что певец упорно смотрел в направлении замаскированного танка.
— Муркин? — спросил курсант.
Олимпиев неопределенно покачал головой.
Гридин стремился рассмотреть личность смельчака. Странный облик вызывал и жалость, и восхищение: длинная, чем-то вымазанная гимнастерка, отсутствие всякого снаряжения. А сколько в ней силы! Из-под лохмотьев на груди пестрели полосы, похожие на морскую тельняшку. Что-то неуловимо знаковое показалось во всей загадочной фигуре. А голос? Тоже напоминал… Курсант боялся поверить своим глазам, ушам, предположениям.
Хвост отряда быстро подтянулся, вышел на шоссе. Фашисты сгрудились, напирая на мотоциклы.
Гитлеровец в фуражке гневно взмахнул рукой:
— Прекратить шум! Заглушить моторы…
Вымуштрованные солдаты превратились во внимательных слушателей и зрителей. Необычная аудитория была поглощена экстраординарным пением.
В чем-то неуловимом чувствовалось, что увертюра висела на волоске, что приближался кульминационный момент, предстояла кровавая развязка.
— Смотрите, певец делает какой-то пригласительный знак. Кому? Врагам или нам? — чуть не вскрикнул Гридин.
Фашисты обратили внимание на непонятные жесты солиста. Тонкий зеленый гитлеровец заерзал на месте, нагнулся вперед и что-то нетерпеливо проговорил мордастому.
В высокой ноте певца ясно прозвучал боевой призыв.
— Момент… — отмахнулся офицер, как бы воодушевляясь, выразительной мелодией. — Смотрите внимательно, последний раз, на уцелевшего русского солдата…
И на этом прелюдия к драме закончилась.
— Дождешься – когда солнце превратиться в лед! Твоя болтовня – твоя же и лебединая песня! — крикнул Олимпиев, четко выговаривая немецкие слова.
Гитлеровец в фуражке обернулся. В его расширенных глазах встал вопрос, на который ответил советский командир одним словом: — Огонь!
Пулемет Гридина задрожал и запрыгал, словно стремился вырваться из рук и броситься на врага. Натянутая до предела тетива с тонким вибрированием отпустилась. Вся засада ощетинилась смертоносным огнем.
Меловое лицо фашиста в фуражке вдруг приняло багровый оттенок. Дикая судорога исказила рот: «Донерветер!»,- гитлеровец схватился за грудь и рухнул на землю. И было от чего: слева старшего лейтенанта действительно потонули в «громе и молнии» (русский перевод «Доннерветер»). Увертюра закончилась.
Луг, который ранее слушал мирное пение кос, а накануне вечером — мелодичные народные песни, теперь был заполнен визгом тысяч пуль, созвучных с косьбой. В разноголосой симфонии пулеметов, винтовок, автоматов мощно звучал аккомпанемент танковой пушки.
Как в субботу, под взмахами косарей падала срезанная трава, так в тот воскресный день от ударов оружия советских воинов валился фашистский бурьян, взращенный в Германии и занесенный гитлеровской бурей на советскую землю.
И еще одно сравнение. Легендарные музы не только очаровывали в конце рабочего дня тружеников поля — как это было в конце прошлой трудовой недели, — но и застигнутые врасплох в тяжкую годину па поле боя, повернули свое поэтическое оружие против врага.
Гридин поискал глазами бесстрашного певца. Мертвое пространство пустынно. Но тень необычного солиста, казалось, витала в дымках многочисленных выстрелов, а его голос как бы продолжал создавать фон боевой музыке. Самохин впоследствии делился своими впечатлениями. Ему показалось в дыму неистовой пальбы, будто солист благодарственно приложил руки к груди, поклонился в сторону танка и бесследно испарился.
Дорога, занятая врагом плясала многочисленными смерчами, клубилась пылью. В смертельном вихре огня метались фашисты, многие из них корчились на земле, иные скатились в кюветы, откуда раздавалась беспорядочная пальба. Трассы пуль выдавали с головой отчаянное состояние гитлеровцев — огненно-дымные струи вырывались вверх, словно огонь велся по самолетам.
Транспортеры противника успели вывернуться из-под удара, отъехав по шоссе к селу. Сказалась еще неопытность действий воинов из засады, которые били в первую очередь по ближним целям. Гитлеровцы высыпали из машин, растеклись влево и вправо от оси шоссе и, строча автоматным огнем, начали охватывать полукругом правый фланг засады. Велосипедисты бросили свой транспорт на дороге, уползли назад, к поселку, и стали оттуда угрожать обходом с тыла. Со стороны домика, что выделялся на окраине села, послышались частые глухие звуки: «Бум!.. Бум!.. Бум!..”, словно кто-то ударял в пустой, не звонкий металлический сосуд.
Гридин прекратил огонь из пулемета, стараясь разобраться в обстановке, да и патроны были на исходе. Целей перед собою не видел.
На шоссе, вокруг брошенных вражеских мотоциклов, — никаких признаков жизни. Вдруг перед самым окопом несколько взрывов широким веером взметнуло дорожную пыль, щебенку. Воронок не оставалось. Только – резкие: «Чвах! Чвах! Чвах!…», и все замолкло. «Что за чертовщина? Крупные гранаты? Откуда им здесь взяться?” — недоумевал курсант.
— Мины, — объяснил Олимпиев. — Успел гад разгрузить транспортеры, минометы пристреливает.
С того места, где недавно лилась призрачная песня, гулко застучал крупнокалиберный вражеский пулемет. Род оружия Олимпиев определил безошибочно. Но куда стрелял пулеметчик? На лице старшего лейтенанта изобразилось приятное недоумение: крупнокалиберные очереди настигали гитлеровцев, которые покинули транспортеры и шли на сближение с засадой.
— Да, оттуда ближе, чем от нас… Он и гатит по сволочам, чтоб не успели опомниться после, бесплатного концерта, — заметил Гридин так, будто ему известен таинственный «он».
Тем временем, мины окаймляли НП, огневую позицию ДТ. Курсант силился достать очередями из пулемета врагов, охватывавших правый фланг, но мины поминутно засыпали окоп песком и гравием. Над головой беспрерывно визжали и шуршали осколки. Боец схватил пулемет, намереваясь взобраться на бруствер, чтоб более эффектно расстрелять остаток патронов. В это время в окоп свалился старший лейтенант.
— Куда? Не дури, танкист, — энергично дернул он курсанта вниз за поясной ремень. — Нам надо придумать, сообразить что-то умное… Бойцы ждут решительных действий.
Не выпуская из рук пулемета, Гридин нагнулся головой к командиру. Бруствер содрогнулся новым взрывом. Какая-то сила так рванула ДТ, что левая рука Гридина еле удержалась в предплечье. Гридин сначала дернулся вверх, потом осел на дно окопа, осыпанный сверху землей и маскировочными ветками. Сгоряча не почувствовал боли, но перед глазами все заколебалось и поплыло, будто в угарном дыму. Под ноги упал изуродованный пулемет, уткнувшись стволом в желтую глину стенки окопа. Влажная почва зашипела от раскаленной стали, распространяя сизый пар и запах сырости. Олимпиев ощупал бойца, убедился, что тот цел, выбросил наружу покореженное осколками оружие, говоря:
— Хорошо, что ты послушался парень, вовремя нагнул голову ко мне, иначе могло быть плохо. Сейчас прекратится обстрел. Я дал сигнал танку пока замолчать. И нам не с чего стрелять. Пусть фашист на минуту вообразит себе, что подавил нас. Да… Маху дал твой товарищ в башне — не ударил из пушки по транспортерам. Упустили мы такую благоприятную ситуацию, созданную безвестным соловьем из картошки… Кабы танк на ходу… Рвануть бы сейчас по дороге на те минометы… Жаль, что не сумели гусеницу натянуть…
Гридин, подавленный оглушительным ударом над головой, не мог слова вымолвить. Через минуту с усилием встряхнулся:
— Надо… Попробую — шевельнул окровавленными пальцами: — Ничего действуют. Я не я буду, если танк сейчас не загремит…
Олимпиев сдержанно хмыкнул: мол, фантазия, не лучше, чем бездействие.
Минометный огонь удалился вправо. Видно было, как взрывы неистово разбрасывали маскировку над окопами. Гридин воспользовался мгновением затишья над головой, выполз из своего полуразрушенного гнезда и кинулся к БТ-7. Только в пути ощутил нестерпимую боль в левом плече. Рука с трудом повиновалась, словно наполовину отбитая. Стиснув зубы, боец полз. Наконец, уткнулся головой в маскировку танка. Еще рывок и очутился в тени веток. Пошарил здоровой рукой. Нащупал то, что искал — увесистый молоток и новый, маслянистый палец трака. Подполз к исправной гусенице. К счастью она оказалась с необстреливаемой стороны. Поднялся и начал с помощью запасного пальца и молотка демонтировать гусеницу. Из люка показался пистолет, затем на испуганном лице Моторного панический вопрос: «Какой-то черт с тылу готовит взрыв?..»
— Успокойся, вернее, разозлись… Заводи двигатель. Приготовься к движению колесным ходом.
Механик-водитель опешил: «Как это?» И медленно повернул голову не в сторону врагов, а назад. Блуждающий тупой взгляд различил на дальнем горизонте одинокие деревца. Это были те груши-дички, возле которых курсант немало потел и пеши, по-танковому, и сегодня утром дважды надевал гусеницу. Неожиданно в сознании приобрели новый, глубокий смысл и тернистый путь учебы, и жесткие требования Ярового… Молодой танкист понял, что от него требовалось в данной ситуации. Его черные глаза — угольки вспыхнули: «Идея!» и лоснившееся масляными пятнами лицо мгновенно исчезло в танке.
С металлическим звоном разъединилась гусеничная цепь. Тут же раздался рокот мотора. Большая сосновая ветка отвалилась от башни танка. В обнаженный открытый люк со стоном опустился Гридин.
Слезы у него брызнули из глаз, когда воля заставила разойтись, раззудится травмированному плечу. Распалилось изболевшее молодецкое сердце.
— Готово. Вперед! Пушка, осколочный!… — болезненно срывался на дискант голос командира танка. Он со стоном сел на свое место. Глаза впились в прицел. На фоне четкой сетки — приближенная перспектива шоссе, вдали — домик, враги. Ощупью, устанавливая на шкале дальность, стремился унять волнение: — Фу, какая у вас тут жара!.. Не мешкай, Ваня. А ну-ка, с ветерком!..
И странно: это с нечеловеческим трудом наигранное спокойствие боевые друзья воспринимали всерьез.
— Само собой… — буркнул Моторный; языком он работал несравненно медленнее, чем руками, ногами.
Машина плавно выкатилась из-под укрытия, оставив на месте стоянки, серебристые змейки гусениц. Под колесами захрустел гравий. Правый поворот. Остановка. Пушечный выстрел. Не успела рассеяться пыль, как БТ-7 учащенно задышал своим мотором, выбрасывая из ноздрей — выхлопных труб сизые, теплые облачка — эдак с фертом, кольцами! Его стальное тело загудело, задрожало и рванулось вперед. Под ним затрещали детали головного мотоцикла противника, который нельзя было объехать.
Следом за танком, в клубах пыли и выхлопных газов, возникла фигура старшего лейтенанта Олимпиева с поднятым в руке пистолетом.
— Ребята, за мной! Не отставать от танкистов! — призвал он.
Командира поддержали бойца стихийным: Ура!… Боевая машина, словно зацепила левый фланг невидимым крючком и потянула за собой. Увеличивая скорость, БТ-7 под звуки своей боевой песни извлекал из придорожных кустов все новые звенья живой красноармейской цепи. Танк все сильнее, отфыркиваясь, угрожающе урчал, вздрагивал и набрасывался на врага, как живое существо.
На правом фланге засады зашевелились маскировочные ветки. Видно, бойцы с нетерпением ждали, когда поравняется с ними стальной конь, броситься за ним. Наконец, танк вытащил из кустов всю засаду, свернул ее и, содрогаясь на ходу орудийными выстрелами, потянул за собой на запад бывшую оборонительную линию, превратив ее в неудержимый наступательный поток.
Удивились и враги. Те, которые пытались обойти правый фланг, неожиданно бросились наперерез танку, к шоссе.
Гитлеровцы попытались было кинуться к своим мотоциклам, велосипедам, но пушечный огонь БТ-7 рассеял их, частично истребив.
Гридин почувствовал, как к нему возвращались силы и уверенность. Казалось, он пьянел в пылу боя.
Когда приблизились к селу, на окраине которого, за плетнями прятались вражеские минометчики, Гридин выстрелами с короткой остановки поджег транспортер, уничтожил три миномета, дважды ударил по штакетнику, за которым мелькали черные каски и в изнеможении опустился на кучу стреляных гильз.
— Вон кто наш спаситель!
Запыленные, потные, но с сияющими от радости глазами, бойцы окружила быстроходный танк.
— Чудо-конь! В затишок еле дотащился, а пришла беда, вихрем помчался!
— Оказывается, он может и на гусеницах, и на колесах…
— Эта стальная махина и летает. Видели, как овраг перелетела! А там ширина — ого!
— Война… Бетушка — старушка даже раненая не подкачала…
Старший лейтенант Олимпиев поднялся на жалюзи, помог Гридину выбраться из люка башни. Обнял по очереди всех танкистов, благодарил за помощь.
Прибежал красноармеец-санинструктор. Осмотрел руку Гридина, перевязал небольшую рану.
Командир экипажа бетушки постепенно приходил в себя. Лицо молчаливого Моторного тихо светилось от радости. Самохин прикладывал к царапинам, ожогам, ссадинам листья подорожника, кого-то про себя ругая.
Старший лейтенант Олимпиев громко распорядился:
— Довольно праздновать! Прочесать кусты, канавы. Отовсюду выковырять уцелевшего фашиста. Подобрать трофеи – исправное оружие и боеприпасы к нему. Проверить личный состав, оказать помощь раненым. Осмотреть место, где выступал «артист»!
Танк вернулся к своим гусеницам. Красноармейцы помогли танкистам завершить ремонт.
Группа бойцов осматривала каждый кустик, окоп, овражек. Опять был замаскирован мостик.
Когда Гридин на мгновение поднял голову от работы, то увидел, что по картофельному полю шли бойцы, кого-то толкая впереди себя. Меж конвойными, неуверенно ступая и пошатываясь, двигалась невысокая, взлохмаченная фигура.
— Поймали!… Пленного ведут. Гляди — живой фриц, заговорили бойцы, всматриваясь в невиданную процессию.
— А почему он в нашей гимнастерке?
— Переоделся. Шпион, видать…
Сержант, который проверял картофельное поле, доложил старшему лейтенанту:
— Нашли среди убитых гитлеровцев. Прикидывался мертвым. Не выпускал из рук крупнокалиберный…
— Что ж, до упаду бил из пулемета по нашим,- вмешался чей-то злой басок.
Неизвестный порывался что-то лепетать, дрожал и покачивался, поводя мутным взглядом, как человек, который, после сильного потрясения, не мог прийти в себя.
Старший лейтенант впился внимательным взглядом в лицо «пленного»:
— Стоп, хлопцы! Да это же пеший танкист.
Гридин, опередив других, схватил в объятия друга детства:
— Петро! Откуда ты?.. Главное — живой!..
Троян пошевелил пересохшими, потресканными губами:
— Похоже, что с того света? Возможно…
Ну, вот и нашелся, — обрадовался старший лейтенант.
— Постой, постой!.. А кто пел?
Троян тупо уставился на Олимпиева, будто никак не мог сообразить, о чем его спрашивают.
— Кто же, как не он! — поспешно вмешался Гридин.
— Я и смотрю: что-то знакомое… Кто б мог подумать, что и песней можно бить врага. На такое не каждый решится…
— Вон оно что!.. — загудели кругом бойцы.- А тут: фашист, шпион… Если бы не его отчаянный голос, то нам было б не до шуток…
— Ладно, Петро. Теперь:
0дірви ж од серця тугу,
Рознеси по полю…
— сказал Гридин.
— А то, слышишь? Опять:
Гуде Biтep в полі.
Реве, ліс ламає…
— добавил Самохин.
— Прекратить «концерт»! Все по местам! — подал команду
старший лейтенант Олимпиев и сам поторопился на НП.
С Трояном отправился в кусты санинструктор.
Когда начало вечереть, старший лейтенант вызвал к себе курсантов.
— Товарищи танкисты! — сказал он. — Вы уже не курсанты. Вы успешно выдержали экзамен за танковую школу, закончили академию первого дня войны, получили боевое крещение и стали настоящими специалистами танкового дела. Откровенно скажу: нам без вас будет плохо. Но вы должны привести свой танк в полную боеспособность, то есть закончить ремонт, пополнится горючим, боеприпасами…
Он показал на карте, где нужно искать командование танковых частей.
Троян втиснулся в танк четвертым. Захлопнулись люки. Подал бодрый голос мотор. Заскрежетали гусеницы, БТ-7 вышел на шоссе и помчался в направлении Владимира-Волынского.
Багровое солнце, подернутое дымами, висело низко над мрачным лесом, утомленное и тусклое. А на востоке отсвечивали блеском крест и купол церкви. Вскоре Троян разглядывал через смотровую щель одноэтажные домики городской окраины. Они казались безлюдными. Однако неожиданно вблизи грохнул взрыв. «В пути могут встретиться диверсанты, парашютисты. Не затевать с ними перестрелку», — Гридин вспомнил предупреждение Задорожного.
— Прибавить газу! — потребовал он.
По извилистым, опустевшим улицам стелился дым пожарищ. Несло паленой шерстью, кожей, горелым хлебом. В вечерних сумерках суматошно мелькали какие-то тени. Снаружи послышалась пулеметная очередь. Пули застучали по танковой броне.
— Как в бою, — бубнил Самохин. — Только врага не видно.
Маневрируя по окраинным кривым улочкам, танк выбрался за город.
Пыльной дорогой тащились подводы с беженцами, всюду ревел скот, плакали дети. Люди удивленно, грустными взглядами провожали танк, который, обгоняя их, мчался в тыл.
Перебравшись через мостик, с которого пришлось разогнать стадо коров, коз, въехали в село, и машина пошла медленнее. На улице толпились празднично одетые крестьяне; они приветственно махали танкистам.
— Вот чудеса, — удрученно крутнул головой Моторный. – Чего это повыряжались, как на торжества? Семечки щелкают.
— Может, гитлеряк приготовились встречать? — угрюмо произнес Самохин. — Смотри, чтоб с букетом цветов гранату не бросили.
— Не думай так плохо о простых людях, — покачал головою Гридин. — По машине стреляли не местные жители, а заброшенные в наш тыл фашистские диверсанты. В селе же все друг друга знают, тут чужой не спрячется. Сегодня воскресение, нерабочий день. Вот люди и оделись с утра в праздничное. Кто мог предположить, что такие события разразятся на границе?
Танкисты миновали село. На окраине увидели регулировщика, который показал им прямо проторенную дорогу по целине в рощу. Механик-водитель осторожно повел танк по свежей колее, наезженной колесными машинами. Они остановились на опушке рощи, под кроною ветвистого осокора.
Изнуренные, измученные танкисты, качаясь, выбрались из машины. И сразу опьянели от чистого вечернего воздуха.
К ним подбежал боец, с противогазом через плечо, и штыком на поясном ремне, в чистой гимнастерке, сияющих сапогах, с улыбкой на румяном лице. Гридину показалось, что это ему снилось.
— Командира машины вызывает дежурный, — сообщил боец.
Гридин, на ходу стряхивая пыль, заправляя под ремень подол разорванной, запачканной маслом гимнастерки, побежал вслед за бойцом.
Кроваво-багровое солнце село в дымную, удушливую мглу.
В такие вечера местные пожилые люди говорят, поглядывая на запад: «Ждать бури». А тут не буря, а страшная, смертельная гроза уже катилась с запада. Только до этой рощи еще не достиг ее огненный шквал. Однако никто не хотел верить даже своим глазам и ушам. Люди старались себя и других убедить, что до большой беды не дойдет, что весть о разрешении конфликта следует ждать с часа на час.
Тихо шелестела листва, сонно кидалась рыба в озере на краю рощи. На зеленой поляне в потемках танкисты разбирали свое военное имущество. Звякали пулеметные диски, цинковые патронные коробки, стреляные гильзы, котелки… Все еще было горячим, пышало жаром боя, отдавало пороховым дымом и еще чем-то — чужим и непонятным. А когда от озера дохнул прохладный ветерок, то сразу он принес запахи зеленого ивняка, созревающих хлебов, потревоженной гусеницами и колесами травы.
Троян крепко спал, раскинувшись на брезенте возле танка.
Из темени вынырнул Гридин — серьезный и озабоченный.
Укладывай имущество, хлопцы. Обстановка сложная, неопределенная. Уже дважды менялся район сосредоточения нашей части. Нам приказано подождать старшину Кирьякова, от него получим задание на ночь.
— Порядок! — обрадовался Моторный. — Со старшиной мы не пропадем!
— Никто не собирается пропадать, — оборвал Гридин.- Сложите имущество в машину и ждите. Не мешало б, правда, поесть.
— С этого и начнем, — потянулся Самохин к вещмешку с сухим пайком.
— Давай, Саша, орудуй, — Велел Гридин.
— Хотя насыщение желудка, как шутит наш Петро, — пережиток капитализма, но даже на войне без этого не обойдешься.
И опять шмыгнул в темень. Скоро вернулся с ящиком гранат.
— Аккуратно сложи, Ваня, под моим сидением, — Велел Моторному.. — А ты, Саша, загрузи диски и коробки с патронами, да поплотнее, чтоб не мешало стрельбе вкруговую.
— Ого! Наш командир вошел во вкус воевать. Теперь и дохнуть не даст, — бурчал Самохин. — А когда же ужинать?
— Ваня, как машина? — вместо ответа сам спросил Гридин.
— Бетушка с учетом изношенности в порядке. Горючего нет.
— За шлагбаумом, слышишь, машина завывает? Цистерна завязла. Сбегай, шофер спасибо скажет за то, что поможешь разгрузиться.
Справившись с наиболее необходимым, разбудили Трояна ужинать.
Без особой охоты жевали засохший хлеб, намазанный растопленным от жары сливочным маслом, и впервые за день всматривались друг в друга.
Лицо Трояна стало неузнаваемо суровым. Будто трагические события первого дня войны высекли на нем резкие, болезненные черты. Волосы посветлели — в них белела седина. Он ничего не ел, только смотрел, как через силу глотали хлеб товарищи.
Нос и подбородок Гридина еще более заострились, а шея казалась такой неестественно тонкой, что удивительно было, как на ней держалась голова. Он положил на краюху хлеба кусок консервированной говядины и подал другу.
— Ешь, Петро. Подкрепи физические, силы, чтоб было, где держаться духовным. В здоровом теле — здоровый дух, как ты сам часто говоришь.
— В том-то и дело, что дух у меня сегодня был слабый. Чуть-чуть не улетел. Но, оказывается, не так просто выбить дух из человека…
Моторный жевал хлеб, переводя задумчивый взгляд с одного товарища на другого, словно решал какую-то трудную задачу и никак не мог решить ее. Скорее всего, он думал: неужели эти события — правда? Ведь бетушка, будто с полуслова все понимала, и не подвела.
Самохин жевал более активно. Когда не мог проглотить, запивал водою из котелка. В уголках уст то и дело смыкались глубокие складки.
Троян держал в руках поданный Гридиным ломоть хлеба и одна за другою всплывали в его воображении картины тяжелого боя на картофельном поле. Он весь потемнел и съежился от этих воспоминаний.
… Когда упал политрук Зорин, Трояну показалось, что все погибло. Он пырнул фашиста штыком и кинулся бежать дальше, но когда наткнулся на какую-то тугую стену, то посчитал, что убит.
Очнувшись под горячими лучами солнца, увидел вокруг трупы. Вывернутая снарядами и бомбами картофельная ботва уже привяла, а из земли выглядывали живые белые горошины молодого картофеля. Глухо стонала и вздрагивала под ним почва. Бой, очевидно, продолжался далеко.
Троян пополз в сторону от вражеских трупов и наткнулся на тело Зорина. Политрук лежал ничком, вытянув вперед правую руку. Он вспомнил, что Зорин, прежде чем упасть, метнул на позицию вражеского пулемета гранату.
Троян перевернул политрука. Земля под ним почернела от крови, но сам был, как живой, только грудь слева иссечена пулями.
Сердце Трояна сжалось от неизбывного горя и одиночества.
Он лежал, но надо было идти. А куда? Завидовал Зорину. Мечтал о подвиге, а вместо этого остался один на мертвом поле боя.
Прошло время. И сознание, уверенность в себе постепенно укреплялись. С большим трудом подполз к вражескому крупнокалиберному. Ворочая нос, с чувством брезгливого отвращения оторвал пулемет от мертвого фашиста. И стал изучать трофейное оружие — Вдруг пригодится, — рассуждал сам с собой. — Так, значит, чтоб зарядить, надо… Прицелиться… Теперь нажать на спусковой крючок… Стоп, парень!.. Поле не совсем мертвое. В придорожную посадку скрылись люди. По всему видно свои. А ты хотел пробовать пулемет по ним… Раз они поспешно исчезли в укрытиях, то им что-то угрожает…
В этот момент с запада донесся рокот моторов. Он выглянул из окопа — и стало не по себе. Проселком, в направлении шоссе, двигались чужие, невиданные машины. Впереди — мотоциклы. Далее выделялись транспортеры с ровными рядами черных касок. Одновременно на изгибе шоссе юркнули в кусты двое. Наши, несомненно — засада. Ждут вражескую колонну.
Его бросило в жар. Надо было что-то делать. Видел, что врагов не так уж много, возможно, разведка. Время от времени фашисты постреливали, наугад — наверное, не подозревают о засаде. В засаде же все замерло. И он понял: советские бойцы подпускают врагов поближе.
Вот гитлеровцы, остановились перед выездом на шоссе и пустили длинную очередь из пулемета по купам привялой зелени на обочине шоссе. Неужели заметили? Чем же отвлечь их внимание? Попробовать очередью из трофейного пулемета? Нет, никто ему не давал такого задания. Да и сумеет ли он стрелять из незнакомого оружия?
Напряжение и волнение достигли крайнего предела. А что, если? Да, этим можно отвлечь внимание гитлеровцев от засады… В случае неудачи тоже не вешать нос. Вон кругом сколько убитых… Не ждать же, сложа руки, пока здесь прибавиться еще один труп?! Нет!
И Троян поднялся в полный рост.
Из темноты незаметно подкрадывалась машина. Скрипнули рессоры. Мгновенная вспышка фар выхватила из мрака ночи БТ-7 и его экипаж. Металлически звякнула дверца.
Высокая фигура, чуть прихрамывая, приблизилась к курсантам.
— Вон где они три танкиста! Дело есть. Кончай ночевать, я те дам!..
Бойцы подхватились.
— А мы и не думали спать, — сорвалось у Самохина.
— Забудьте о мирных порядках. Кто это с вами четвертый?
Гридин кратко доложил.
— Молодец Троян! — К лицу Петра приблизилось лицо Кирьякова. Его знакомая улыбка еле пробивалась сквозь темный слой копоти и пыли. — Ваш Мотыльков легко ранен, в палец. Пришлось отправить на перевязку в медсанбат соседней пехоты. Там он долго не задержится. Так кто из вас пойдет ко мне башенным стрелком?
— Я, — первый подтянулся Самохин.
— Гм, я те дам… Ладно, уж. Будете моим помощником. Пускай
на бетушке остается тройка «студентов».
Троян не мог сдержать радость. Даже в темноте, казалось, что его лицо посветлело. Куда и девалась усталость. Опять на душе зазвучал любимый «Марш танкистов», который старшина часто напевал:
Броня крепка, и танки наши быстры,
И люди наши мужества полны…
— Это, что ж, опять туда, к артскладам? — послышался знакомый голос. — Там даже днем нас обстреляли. Под огнем колесо менял.
— О, Чапурин, дружище! — кинулся к броневику Самохин. — Федот, ты, между прочим, неплохо выглядишь. Видать, курсак заправлял регулярно. Не случайно машина накренилась на твою сторону.
— А ты, болтун-самоучка, не изменился…
— Довольно! — прервал старшина Кирьяков. — Шутки — потом.
Самохин, осваивайте свое место в башне броневика. А вы, Троян, привыкайте к бетушке.
— Товарищ старшина! — деловито обратился Самохин. – Вы смогли бы нам обстановочку осветить? Что-то многовато наших погибло. Удалось ли кого-нибудь из подбитых танков спасти?
— Видел командира Т-26, обгоревшего, раненого… Медведев контужен, но дальше медсанбата не уехал. Фалеев, видимо, не понял приказ оставить горевшую машину. Стрелял до конца, пока танк не взорвался. Экипаж лейтенанта Ярового сгорел вместе с машиной.
— Эх, никто нас не предупреждал, что будут гореть наши танки, что будут гибнуть лучшие люди, — глухо, со злом заговорил Самохин.
— Что ж, по-твоему, надо было готовить наших людей не к победе над озверелым врагом, а к поражению? — оборвал Гридин.
— Неправда, наша возьмет! — отозвался обычно молчаливый Моторный. — И я рад, что песни, кино, литература натолкнули меня попроситься в военкомате в танковые войска. И не ошибся.
Вот уже появилась у нас новая секретная машина Т-34 с непробиваемой броней. Это же мечта!
— Чего-чего, а желаний и мечтаний у нас хватает, — гнул свое Самохин.
— А как сели в быстроходную, так и забуксовали в песке.
— Болтаешь, Саша, черт знает что, — сердито перебил Гридин.
— Со своего НП ты немного видишь.
— А я видел атаку наших танков, — заметил Моторный.
— Лейтенант Яровой сжег два гитлеровских бронированных чудовища. Там, где прошли наши танки, ни одного фашиста не осталось. И это — учебно-боевые, отслужившие свой срок…
— Так что, Саша, не будь нытиком,- тоном завершения беседы произнес Гридин. — Мы сегодня только чуть-чуть нюхнули пороху. Главное — впереди.
— Кончай разговорчики! Получай задание! — с подъемом сказал старшина Кирьяков.
На крыле броневика он развернул топографическую карту. Трояна встревожили жирные синие стрелы и полукруги, нанесенные карандашом западнее и южнее Владимира-Волынского. Враг стремится обходным маневром прорваться к шоссе Владимир-Волынский — Луцк, — объяснял старшина, показывая на синие стрелки.
— Советские войска сорвали вражеские попытки. Наша задача: помочь стрелковому соединению, разрезанному противником на две части, установить связь между ними…
Старшина Кирьяков торопился, то и дело, прислушиваясь к дальней канонаде. Быстро обозначил карандашом на карте путь, по которому ночью предстояло пройти, предупредив:
— Встреча с врагом возможна в любом месте… В случае
стычки разведать количество вражеских сил, характер их действий. Броневик пойдет впереди. Танк должен выдерживать заданную дистанцию, не висеть на моих плечах… Мой заместитель — товарищ Гридин. Вопросы есть? Нет. — Он сложил карту, спрятал в планшет и скомандовал: — Заводи!
Деловая уверенность и веселая бодрость командира невольно передавалась экипажам. Уже садясь в машину, Кирьяков добавил:
— Товарищ Гридин, экономьте горючее, соблюдайте правила светомаскировки. Следите за моими сигналами. Вперед!
Щелкнули замки люков. БА-20 тронулся с места почти бесшумно. БТ-7 умеренно зарокотав, двинулся следом.
Гридин приоткрыл крышку люка. Выглянул наружу. Воздух в поле — теплый, душистый — навевал покой. Только ночные насекомые, временами ударяясь в лицо, напоминали, что так же можно столкнуться и с вражеской пулей. Поэтому, без надобности нечего торчать над башней.
Впереди, сквозь завесу пыли мерцали два задних огонька БА-20. Вот они приблизилась, остановились. Недалеко темнела стена леса. Броневик посигналил танку: «Оставаться на месте», а сам исчез. Было тихо. Потом — новый сигнал: «Вперед!» БА-20 шел правой стороной лесной дороги, а танк — левой. Это, чтоб в случае необходимости они не мешали бы друг другу вести огонь. Так прошли небольшой лесок. На опушке остановились. За кустарником мерцали огоньки. Там — село. БА-20 взял вправо и стал под деревом, как за маской.
— Самохин, пойдете со мною. Остальные — на своих местах…
Держа оружие наготове, они направились к окраинным хатам.
Гридин, Троян и Чапурин не теряли их в поле зрения. Моторный прикрывал с тыла.
Из села доносились голоса:
— Орыся, Лесик! А ну вечерять! Ивась, пора спать! Новобранцев завтра будем провожать.
Старшина Кирьяков, поворачивая назад, сказал:
— Гитлеровцев нет в селе. Но смотреть в оба!
Осторожно, без света, машины тронулись. У плетня, возле первой хаты, шевельнулись силуэты.
— Не бойтесь, свои, — тихо проговорил старшина. – Тоже мне парубки — девчат покинули и драпа.
Двое боязливо повернули назад.
Мы не… Мы не испугались, — начал оправдываться парень в светлой рубашке.
— Вы — в самом деле, красноармейцы? — осмелел второй, высокий и тонкий, как жердь.
— А что, кто-то ждал фашистов?
— Да нет. Но тут сегодня разговоров было много. Такое плели, что уши вянут. Мы, конечно, не верим, что фашист до нас дойдет.
Парни замолчали, ожидая, что скажут бойцы Красной Армии.
— На войне всяко бывает, — начал старшина Кирьяков рассудительно и тут же по-деловому спросил: — Мостик в селе крепкий? Проедем?
— Запросто! — хором ответили парни. — Сегодня машины с военкомата проезжали с новобранцами.
— Бывайте, здоровы, хлопцы! — кивнул старшина на прощание, явно сожалея, что не мог ничего утешительного пообещать парням.
Миновали еще одно село. Выехали на шоссе. Кирьяков тихо переговорил с бойцом-регулировщиком и броневик, а следом и танк, повернули на шоссе и вскоре остановились перед лесным завалом. Из укрытия выскочили двое пехотинцев. Кирьяков что-то сказал им и пошел вглубь леса.
Очень хотелось, чтоб как можно дольше не наступал день.
Хотя за ночь было сделано немало, но обстановка требовала больше.
Лейтенант Аносов — командир взвода тридцатьчетверок, плотный, подвижный, энергичный — показал экипажам БА-20 и БТ-7 исходные позиции.
— Первым делом замаскируйтесь,- предупредил он. – Потом надо выкорчевать пни, которые мешают кратчайшим путем выйти в контратаку. Ветки для маскировки здесь, на опушке, не рубите, поищите в глубине рощи. Все делать без шума, без выкриков.
Лейтенант ушел к своим танкистам, располагавшимся рядом.
Кирьяков и Гридин взялись за лопаты, топоры: пеньков было много. Остальные принялись маскировать машины.
Узенький серп луны таял на низком небосклоне. Гасли звезды. В роще было темно и прохладно. Когда взлетали вражеские ракеты, сумерки под деревьями становились еще гуще, тени — чернее. Предрассветный мрак то и дело прочеркивали разноцветные трассы пуль. Где-то там, за речкой, враг начинал шевелиться, подавать голос. Доносились чужие окрики, завывания моторов. Открыто, не маскируясь, сверкали фарами. Кинжалы прожекторов пронизывали местность в различных направлениях.
— Близко, — съежился Самохин.
— С близкой дистанции бить сподручнее, — заметил Гридин.
— Ничего. Утро серенькое — будет день красненький, — зевая, Троян посмотрел на небо.
Подошел лейтенант Аносов и с ним — старший лейтенант, опоясанный ремнями, с каской в руке, судя по эмблемам на петлицах, связист.
— Изучаете обстановку? — сказал старший лейтенант. — Готовится вражья сила. Ночью пополнение прибыло.
— И не маскируется, норовит нахрапом взять, — заметил Аносов.
— Возле плотины сосредотачивается… — продолжал старший лейтенант, как выяснилось, офицер связи. — Вчера не удалось, сегодня насядут.
— Да, но сегодня веселее будет, — блеснул глазами лейтенант. — Вы своевременно нам помогли пополниться танковыми боеприпасами, — кивнул он в сторону Кирьякова.- А наш комиссар Дорофеев воспользовался темнотой и организовал доставку снарядов на огневые позиции. В такой обстановке нужны крутые и решительные меры…
— Главное — комиссар взял командование на себя… — Связист имел в виду то, что управление и штаб соединения в самом начале приграничного боя оказались во вражеском окружении, а стрелковые подразделения и часть артиллерии — без руководства. Полковой комиссар Дорофеев пытался наладить связь с командованием, но безуспешно.
— А вот и товарищ комиссар, — кинулся лейтенант навстречу человеку невысокого роста, слегка сутулого, с каской в руке.
Курсанты приняли стойку «смирно», вытянув шеи.
Гридин с каким-то особым вниманием присматривался к комиссару. Чем-то он напоминал отца, котовца, которого Костя знал и рисовал в своем воображении только из воспоминаний матери.
— Вот у танкистов я и отдохну, — сказал комиссар тихим голосом с еле заметной хрипотцой.
И Гридину вновь показалось, что именно такой голос был у его отца.
Лейтенант Аносов постелил на траве куртку. Комиссар закурил и сел.
— Завтракали? — обратился он к курсантам. — Огляделись?
Отдохнули?
Лейтенант Аносов доложил, что экипажи готовы к бою.
— Плохо, что не все успели комарика придушить, — покачал головою комиссар. — Машина любит крепкие руки, острые, а не сонные, глаза, ясный ум.
— Водители немного вздремнули.
— Мало. Весь экипаж должен быть бодрым. В бою может, потребуется одному действовать за двоих, за троих. Ведь техника без человека мертва… В пехоте, известно, проще. Вон мои орлы за ночь успели много сделать. Хотя обедали и ужинали уже впотьмах, но как бы уплотнили ночное время: поправили свои окопы, углубили их, привели в порядок оружие, получили боеприпасы, и к завтраку не опоздали… Все понимают, что денек предстоит горячий… — говорил комиссар так, как крестьянин-хлебороб, поглядывая с утра на небо. — Фашистам позарез нужно шоссе Владимир-Волынский — Луцк. Их там, за Лугой, накопилось изрядное сборище. Но вы тут, в роще, раньше времени себя не обнаруживайте. Без сигнала старшего лейтенанта, — он кивнул в сторону офицера связи, — из укрытия не выходите. У нас есть вчерашний опыт… Бойцы на глазах закаляются…
— Пойду к своей пехоте, — сказал комиссар и, кряхтя, поднялся. От его слов становилось светлее и легче на душе.
Рассветало. Тени уползали в кусты. Среди светлевших стволов деревьев вырисовывались темные очертания танков. Над речкой и озером нависали лоскутья тумана, не касаясь воды. Вербы опустили в воду длинные ветви.
Где-то в отдалении защелкал соловей. И вблизи просыпались птицы, встречая солнце.
Гитлеровцы тоже просыпались. По графику приступали к своим черным делам. В тумане за рекою резанули молнии. Вздрогнула земля от выстрелов, взрывов. Лугом испуганно прокатилось эхо.
— Погибели на вас нету, разбойники проклятые! – ругался Троян, вглядываясь в мглистый берег за рекою.
Клочья тумана опять рассекли сгустки пламени. И там, среди прибрежного кустарника, где притаилась пехота комиссара Дорофеева, поднялась густая пелена порохового дыма и пыли.
Троян невольно вздрогнул:
— Какой ужас!
— Это с одной стороны, Петро, — с горькой иронией отозвался Самохин. — А с другой, говорят, что бойцы закаляются.
— Понимаю, Саша. Но там комиссар… Он же не за броней…
К артиллерийской канонаде присоединилась трескотня из пулеметов и автоматов. В воздухе взвизгивали пули.
В этой сплошной пальбе резко выделился винтовочный залп. Второй… А из-за спины донесся мощный гул артиллерийского удара.
— По машинам! — скомандовал лейтенант Аносов.
Танкисты заняли свои места, захлопнули люки. Теперь им не было видно, что творилось за речкой. На слух можно было определить, что в бой вступила советская артиллерия.
Постепенно пальба утихала.
Из окопа офицера связи кто-то выбрасывал обломки веток. Потом выскочил боец с катушкой кабеля за плечами. К нему подскочил второй и оба стали проверять проводную линию связи. Вскоре из укрытия показалась голова старшего лейтенанта.
— Атака отбита! — крикнул он танкистам. — Но это пока цветочки.
Выбравшись из машин, командиры экипажей увидели, что на лугу, перед окопами стрелков дымились три вражеских танка, торчали вверх колесами два тягача с опрокинутыми набок пушками. Два бронетранспортера уткнулись радиаторами в речку. Луг темнел воронками.
— Полковой комиссар спрашивает, все ли у нас в порядке? — передал старший лейтенант. — Быть начеку! — предупредил комиссар. — Скоро выступать!
— Воздух!
Над лесом показались вражеские самолеты. И тут же ударила артиллерия. Взлетели, вычерчивая крутые траектории, ракеты. Началась бешеная огневая обработка всего района обороны стрелков. Тяжело вздыбливалась, переворачиваясь огромными глыбами влажная луговая земля. Высоко взлетали черные корневища деревьев, кустарников, обломки ящиков, оружия, обрывки какого-то лохмотья.
Запылало село, видневшееся невдалеке. Над ним долго кружились самолеты, бросали бомбы, строчили из пулеметов.
В дыму, в клубах пыли гитлеровцы вновь двинулись в наступление. Казалось, за речкой кто-то разворошил огромный муравейник.
— Что такое? — припал к биноклю старший лейтенант. — Ничего не понимаю… Все в черном, будто технари какие-то. Как на подбор: здоровилы, пузатые и мордастые.
Тревожно зазвонил телефон. Старший лейтенант схватил трубку. Вблизи грохнул снаряд. По маскировке ударило комьями земли и осколками. Из окопа старшего лейтенанта доносился голос:
— Все в порядке, товарищ «Второй!»… Зеленая ракета. Ясно.
Командиры экипажей не сводили с него глаз, ожидая новостей. Наконец, услышали:
— Фашист наносит главный удар по плотине… Введены в бой свежие силы… Это они, в черном. Должно, пьяные. По сигналу зеленая ракета наши танки и пехота контратакой должны уничтожить врага -… Борта машин не подставлять артиллерии, на плотину не выезжать — за ней топкое болото.
В роще, где стояли танки все чаще стали рваться снаряды и мины.
Лейтенант Аносов уточнил задачи экипажам. БТ-7 и броневик оставались на месте, в резерве.
Когда взрывы, треск, завывания слились в сплошной грохот, из окопа выскочил старший лейтенант и крикнул Аносову:
— Заводи!
На опушке рощи появилась тройка тридцатьчетверок, на ходу теряя маскировочные ветви. Над окопами стрелков замаячили жерди с пучками травы — предупреждение танкистам: «Осторожно. Свои».
Не доезжая плотины, которую облепила черная подвижная масса, тридцатьчетверки притормозили. Стволы танковых пушек блеснули пучками огня, дохнули клубками дыма. Прокатился рокот выстрелов. Длинными очередями стеганули по «муравейнику» на плотине танковые пулеметы ДТ. Их поддержали залпы из стрелковых окопов.
Все это видел Троян, высунувшись из люка. И сердце его взволнованно забилось.
— Вот это огонь! — крикнул он. — Смотрите, как кромсает «технарей».
Черные фигурки гитлеровцев падали, будто подсекаемые косою, скатывались с плотины, горланили. А на плотине вырастали новые цепи, пытаясь восстановить наступательный, боевой порядок. Гитлеровцы словно не понимали, что именно их убивают, и будут убивать. На багровых от напряжения лицах офицеров черными ямами зияли разинутые рты:
— Los!… Los!… (Давай!… Давай!…)
Наконец, гитлеровцы не выдержали и залегли.
Прикрытые плотиною советские танки были недоступны для вражеской противотанковой артиллерии. Фашистские артиллеристы издалека били по вчерашним позициям. Очевидно, маневр тридцатьчетверок с нового исходного рубежа был дня них неожиданностью.
Подбодренные успехом танков бойцы усилили огонь по врагу.
Когда вблизи тридцатьчетверок все чаще стали рваться снаряды дальнобойной артиллерии, лейтенант Аносов, маневрируя, повел боевую тройку на правый фланг.
Сделал он это своевременно. Там гитлеровцы готовились к новой атаке. Где-то они переправились через речку и, минуя плотину, двинулись густой лавиной на восток. Впереди шла пехота, следом — легкая артиллерия.
Не останавливаясь, танки Аносова, врезались в гущу врагов. Одну противотанковую пушченку раздавили с ходу. Но и противник причинил вред. Вспыхнула правофланговая тридцатьчетверка. Аносов тут же прикрыл ее своей машиной, спасая экипаж, и одновременно расстреливая с места, в упор вторую пушку, затем третью.
Тем временем вблизи танков кучно стали рваться снаряды крупного калибра. Тридцатьчетверки маневром и огнем окончательно рассеяв вражескую группировку, вернулись под защиту плотины, через которую опять пытались переползать черные фашисты. Аносов вместе со стрелками навели порядок и у плотины.
Танкисты вернулись в свою рощу. Экипажи пополнялись боеприпасами. В это время небо потемнело от вражеских самолетов. И все началось сначала.
В полдень, когда солнце, подернутое дымами, стояло в зените, поступило тревожное известие: на левом фланге гитлеровцы прорвались через речку, и угрожают позициям артиллерии. Экипажи Кирьякова и Гридина получили задачу: скрытно подойти к месту прорыва, установить связь со стрелками-соседями и артиллеристами и совместным ударом ликвидировать вражеское вклинение.
БА-20 и БТ-7 пробрались на восточную опушку рощи и, незамеченные противником, покинули ее. Далее двигались полевым проселком.
Из высокой ржи наперерез танку неожиданно выскочили двое.
Моторный притормозил.
— Опять эти… — тихо ругнулся он.
— Где? Кто? — всполошился Гридин, хватаясь за пулемет.
— Да вчерашние артиллеристы.
Гридин выглянул из люка. Усатый старшина, который чуть не попал под гусеницы танка, ему тоже показался знакомым.
— Братцы, помогите! — умолял старшина. — На огневые позиции нашей артиллерии фашисты прут!
— И это все?! — с облегчением вздохнул Моторный. — А я испугался: подумал, что опять придется телефонную проволоку распутывать.
— Не до шуток… Нужно ударить, пока они вон тут недалеко собираются.
— Сзади идет бронеавтомобиль. Там командир, — показал Гридин. — Доложите ему.
Усатый метнулся к Кирьякову.
— Прикрывайте плотину, — сказал Кирьяков артиллеристу. – А с этими десантниками справимся таким порядком… — и он уточнил задачи экипажей.
Машины тронулись.
За поворотом проселка Гридин увидел гитлеровцев. Рослые, упитанные строились в колонну, головою в направлении к шоссе.
После отвлекающего залпа из карабинов группы усатого старшины, атаковали врага танкисты… На долю стрелков-соседей пришлось прочесать местность и собрать трофеи.
БА-2О и БТ-7 вернулись в свою рощу.
Под вечер в расположении танкистов вновь появился полковой комиссар Дорофеев — весь закоптелый, с запавшими глазами. Пожав крепко руку лейтенанту Аносову, он подмигнул остальным:
— Знаете, кого вы сегодня раздавили? Нет… Самых заядлых фашистов-фанатиков — эсэсовский полк!
— Ого! — пошутил Самохин. — Если б заранее знать…
— … Еще б беспощаднее били, — подхватил Аносов.
— Да, зто хороший им урок, — продолжал комиссар. – Ведь у них столько было спеси!.. Кто из них уцелел, больше так нагло не полезет. А полезет, то битого легче бить. Но враг еще силен. Много у него техники. Придется нам еще повоевать.
Наступила ночь. Темная, безлунная. Вторая военная ночь. Тревожная мгла спустилась на землю. Дневной зной отпустил. С речки и с озера потянуло прохладой. Но и в ночном воздухе чувствовалась едкая гарь войны.
Над зарослями рассекали небо трассирующие пули, призрачно трепетали ракеты.
Дня не хватило гаду, — ругался Троян. — И где столько того «добра» он берет?
— Готовился бесноватый долго, — отозвался Гридин. — Но выдохнется …
— Может, завтра? — наивная надежда прозвучала в тоне Трояна.
Неожиданно на болоте закричал, будто раненый, коростель.
Что-то темное пролетело над полем боя, испуганно шарахнувшись от густых деревьев на опушке рощи.
В ушах не утихал грохот боя. Танкистов брал сон.
Троян едва смежил веки, и ему привиделось, будто он взлетает в облаках дыма и пыли, как кто-то потряс его за плечо. Не открывая глаз, он потянулся.
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю.
— Вставай, Петро. На грузовике досмотришь сон, — подсветил Гридин фонариком.
Старшина Кирьяков ходил возле броневика, разыскивая Чапурина. Споткнувшись о чьи-то сапоги, торчавшие из-под машины, он ругнулся:
— Чапурин? Нашел, где спать, я те дам!..
Сапоги дернулись. Из-под броневика выросла длинная, сутулая фигура.
— Я не сплю. Размышляю…
— Прежде чем размышлять, надо умыться холодной водою. Осмотреть машину. Сейчас же отправляемся в дальний рейс, без света.
— Спать охота…
— Не волынить! Троян и Самохин, занимайте пока, что свои места в башне, а на шоссе пересядете на грузовую машину.
Чапурин изо всех сил тер лицо, стараясь разогнать сон.
— Опомнись, Федот, не фрица треплешь, — заметил Самохин.
— Не говори. Сейчас сон — хуже врага.
Лейтенант Аносов в темноте негромко наставлял Кирьякова:
— Проселком, через редколесье, выберитесь на шоссе. Возле переезда вас ждут грузовые машины. Возглавите колонну и – прямо до военного городка.
Броневик выбрался из рощи и заскрипел по плохо накатанному проселку, переваливаясь на ямах и кочках. Рядом то и дело взлетали осветительные ракеты. Лесом перекатывалось эхо выстрелов и взрывов:
— Бум!.. Бум!.. Г-г-гах!.. Г-г-гах!..
Чапурин часто останавливал машину.
— Ничего не вижу. Никаких ориентиров… — бурчал он.
— А Чумацкий шлях для чего? — подбадривал Троян. — Жми, казаче, прямо по звездной дороге.
— Вправо руля!.. Живее! — строго, но без зла вмешивался старшина Кирьяков. — Башнеры, следите за местностью, чтоб не влипнуть черту в зубы. Троян, запоминайте дорогу. Второй рейс сделать в два раза быстрее.
Они выбрались на шоссе, но никаких машин в темноте не увидели. Когда Кирьяков уже подумал, что заблудились, послышался зычный голос:
— Растянулись, как побитые… Довольно храпака задавать! Подъем, а то фашист вас разбудит…
— Внимание! Тут где-то близко шоферской начальник командует,- обрадовался Кирьяков. Прибежал взбудораженный сержант — обладатель зычного голоса.
— Хотели без вас трогаться, — доложил он как-то не по-военному. Потом кинул назад, через плечо, в темноту: — Поднимайся! Поехали!
Взяв пулемет ДТ, Троян пересел из броневика в кузов передней машины.
— Эх, — вздохнул шофер в кабине. — Еще бы немножко поспать.
Автоколонна тронулась без света. Навстречу попадались одиночные машины. Некоторые шли тихо, маскируясь, а иные мчались стремглав, с включенными фарами.
На западе не утихала стрельба, громыхали взрывы.
Когда уже подъехали к окраине Владимира-Волынского, шоссе пересекли какие-то тени. Из невысокого мрачного домика сверкнули выстрелы. Замедлив ход, броневик огрызнулся пулеметными очередями. Колонна втянулась в темную, узкую улицу, зажатую между двумя рядами немых строений с подслеповатыми окнами.
Наконец, короткая вспышка фар выхватила из темноты ворота и красноармейца с винтовкой возле них.
На территории склада подошли к броневику двое.
— Если б нам такую пушечку, мы и горя не знали б, — сказал один.
Голос показался Трояну знакомым.
— Да, мы показали б тем фраерам, которые по чердакам прячутся, чтоб я так дыхал, — с вымученной дерзостью подхватил второй.
Троян кинулся навстречу, приглядываясь.
— А-а-а!.. Здоровеньки булы, землячки! — удивился он.
— Смотри, Яша: свои! — обрадовался дерзкий голос. Это был Мотыльков.
— Живые… Потому что при грозном оружии, — заметил напарник Мотылькова — Робак. — А тут стоишь на посту, как на витрине на ДерибасовскоЙ. Не удивительно, что они, сволота, днем и ночью безнаказанно пуляют то с чердаков, то из подвалов. Когда в этом городке наведут порядок?
— От нас и от таких, как мы, зависит, — ответил Троян.
— Слушай, Петро, помоги перейти в танкисты, — пониженным голосом просил Мотыльков. — Мне в медсанбате разрешили вернуться в строй, — показал он левую руку, забинтованную у запястья.
— Троян — к первой машине! — прервал беседу Кирьяков.
Когда тот прибежал, старшина велел;
— Грузить немедленно. И прежде всего снаряды, танковые…
Через полчаса, тяжело скрипя рессорами, колонна направилась к выходу с территории склада. Шоферы, прислушиваясь к скрипу, недовольствовали: машины были очень перегружены.
На выезде из ворот — опять сюрприз: из темноты брызнули, как из форсунок, зловещие огоньки. Часовой возле ворот вскрикнул и медленно прислонился к кирпичной колонне. Дзенькнуло стекло фары.
Кирьяков мгновенно схватился за пулемет. Прозвучала длинная очередь.
Броневик миновал ворота. Пройдя метров двести, остановился. Он прикрывал выход грузовых машин. Впереди, на фоне светлой стены строения, вновь промелькнули неясные тени. Невдалеке грохнул взрыв гранаты. Броневик ответил выстрелом из пушки.
Пропустив все машины, Кирьяков на БА-20 двинулся следом.
Троян устроился с пулеметом ДТ в кузове передней машины. Он чувствовал себя, как на шаткой перекладине над пропастью. Вот невдалеке засверкали знакомые вражеские огоньки. В ответ — короткие очереди ДТ, и наступает кратковременная тишина.
Но диверсанты все-таки продырявили шину замыкающей машины с боеприпасами. Пришлось отбиваться из пулемета и одновременно менять колесо.
В условленном месте их встретили полковой комиссар Дорофеев и группа бойцов — грузчиков. Они быстро разгрузили машины, и колонна повернула назад, к складам боеприпасов. Теперь ее сопровождал танк БТ-7.
В течение ночи все подразделения получали боеприпасы и горючее.
Только перед рассветом танкисты прилегли отдохнуть.
— Все же немало мы успели за ночь, — делился Троян с другом детства. — И на складах побывали, и земляков повидали.
Жаль только, что мы ничем не могли порадовать Мотылькова и Робака, — ответил задумчиво Гридин. — Как бы они глупостей не натворили… Я ведь побывал в нашей казарме. На столе дежурного была куча писем…
— Ну?!… — подхватился Троян.
— Ладно, Петро, не время… Об этом — после, — отмахнулся Гридин.
Гитлеровцы лезут напропалую… — удивлялся Троян. – Что оно будет, Костя? — спрашивал он Гридина.
Да, к этому шоссе, — которое изогнуто здесь подковою — притягивает их, как магнит опилки, — после паузы сказал Гридин, полагая, что ответил на вопрос друга.
Они перед тем, как отправиться в разведку, еще и еще раз осматривали из рощи поле боя, местность в окружности.
Подернутое темно-багровыми тучами солнце — большое и красное, будто вобрало всю пролитую за день кровь — приближалось к мрачному горизонту.
В окопах бойцы надеялась на то, что фашисты уже выдохлись, но они опять полезли, как стая голодного зверья. Видно, решили прорваться любой ценой.
На окопы повалила толпа эсэсовцев, смешанная с грязно-зеленой массой пехотной солдатни.
У бойцов закончились патроны. Только у некоторых оставалось по одной — две обоймы. Артиллеристы приберегли по одному снаряду на ствол. В топливных баках танков — по несколько литров горючего.
И когда на зеленое возвышение выполз тупой клин гитлеровского воинства, по нему прямой наводкой залпом громыхнула артиллерия. Не успели осесть тучи дыма и пыли, как бойцы услыхали хриплый голос полкового комиссара Дорофеева:
— В атаку за мною. Ур-р-раа!..
Вслед за комиссаром, обгоняя его, устремились серые от пыли воины. В красноватых лучах предвечернего солнца сверкнул гребень штыков. Острие фашистского клина вздрогнуло и, не принимая штыкового боя, в грохоте автоматной пальбы рассыпалось. Враги кинулись назад, к речке, штыковой гребень, догоняя, счесывал их в воду.
Артиллерийский обстрел затих. Гитлеровские артиллеристы не сразу сориентировались, где свои и где противник. Воспользовавшись заминкой в стане врага, красноармейцы неистово били фашистов, давая, наконец, выход ненависти, которая накопилась за эти три дня.
Вдоль берега речки начали падать пристрелочные мины.
Из уст в уста прокатилась команда полкового комиссара:
— Вернуться в окопы!
Бойцы покидали берег неохотно. Среди них уже не было новичков, необстрелянных. Никто тогда не записывал имен отличившихся — живых и павших. Некому было, и фотографировать — не до этого.
Только изувеченные бомбами и снарядами берега Луги, вода в ней, смешанная с кровью, иссеченные пулями и осколками кусты и деревья да высокое волынское небо были свидетелями этих трагических событий.
А вражеские минометы и орудия все палили и палили по прибрежной полосе земли, где, казалось, не смог бы выжить даже муравей.
Когда начало смеркаться, броневик и легкий танк вернулись в рощу из разведки. Старшина Кирьяков, против обыкновения, с угрюмым выражением лица шел к комиссару докладывать о том, что пробиться к штабу соединения, установить связь с кем-то из командования не удалось. Куда они не направлялись, всюду были фашисты. В первой же стычке с врагом у опушки леса, где ранее был НП командира соединения, погиб старший лейтенант — офицер связи. На шоссе Владимир-Волынский — Луцк появились вражеские машины.
Полковой комиссар Дорофеев, молча, выслушал Кирьякова. На какой-то миг по его лицу пробежала судорога, будто от внезапной боли. Посоветовавшись с подполковником -артиллеристом, который лежал под деревом, раненый в обе ноги, он приказал в 22.00 собрать всех командиров и рядовых, допущенных исполнять обязанности командиров.
Вечерело. Под ветви деревьев заползал мрак. Туман, поднимавшийся с речки, размывал краски.
На лужайке собрались командиры. Уставшие, запыленные, многие ранены. Полковой комиссар, всматриваясь в лица своего боевого актива просто, как-то no-домашнему, сказал:
— Товарищи командиры! Вы и ваши бойцы с честью выполнили свой долг: враг на Луге не прошел. Вы порядком-таки его помолотили. Скажите об этом красноармейцам. Будем бить захватчика и далее. Но сейчас наше положение сложное. Закончились боеприпасы, горючее. Прервана связь с другими частями и штабом нашего соединения. Нужно разъяснить бойцам — без тени паники,- что мы должны сейчас немедленно, без суматохи, организованно оторваться от врага. Всем подразделениям выйти к шоссе и по команде скрытно пересечь его. Сосредоточиться в лесу… — комиссар указал на топографической карте район сосредоточения. — Раненых переправить в первую очередь. Орудия, которые нельзя вывезти, зарыть или подорвать. В окопах не оставлять ни единого человека. Все, в том числе легкораненые, должны быть готовы каждую минуту вступить в бой.
Решительный, спокойный тон комиссара подбодрял, вселял надежду, помогал восстановить силы, которые, казалось, исчерпаны.
Троян, сидевший на траве возле танка, внимательно прислушивался к словам Дорофеева.
— Удивительный человек! — не выдержал он, обернувшись к Гридину.
— У Котовского были все такие, — заметил Гридин и осекся: боялся выдаться хвастуном.
— Где-то я читал, что крутые повороты в жизни народа выдвигают именно таких руководителей.
Никто не возразил. Может потому, что танкисты соглашались, а может и потому, что не было времени разговаривать — их звала новая дорога, полная неожиданностей и опасностей.
В темном перелеске было шумно, слышался гул моторов, бряцание оружием. Спешно формировались и выходили на свой маршрут колонны.
Броневик и бетушка шли впереди, разведывая и прокладывая дорогу. За ними — самая боеспособная рота стрелковая. Далее — артиллерия, раненые. Две тридцатьчетверки с тыла прикрывали отход.
Полковой комиссар Дорофеев отдал свою легковую машину тяжелораненым и приказал шоферу переправить их за шоссе. Сам же вернулся в окопы, чтобы проверить, не уснул ли там кто-либо, не забыли ли бойцы что-то ценное.
— В каком состоянии наша броневая защита? — поинтересовался
он у танкистов тридцатьчетверок.
— Если без остановок, то горючего могло бы хватить, — доложил лейтенант Аносов. — Есть еще два снаряда и несколько патронов.
— Без остановок, брат, не выйдет. Невольно придется останавливаться, ничего не попишешь. Держитесь основной массы бойцов в постоянной готовности к бою. Трогайтесь, я вас догоню.
Комиссара покачивало от усталости. Чтоб не упасть, он прислонился к придорожной березе.
— Товарищ полковой комиссар, садитесь в танк, — попросил Аносов. — Боеприпасов нет, места предостаточно. Да и с высоты башни дальше видно.
— И то, правда, — неожиданно согласился Дорофеев.
Он с трудом взобрался на танк и опустился через люк на командирское сидение.
— С таким комфортом поле боя покидать грех,- вздохнул полковой комиссар.
— Комфорт наш висит на волоске, — сказал Аносов. — Хотя бы до шоссе дотянуть.
Дорофеев уже не слышал. Седая его голова поникла на грудь.
— Свалился, — тихо проговорил Аносов. — Неказистый, а казался неутомимым… — Водителю велел: — Включай скорость. Только смотри: кругом люди, не задави… Вон там, на правой обочине, я видел: человек на ходу спал, ткнулся о березу, сполз по ее стволу на землю и не шевельнулся.
— Я тоже иной раз засыпаю в движении, — ответил водитель и попросил: — Поэтому время от времени толкайте меня, иначе далеко заедем.
Но далеко не заехали.
Впереди образовалась пробка. Кто-то раздраженно кричал:
— Стой! Куда прешь? Не видишь — люди…
Танк заскрежетал гусеницами и резко остановился. Кое-кто из бойцов, разместившихся десантом на броне, свалился на землю. На обочинах проселка вповалку спали люди.
— Стоп, приехали! — проснулся полковой комиссар Дорофеев и выглянул из люка. — Э-э-гээ! Что тут творится… Спят. Спасибо, Аносов, за стажировку в танковых войсках. Возвращаюсь в свою родную пехоту. — И он, оберегая раненый бок, выбрался из танка.
Тем временем легкая бетушка, вместе с броневиком, двигаясь впереди колонны, приблизилась к шоссе и остановилась в кустах. Дальше старшина Кирьяков продолжал разведку пешком, пробираясь редколесьем.
В направлении Луцка небо высвечивали багрово-синие сполохи. По шоссе бежали цепочки красных угольков. Фашисты торопились туда, где гремел бой.
Кирьяков вернулся скоро. Достал из планшета карту и начал сверять ее с местностью.
— Бой идет километрах в десяти от нас, — определил он.
— Как только освободится шоссе, надо перебираться на ту сторону. Гридин, я сейчас махну туда. Когда наши главные силы подойдут к опушке леса, дайте мне сигнал.
Броневик, переваливаясь, на выбоинах, кочках, корягах приблизился к шоссе. Короткая остановка. Затем, Чапурин, развив скорость, быстро пересек проезжую часть. Затрещал кустарник, машина исчезла в придорожной впадине.
— Чапурин, когда перестанете проверять наши лбы на крепость? — с обычной напускной строгостью произнес старшина Кирьяков. Затем по-деловому распорядился: — Выбирайтесь из этой ямы вон под ту ветвистую сосну. Замаскируйте машину так, чтоб ветки не мешали видеть шоссе.
Из леса доносилось приглушенное звяканье металла, потрескивание валежника.
— Слушайте и делайте выводы, — наставлял свой экипаж Кирьяков. — По звукам, которые демаскируют колонну, легко определить, что бойцы находятся от нас на расстоянии не больше пятисот метров. Шоссе сейчас безлюдное. Мы на нем заметили б человека в трехстах метрах отсюда.
— А войсковую колонну, товарищ Чапурин? — вдруг спросил старшина.
— За километр! — четко, как на учении, ответил механик-водитель.
— Продолжайте наблюдать, а я вернусь к пехоте. Нужно поторопить…
Старшина широкими шагами пересек шоссе. И сразу почему-то повернул на запад. Присел. Затем лег. Вмиг поднялся, прошел несколько метров. Опять лег. Рывком схватился и вернулся к броневику.
— Кто-то мчится сюда, как оглашенный, — кивнул он на запад.
Чапурин и Самохин, вытянув шеи, прислушивались.
— Думаю, что тревожиться не стоит, — успокаивал Кирьяков.
Видимо, только одна машина. Пропустим. Потом начнем выводить людей.
На шоссе, будто из-под земли, вырвался сноп света.
— По-моему, полуторка, — высказал предположение Чапурин.
— Точно, — подхватил Кирьяков. — Когда она минует нас?
— Через три минуты.
— Правильно. Нужно разглядеть, что в кузове. Против фар не смотреть! Оружие держать наготове.
Машина быстро приближалась. Казалось, мотор рокотал на предельно высоких оборотах и вот-вот разлетится в куски. В кузове что-то шевелилось.
Лица танкистов обдало порывом ветра. Машина промчалась мимо них, потянув за собою душераздирающий, разноголосый крик:
— А-а-аа!…
Над бортами белели повязки.
— В машине полно раненых, — заскрипел зубами Самохин.
В кабине тоже две белые повязки. Значит, во Владимире-Волынском еще есть наши войска, — вслух рассуждал старшина Кирьяков. — Раненые, видимо, вырвалась из какого-то ада. Если они будут так, без оглядки, мчаться, то попадут в другой… Хотя бы заметили зарево впереди и догадались бы свернуть влево.
Кирьяков вышел на шоссе и подал колонне сигнал двигаться. Экипажу БТ-7 велел пересечь шоссе и выбрать для себя две позиции: основную и запасную.
Гридин облюбовал место для основной позиции у кирпичной развалины. Через пролом в стене хорошо просматривалось шоссе.
Изучая свой сектор обстрела, Гридин заметил вдали световые полосы. Они будто подпрыгивали, шарахались в стороны, опускались, исчезая: в земле. Казалось, сгруппировалось много прожекторов, которые, продвигаясь, стремились светить в одном направлении — на восток. Одновременно ухо улавливало сплошной могучий гул, который, приближаясь, то усиливался, то ослабевал.
— Глуши мотор! Надо экономить горючее, — приказал Гридин водителю и кинулся к старшине Кирьякову. Начал докладывать.
— Вижу сам, — остановил старшина. — Нечистая сила несет вражескую мотоколонну с танками и артиллерией. Надо успеть…
Раненые бойцы уже несмело выходили на светлое полотно шоссе.
— Шире шаг! Не задерживайся!..
— Кто может, бегом в лес!
— У меня ноги… Помогите…
— Скорее! Помогай, браток.
— Да он слабый. Пусть маленько отдохнет на этой стороне шоссе, иначе на ту не попадет.
— Прекратить разговоры! Первая рота — стой! Где командир?
Троян все посматривал на запад. Оттуда надвигалась огнистая лавина. Казалось, пылал лес. Даже в фантастическом сне не могло такое привидеться.
— Не ловите ворон! — накинулся Кирьяков на экипаж. — Первый выстрел — по головной машине… Хотя подождите, я сам…
Глухой рокот нарастал с каждой минутой, рвал душу.
Гридин впервые видел, что старшина Кирьяков волнуется, даже немного растерянный. Он приглядывался к старшине, боясь, что не увидит привычной улыбки на лице. Однако в ночной мгле нельзя было ничего разобрать. Да и Кирьяков уже овладел собою.
— Передайте водителям, — спокойно и выразительно распоряжался он, — чтоб были готовы дать задний ход на запасные позиции. Когда я ударю по головной машине, вы бейте по другой. Надо, чтоб на шоссе образовался затор. Обстановка может вынудить выйти из машин. Без меня не теряться, я те дам… Когда закончатся снаряды, бить короткими очередями из пулеметов. Закончатся патроны — отходи в березняк, что в 500 метрах отсюда. И ждать меня.
Гридин кинулся к бетушке.
Раненые медленно переходили через шоссе. Сзади, поторапливая их, сигналила легковая машина.
Кирьяков носился вдоль шоссе, подгоняя людей.
— Почему стоите? Где командир?..
— Сказали не обгонять раненых. А командир погиб на Луге.
— Поворачивай вправо и бегом через дорогу. Фамилия?
— Ежевикин. Рядовой.
— Командуй, товарищ Ежевикин группой. Вон, в тот лес… Бегом марш! Чья машина? Почему стоит?..
А люда все шли и шли… Группами, одиночками…
Ездовые подгоняли лошадей, тянувших орудия. Тарахтели подводы, кухни. Спешили команды бойцов с волокушами, носилками, с тюками войскового имущества.
Верхушки деревьев на обочинах шоссе уже пылали зловещими отсветами. Ежесекундно из балки могла показаться колонна вражеских машин.
— Ничего не поделаешь, придется стрелять над головами бойцов, — сказал старшина Кирьяков, усаживаясь за прицел.
Гул приближался. Сердца танкистов сжимались в тревоге. Выползал где-то из глубины страх. Так и подмывало убежать, спрятаться, зарыться в землю. Но рядом были товарищи, раненые, была ярость, был долг.
В воображении Трояна рисовались картины подвига. Вот замаскированные машины внезапным ударом останавливают врага. Фашисты растерялись и в суматохе стали топтать друг друга. Кто уцелел, пытается убежать, но и этих настигают пули… И вот уже радио передает сообщение о разгроме немецко-фашистских агрессоров на Луцком направлении…
На какое-то мгновение Троян лишился чувства реальности. Глаза ослепило резким светом. В небо взлетели осветительные ракеты. Трояна будоражили чувства то любопытства, то ужаса. Сдавило горло, затаилось дыхание, будто перед прыжком в бурные волны. А что, если Кирьяков промажет?
Он вздрогнул от команды:
— Бронебойным!..
Грянули выстрелы из пушек. Следить за событиями, и переживать теперь, уже не было времени. Троян только заметил, что дорога перед машинами вмиг опустела. После паузы вражеская сторона озарилась огнями выстрелов. Из-за бешеной пальбы не было слышно топота людского потока.
Беспорядочно запрыгали огненные вспышки. Поплыл дым над разбитыми машинами. В небо поднялся красный гриб — взорвалась какая-то емкость с горючим.
Троян зажмурился. Но ощущение повсеместной красноты не проходило. Казалось, они вместе с танком тоже горели. Жгло огнем в горле, в груди, во всем теле. Три вражеских танка, стреляя на ходу, мчались к кирпичным развалинам, где маскировались БТ-7 и броневик.
Гридин закусил губу: у него остался только один снаряд.
Танкистам показалось, что над ними занесен железный кулак. Сейчас он опустится и раздавит их. Только темень могла спасти. Надо поторопиться…
— Нет! Торопиться не следует, — сказал сам себе Троян. — Секунду! — остановил он Гридина, который намеревался нажать
на спуск. Троян приоткрыл крышку люка, прикинул дистанцию до вражеской машины: — Метров около четырехсот, — сказал он, опускаясь на сидение.
Гридин нажал на спуск.
Фашистский танк с ревом и скрежетом повернулся бортом к БТ-7. Но другие два объехали его и устремились к развалине. Такого варианта друзья не предвидели.
И в этот момент редколесье на противоположной стороне шоссе зашевелилось, засверкало вспышками. На шоссе выскочили две красавицы-тридцатьчетверки. За ними уступом влево двинулась масса конных и пеших бойцов. Эта лавина наступала широким фронтом с возгласом «Ура!»
Оба вражеских танка сразу ж повернули наперерез тридцатьчетверкам. Видимо, они хотели прикрыть мотопехоту на шоссе.
— Наши! Аносов!! — неистово закричал Троян.
— Отвлекают на себя… — догадался Гридин. — И как своевременно…
Небо на востоке розовело. Гасли звезды. В предрассветной мгле, немного в стороне от танкового гула, через дорогу двигалась сотни людей, орудия на конной тяге, повозки.
А тридцатьчетверка Аносова, приблизившись вплотную к вражеским машинам, брызнули огнем — одна и другая. Вспыхнул гитлеровский танк, загорелась грузовая машина. Потом обе тридцатьчетверки ворвались в колонну врага, тараня все, что попадалось на пути. Они нарвались на цистерны с горючим, на грузовики с боеприпасами. И их вскоре окутали клубы дыма и огня.
Поняв, что произошло, Троян ощупью искал в машине патроны. Приседая, застонал от злости, досады, бессилия.
БТ-7 и броневик, израсходовав боеприпасы, отошли в лес.
Противник опомнился. Поток его боевой техники свернул на правую обочину шоссе и двинулся в направлении Луцка, ослепляя фарами, стреляя и давя гусеницами все, что ему препятствовало.
— Похоже на то, что гитлеровцы куда-то очень спешат, нами заниматься им некогда, — выглянул из люка Кирьяков. — Замаскируйте машины и ждите меня.
Он вытащил из броневика тяжелый вещмешок и направился с ним к шоссе. Его догнал Гридин с двумя гранатами в руках.
— Так, так, Костя, — произнес старшина, доверительно и тепло, не оглядываясь.
— Думали порознь, а решили одинаково. Правильно! Сейчас мы их угостим…
— Это вы хорошо сказали, Дмитрий Иванович. — Гридин впервые обратился к старшине не по-уставному.
— Нужно быстрее… Давайте по-пластунски — уже светает.
Танки прошли обочиной. По шоссе двигались транспортеры, грузовики.
Кирьяков и Гридин взмахнули одновременно. Под передними колесами тупорылой машины, набитой пехотою, взметнулось пламя, грохнул взрыв, под задними — второй. Грузовик, который шел следом, налетел на огонь и тоже вспыхнул. На шоссе вновь образовался затор, а впереди — проезжее полотно чистое. И сразу ж в разрыв кинулись ползком и перебежками — люди. Позади всех, ковыляя, бежал полковой комиссар Дорофеев.
Гитлеровцы с подъехавших к пожарищу машин открыли бешеную стрельбу. Люди на шоссе падали, поднимались, опять падали. Раздавались тревожные возгласы, голоса команд, стоны раненых.
Верхушку куста, под которым маскировались Кирьяков и Гридин, срезало, как ножом. За воротник посыпались листья, ветви. Кирьяков дернулся, приглушенно вскрикнув.
— Вы ранены? — кинулся к нему Гридин.
— Пустяк. Жаль, что уже рассветает. Не высовываться!
Выше правого колена у старшины кровавились лохмотья штанины.
— Давай, Костя, назад.
Ползком они вернулись к машинам. Старшина поднялся, налегая на правую ногу. Сам забрался на сидение и только тогда разрешил сделать перевязку.
— Все прошли, — доложил Гридин, вглядываясь в рассветную мглу, в которой, то там, то тут мелькали силуэты бойцов. – Это благодаря вам, — устало посмотрел он на старшину.
На востоке занималась заря. Всходило летнее солнце.
Броневик двигался впереди, бетушка — следом. На восток вела узкая полевая дорога — разъезженная, ухабистая. Она забежала в жиденький перелесок, потом пряталась в лесу, который хмурою стеной стоял впереди. На западе и юге играли сполохи. Там не утихала стрельба.
Наступали сумерки. Однако ночь не обещала покоя. К такому выводу пришел Гридин на очередном привале, осмотрев окрестности.
Последнюю неделю танкисты выполняли различные разведывательные задания при стрелковой части, которая держала оборону на волынской речке Стоход.
В экипажах за это время произошли изменения. Когда после прорыва через шоссе Владимир-Волынский — Луцк Гридин отвез старшину Кирьякова в госпиталь, то там за рулем полуторки с красным крестом на борту и рваной дырой в крыше кабины, он увидел Мотылькова.
— Это ты, земляк? — удивился Гридин, пытливым взглядом рассматривая полуторку. — На ней вырвался из Владимира-Волынского? — показал он на потрепанную машину.
— Было дело… — неохотно отвечал Мотыльков. — Если бы я тогда не сел за руль и не выжал бешеную скорость, то оказался бы с группой раненых в плену. Как фрицы не били, но попадания в машину оказались не смертельными. Правда, кое-кого зацепило, в том числе и меня. Теперь я за рулем при госпитале как выздоравливающий. Забери меня, Костя, от этих «помощников» щербатой.
— Может, что-либо придумаем, — и Гридин пошел искать командира.
И Мотыльков стал башенным стрелком, а Самохин заменил раненого Кирьякова — занял место в броневике командира машины. Конечно, эти изменения в экипаже не были нигде документально зафиксированы. Машины воевали при стрелковой части, где в штабе было не до переоформлений нештатных единиц, и записи в красноармейских книжках, потеряли свое значение: молодые воины были уже не курсантами и еще не сержантами — приказа о выпуске из танковой школы, о присвоении новых воинских званий не было. Так и воевали рядовыми.
Машины пробирались на восток с целью разведать дорогу до речки Стырь, где намечался новый оборонительный рубеж стрелковой части.
У развилки проселка они остановились. К Гридину подошел озабоченный Самохин.
— Костя, — негромко заговорил он. — Почему ушли мы с Луги понятно. Но чего ради оставили Стоход? Гитлеровцев там – не такая уж сила, они ни за что не форсировали б реку. Неясно…
— А ты, Саша, взгляни вперед и вверх — может, прояснится.
Будто в подтверждение слов Гридина над верхушками деревьев вспыхнул яркий холодный свет.
Танкисты протирали глаза, стараясь понять, что произошло. Дорогу пересекли черные тени деревьев. Тени дрожали, приближаясь и как бы угрожая раздавить машины вместе с людьми.
Когда глаза немного привыкли к свету, Троян первый посмотрел вверх. Он увидел большой огненный шар, который висел над лесом. Где-то вблизи рокотал самолет. Звезды на небе потускнели. Зато на земле были видны, даже прожилки на листьях.
Это невиданное явление ошеломило танкистов. Самохин на обочине зацепился ногою за корягу и чуть не упал, схватившись за дверцу БА-20. Его неестественно бледное лицо, освещенное таинственными лучами, показалось неузнаваемо вытянутым.
— Что, Саша, прояснилось?- спросил тоном горькой иронии Гридин. Обернувшись к механику-водителю, добавил: — Федот, теперь ты, надеюсь, не будешь ныть, что не видно куда ехать. Волшебный фонарик осветил дорогу.
— Я уже привык ездить и вовсе без света, — буркнул Чапурин.
— Нам надо подальше от этой дьявольской фары. Кому она светит?
— Гитлеру не хватает светлого дня, — сердито вставил Троян.
— Вот и выдумал, подлюка, себе ночной каганец.
— Теперь все ясно, — подытожил Гридин. — Нечего стоять. Воспользуемся освещением — поехали. Но усилить наблюдение — под этой бандитской подсветкой может вражеский десант высаживаться.
Гридин выбрал более наезженную колею. Машины миновали перелесок, и вышли на обширное, подернутое туманом поле. То тут, то там слабо виднелись вроде стога сена. Среди них мерцал огонек. Будто шла машина. А может, кто-то подавал сигналы.
Вот и село. Словно вымерло. Ни единая собака не тявкнет. Когда под машинами скрипел мостик или мимо с шуршанием проносилась придорожные, ветвистые деревья, танкисты замирали — их лица обдавало какой-то тревожной прохладой.
Наконец, машины выбрались на светлое полотно широкой дороги. С правой стороны повеяло бодрящей свежестью. Чувствовалось, что близко речка, следовательно, и близка цель разведки.
— Это же здесь прошло детство Леси Украинки, — вдруг заговорил Троян. — И мы должны…
— … Усилить наблюдение, — перебил Гридин. — Справа — речка Стырь, слева — большое село. Кто тут? Пока неизвестно.
Броневик внезапно уменьшил скорость. Колеса его тревожно застучали. Машина резко накренилась вправо и остановилась.
— Что случилось? — торопливо спросил Гридин.
— Не знаю, — устало ответил Чапурин. — Что-то с колесом.
Пытаясь тронуться с места, броневик задергался, забуксовал на песчаной обочине и затих. Танк тоже остановился. Экипажи вышли на дорогу.
— Все, отъездился, — развел руками Чапурин. — Резина старая.
— Срочно принять меры… — приказал Гридин. — Мы тем временем осмотрим мостик, наметим огневые позиции, подготовимся к обороне. Если будет возможность, вернемся за вами, отбуксируем. Незабывайте, что наше место – не на этой, а на той стороне речки.
Не успел БТ-7 пройти мостик, как у него двигатель неожиданно заглох.
— Нет горючего, — безнадежно пробубнил Моторный.
— Не может быть! — не поверил Гридин.
— Проверили. Горючее еще было, но двигатель упорно не хотел работать. Только раз зарокотал, и танк немного сдвинулся с места на обочину дороги.
Гридин вернулся к броневику.
— Придется ждать, — грустно сказал он.
— Наших или гитлеровцев — кто окажется проворнее. На всякий случай подготовиться к круговой обороне.
Время шло. Занималась утренняя заря, а отремонтировать броневик так и не удавалось.
Танкисты совсем обессилели, и главное — не находили разумного выхода из затруднительного положения.
Оставив часовых возле машин, они сошлись на мостике посоветоваться.
Троян с возвышения осматривался.
Извилистая речка на юге терялась среда зарослей ивняка, осока, луговых трав. Там, за зубчатым выступом леса предрассветную мглу пронизывали огненные трассы.
— Что там? — спрашивал нетерпеливый Самохин. – Форсируют реку? Или бой с авиадесантом?
Никто не мог ответить.
Где-то совсем недалеко поднялась в небо ракета. По зеркалу речки побежали огнистые отблески. И в ответ, будто какой-то великан забубнил в бутылку:
— Бу-у-у!.. Уу-у-у!..
— Сигнал или что? — встревожился Самохин.
— Водяной бык, — пояснил Троян. — Вот кто прятаться умеет, — позавидовал он речной птице.
— С лесовиком перекликается, — шутливо добавил Самохин.
— А ну тише! — прервал Гридин. — Прислушайтесь.
— Шум моторов, — первый определил Троян.
— К машинам! — скомандовал Гридин.
Через несколько минут Троян уточнил:
— Наша.
Действительно, с запада к мостику приближался большой грузовик, переполненный красноармейцами. Под ветвями осокора остановился. Из кабины выглядывал знакомый лейтенант из стрелковой части.
Гридин подбежал к нему. Доложил.
— Проклятье!.. И тут невезение… — ругнулся лейтенант, выслушав Гридина.
— Подкачали наши бронетанковые силы. Беда к беде.
Он, подумав, решил: — Броневик тут, с места, а танк за мостом должны оборонять переправу. И будьте за регулировщиков. Одновременно при помощи ремлетучки — она должна быть замыкающей в нашей колонне — отремонтируйте машины и к 13.00 прибыть в лес, что восточнее села Голодницы. А пока, что все войска и боевую технику направляйте на восток через село Колки.
Грузовик двинулся дальше, а танкисты остались выполнять задание.
Войска шли, ехали, но — никакой летучки. Утром стало многолюдно. Колонны все прибывали. Мостик напоминал узкое горло бутылки, через которое едва протекала густая масса людей, техники. Когда совсем рассвело, налетела вражеская авиация. Троян не вырыл себе заранее щель и под завывание сирен, свист осколков и пуль ползком разыскивал, где б спрятаться. Но земля в окружности оказалась удивительно плоской и его швыряло воздухом, то в одну, то в другую сторону. Болели ушибленные колени, локти, плечи, затылок. Глаза запорошило, во рту скрипел песок. А над головою беспрерывно стучали пулеметы, малокалиберные пушки. И бомбы, похожие на еловые шишки, цепочками устремлялись к земле…
Фашисты налетали на переправу несколько раз. Только с наступлением вечерних сумерек гул самолетов, наконец, удалился.
Троян осмотрелся. Вблизи рисовались темные силуэты обглоданных деревьев. А среди нагромождений сбитых осколками ветвей обе машины каким-то чудом остались целыми.
Экипажи перекликались:
— Чапурин, живой?
— Порядок. Только мы не договаривались, что сверхурочная работенка будет без обеда…
Не теряя время, они взялись за ремонты.
Первый сдвинулся с места броневик. Пехотинцы помогли протолкнуть его через мостик. На восточный берег он выбрался сам, но с таким грохотом и скрежетом, будто вот-вот грозил рассыпаться.
— Ну, как? — встретил товарищей Гридин.
— Все что могли, сделали, — откозырнул Самохин. — Мы на ходу. Гридин присмотрелся внимательно и только сплюнул. Там, где были колеса, пестрели разноцветные заплаты, туго перевязанные веревками и телефонным кабелем.
— И эти рваные портянки вы называете ходом? – возмутился Гридин.
— А что? Дырки заклеены, и для верности перевязано проволокой. От этого только сцепление с почвой улучшилось, — объяснял Чапурин.
— Не заблуждайтесь. Вы и двух километров не проедете, как все разлетится.
— Ничего! Главное, до рембазы добраться. Подождите, и вам поможем.
— Чем вы, оборванцы, хотите нам помочь?
— А вот чем… Давай, Федот, сюда все, что у тебя есть для
бензонасоса,- велел Самохин своему механику-водителю.
Чапурин вытащил из-под сидения мешок с различными запчастями.
— Ого! Бесценный скарб! — накинулся Моторный и сразу ухватился обеими руками за связку прокладок.
— Ну и Плюшкин! — крутнул головой Самохин, узнав среди запчастей и то, что было обнаружено лейтенантом Яровым во время проверки тумбочки Чапурина. — И умудрился же наш Федот с тех пор не расстаться с этим добром.
— Добром, добром, — гримасничал Моторный, направляясь с прокладками к своей машине. — А вдруг это «добро» сейчас и пригодится.
И как это не удивительно через полчаса танковый двигатель зарокотал под восторженные выкрики «Ура!» обоих экипажей.
Танк выполз на шоссе. За ним ковылял броневик. Механики-водители сначала разведали дорогу до самого села и только после этого осторожно повели машины.
В душных вечерних сумерках осталось позади село Колки. На окраине машины свернули влево, на разъезженную, перепаханную гусеницами и колесами дорогу с глубокой колеей.
Броневик прополз по этой дороге метров двести и, буксуя, зарылся колесами в песок, а потом днищем сел на почву.
Самохин и Мотыльков кинулась искать, что подстелить под колеса. Вблизи все кусты и ветки на деревьях были уже срублены еще днем. Видно, не они одни попадали в такую передрягу.
Пришлось вернуться в село — поискать там доски, хворост, бревна. Но когда Самохин и Мотыльков, обливаясь потом, дотащили все это к броневику, оказалось, что Чапурин, не дождавшись их, сам взялся сдвинуть с места машину. Он затолкал под колеса свою гимнастерку, шинель и брезент, сел за руль, дал газ. Колеса затянули все это солдатское имущество под себя и броневик вроде тронулся. Чапурин обрадовался, газанул сильнее. Однако тяжелая машина тут же завязла, вновь забуксовала, и Чапурин, нервничая, сжег сцепление.
Увидев все это, Самохин в отчаянии взвыл:
— Балда! Недотепа!.. Не мог подождать нас…
— Хотел как лучше… — оправдывался Чапурин. – Инициативу проявил.
— Что теперь делать с твоей «инициативой»?
— Развивать ее дальше… Не плакать же…
Тем временем Гридин, обеспокоенный отставанием броневика, остановил БТ-7 и вместе с Трояном вернулся к товарищам. Он сразу все понял. Приказал немедленно все вещимущество вытянуть из-под машины.
— И чего я с вами связался? — вдруг загоревал Мотыльков, дергая из-под колеса рукав шинели.
— Не скули, Гера, или катись к чертовой матери, — ругнулся Гридин.
— И покачусь… — Мотыльков проводил завистливым взглядом запыленную грузовую машину, в кузове которой было полно бойцов.
Троян настойчиво останавливал машину за машиной, спрашивая у шоферов запчасти к броневику, но напрасно.
— Постойте, ребята!.. — бежал к БА-20 возбужденный Моторный.
— Федот! — ударил он себя по лбу: — В твоем плюшкинском сидоре что-то есть. Я сам видел!..
— И, правда! — обрадовался Чапурин. — Ну и глаз у тебя, Ваня! В чужом кармане знаешь, что есть.
Он вытащил свой вещмешок и стал в нем неистово рыться, выбрасывая тряпье, железяки.
— Вот! — наконец радостно крикнул Чапурин. И аппетитно облизал потресканные губы: — И еще одну важнецкую «деталь» нашел. Можем подкрепиться перед дальней дорогой. У кого нож?
Он подбрасывал на своей широкой замасленной ладони банку консервов.
— Ну и Чапурин! При виде съестного забывает обо всем остальном. Отставить «подкрепление»! — охладил Гридин. — Надо отсюда сначала выбраться, иначе утром фашист так тебя «подкрепит», что и винтиков не соберешь. Подай-ка домкрат…
Мотыльков, да и Чапурин, недовольно засопели.
— Ничего страшного. Все к лучшему… — подбадривал друзей Троян, помогая устанавливать домкрат. — Недаром говорят: воз ломается — чумак ума набирается. Могло быть хуже.
Танкисты дружно взялись за работу.
Моторный помогал Чапурину подбирать нужные болты, гайки, шайбы. Мотыльков расчищал и мостил дорогу. Самохин с Гридиным регулировали зазор в сцеплении.
Через полчаса сцепление — как новое. Дорога — чистое шоссе, правда — на протяжении двухсот метров.
Двигатель сразу завелся. Машина тронулась. И двигалась, пока хватило настила. А потом… Все повторилось.
Гридин, слова не проронив, подогнал БТ-7 и взял броневик на буксир. Однако плавно сдвинуть с места тяжелую стальную махину танку не хватало мощности. Он дергал БА-20, как упрямого бычка.
С диким завыванием мотора, вгрызаясь гусеницами в сыпучий песок, они метр за метром одолевали размолотую дорогу.
В серой предвечерней дымке замаячили избы. Танк остановился. Чапурин побежал к табличке при въезде в село.
— Го-лод-ни-ца,- прочел он. Хмыкнул: — И мы голодные, и село Голодница… Выходит, негде подкрепиться. Надо же такое…
Танковый двигатель опять заглох.
Механик-водитель Моторный осмотрел машину и угрюмо развел руками:
— И, кажется, бесповоротно.
Между машинами пронесся вихрь, подняв столб дорожной пыли.
Горькая пыль не оседала и на рассвете. Она ощущалась во взвешенном состоянии. Дыхание забивало от гари, дыма.
На южном небосклоне сверкала тревожные огни, гахкали выстрелы, рокотали моторы. Мрачные лохматые облака отбрасывали на землю паучьи тени. Молодой месяц, словно маневрируя, бойко нырял в них. Где-то возле него беспрерывно гудели самолеты. Огоньки, сверкая, будто кружили на одном месте.
Когда на востоке начала заниматься утренняя заря, Троян на минутку отвлекся от работы, любуясь игрою небесных красок.
— Что, смотрю, не насмотрюсь… — как бы упрекнул его Гридин.
— Если ночью не справимся с ремонтом, то днем фрицы устроят нам не такую «красоту”.
— Чего ты, Костя? Я и так не разгибаюсь, — обиделся Троян. — Взгляни лучше, что вон там, проселком движется.
Гридин присмотрелся.
— Ей- ей! Тягач! Артиллерийский, с орудием. Попросить бы…
Троян уже не слушал. Он бежал к проселку, наперерез тягачу.
Артиллеристы оказались людьми добрыми, участливыми. Через полчаса они отбуксировали обе машины на южную окраину Голодницы, под ветви кряжистых дубов и дикой груши, что росли в стороне от дороги.
Когда совсем рассвело танкисты, оглядываясь, старались разобраться в обстановке на незнакомой местности.
Впереди, под деревянным мостиком, тихо журчал ручей. За ним, на возвышенности, светлело хлебное поле. Дальше, на юге, чернел лес. Справа, вдоль дороги, зеленел ольховый молодняк, а слева, в небольшом озере, отражалось утреннее, голубое небо. За озерком тянулось болото — нерушимо стоял высокий камыш, темнели осока, кочки.
Гридин, внимательно оценив местность, пришел в ярость:
— Какие мы олухи царя небесного! Почему остановились в этой болотистой яме? Тягач же смог бы дотащить нас к лесу, на возвышенность. Мотыльков, беги на опушку леса, может, артиллеристы еще там.
Мотыльков без лишних слов, схватив карабин, побежал по следу тягача.
— Могло быть хуже, — пробовал Троян шуткой успокоить друзей.
— А что, если б мы до сих пор стояли на речке Стырь?
— Там, за мостом, была возвышенность, можно было б обороняться,- вступил в разговор Самохин. — А тут?.. Считай, Петро, что положение наше в тактически невыгодной низине хуже вчерашнего, но лучше того, что будет завтра.
— Невесть что… — Троян не хотел опровергать тираду Самохина. После паузы продолжил: — Нечего унывать. Все-таки сегодняшнее утро лучше вчерашнего. Взгляните на восход солнца… А природа…
— Ему показалось, что скворцы шумно кого-то передразнивали, а грачи с удивлением посматривали с деревьев на машины. Но сказал он совсем о другом: — А вон длинноногий аист вышагивает на луге, как часовой.
Он достал из вещевого мешка полотенце, все в масляных пятнах, кусок замусоленного мыла и побежал к ручью умываться.
Мимо Трояна, через мостик, беспрерывной вереницей двигались на юго-восток войска. Он снял и вытряхнул от пыли гимнастерку. Потом, наклонившись к ручью, начал плескаться холодной водой. Было так хорошо, что он не сразу опомнился, когда поднялась суматоха на мостике. Отразившись от стены камыша, прокатилось эхо выстрелов. На светлом фоне хлебного поля стремительно пробежали крестообразные тени. С неба ударили пулеметы.
Троян запрокинул голову и увидел низко над землей самолеты с черными крестами. Побежал к машине, так и не умывшись. «Как хорошо, что нас не видно под деревьями», — неизвестно зачем успокаивал себя Троян. От дороги клубами валил дым, несло пылью, копотью. Слышались выкрики команд, гремели выстрелы, взрывы.
Солнце не успело подняться, а пыльный жар уже наступил — дышать нечем.
Над отдаленной опушкой леса, где красноармейцы рыли окопы, невысоко в небе медленно кружил фашистский самолет. Он, казалось, упрямо тарахтел на одном месте, не обращая внимания на огонь с земли из различных видов оружия.
— Разведчик, — присматривался к странному тихоходу Самохин. И он не ошибся.
Вражеский самолет неожиданно исчез. Обезлюдела и дорога. Хвост пыли за вереницей машин медленно таял на фоне дальнего темно-синего леса. Все вокруг будто вымерло. Только откуда-то издалека доносилась пальба.
Но вот небо вздрогнуло от густого прерывистого гула. На западном небосклоне затрепетало скопление темных точек. Это плотным строем шли самолеты.
Над Голодницей две тройки развернулись и коршунами спикировали вниз, на опушку леса, над которой недавно кружил воздушный тихоход. С грохотом рвались бомбы. Земля часто -часто заохала, клубясь дымом и пылью. Задребезжали детали в открытом моторном отделении танка.
Деловито, с дьявольской педантичностью отбомбившись, фашистские самолеты сделала круг над дымившейся опушкой леса и улетели.
Танкисты выразительно переглянулись. Все понимали, что время работает против них. Вдохнуть жизнь в отслужившие всякие сроки машины они не могли.
Где-то пропал, не возвращался Мотыльков. И это еще больше тревожило.
— Петро, — сказал Гридин. — Наведайся в окопы. Узнай, какая там обстановка. Найди командира артиллерии, доложи о наших нуждах. И возвращайся скорее с Мотыльковым. Где он там запропастился?
Троян, закинув на плечо винтовку, и направился окраиной села к лесу. Остальные продолжали хлопотать возле двигателя БТ-7.
Жалобно визжало затупленное сверло. Беззубо елозил напильник. Звонко стучал молоток. Моторный, по обыкновению, разговаривал с машиной, с деталями:
— Эх, старушка — бетушка, подводишь… Ну, будь сознательной. Нам бы доковылять с тобой до какой-нибудь ремонтной летучки. Вот только наладить бы эту штуку… Это опора всего… Что? Резьба сорвалась? Я тебя сейчас… Понимаю, чего ты просишь: электродрель, электросварку, метчики, а еще лучше — запчасти… Но пойми…
Самохин возмущался:
— Смотри, механик — как ножом оттяпало!.. Чем это соединить? Попробуй сделать из собачьего хвоста сито!..
Минул час, другой. Троян не возвращался. Друзья нервничали. Но вот они увидели вдали знакомую фигуру, которая медленно приближалась к ним.
— Скорее, Петро! — нетерпеливо размахивал руками Самохин.
Наконец Троян ступил в тень дуба.
— Ну, рассказывай, что там? — кинулся к нему Гридин.
— Скверно, ребята. — Троян был весь в пыли. Едва стоял на ногах. — Набегался до упаду — нигде никого. В окопах – только окурки да охапки сена. Видно, все ушли до того, как самолеты налетели. Свернул по следам машин. Шел, шел — ни души. И вдруг слышу: в молодом соснячке рукояткою скрежещет. Мотор изредка чихает. Смотрю: полуторка с кухней на прицепе.
— Понятно. И ты сразу натрескался щей и каши «до не хочу», — позавидовал Чапурин.
— Нет, Федот, я не такой плечистый на еду, как ты, — скупо улыбнулся Троян.
— Голодной куме хлеб на уме, — кольнул Самохин взглядом Чапурина.
— Возле кухни был сержант, — продолжал Троян. — Он мне сказал, что пехоте и артиллерии приказано отойти на речку Горынь, куда и он торопился. Но машина испортилась… Назад я возвращался большаком. Думал встречу Мотылькова… Тут недалеко шарахнулись за кустами какие-то тени. Большак пустынный. Вот и все новости.
— Не отчаиваться! — нарушил Гридин тяжелую паузу. – Давайте испытаем то, что мы тут нагородили.
Стартер отозвался бойко. Двигатель подхватил его тоненькую песенку раскатистым басом. Но как только Моторный осторожно начал опробовать отремонтированную зубчатую пару, там прозвучали треск и скрежет. Машина вся задрожала, как от боли, и замерла.
Моторный в отчаянии ударился головою о броню:
— Неужели изменяешь нам, неутомимая бетушка? А-ай-ай-ай!..
— Не хочется верить… Как мы без тебя?.. — поднялся он, вытирая со лба обильный пот.
Кто-то упавшим голосом тихо произнес:
— Здесь местные старики так говорят: «Хоч круть — верть, хоч верть — круть, а в черепочку смерть».
Гридин кинул гневным взглядом:
— Кто это сказал?
Но — ни звука. Наступила тяжелая тишина.
— Прекратить болтовню! — продолжил Гридин дрожащим голосом:
— Казалось бы, что мы сделали все, что могли. Теперь попробуем сделать невозможное… Броневик нужно передвинуть так, чтоб ствол груши не мешал поворотам пушки…
— Как хотите, а я без еды больше не могу,- пожаловался Чапурин.
— Да, голод — не тетка, — поддержал Самохин.
— Ну, ладно, — подумав, отступил Гридин. — Что будем делать?
— Его вопросительный взгляд остановился на Трояне.
— Придется наниматься на обед в Голоднице, — сказал Троян с оттенком шутки в голосе.
— Хотя надежды мало,- продолжил Гридин и уже мягким тоном добавил: — Но бдительность утроить. Кто останется на охране машин?
— Я! — охотно вызвался Моторный. — Не люблю в Петровку печеного льда искать.
— Если б тут хорошие люди жили, давно б наведались, — неуверенно, колеблясь, вставил Самохин.
— Нечего рассусоливать, — оборвал Гридин и приказал Моторному: — А ты, Ваня, перестань флиртовать со своей ненаглядной бетушкой, и смотри в оба, а зри в три, как говорит, Петро.
Гридин пустился догонять товарищей, которые направились к ближайшим избам.
Возле колодца на них напали собаки. Чапурин поднял с земли обломок палки.
— Черти шелудивые, чего заливаетесь?
Белобрысый пес, давясь от беспрерывного рычания, прятался в подворотне.
— Не дразни, и перестанут, — одернул Троян друга.
На углу переулка показался крестьянин неопределенного возраста с ведрами.
— Этот не перестанет, — замахнулся он коромыслом на пса, который захлебывался от лая. — Хоть хвоста ему оторви — овцою не станет.
Танкисты поздоровались.
Крестьянин — в потертом, форменном, как у железнодорожников, пиджаке — смотрел настороженно. Сдержанно спросил:
— Чем могу помочь товарищам?
Буква «р» слышалась как «ж». Троян видел в этом незнакомце что-то иностранное, хотя в голосе звучало дружелюбие, а глаза смотрели просто и добросердечно.
— Мы хотели б купить хлеба и еще чего-нибудь поесть, — сказал Гридин.
— Нам без особого выбора, — уточнил Троян. — Что найдется.
— Понимаю, понимаю, — закивал головою «железнодорожник». —
Вы давно здесь стоите. Мы хотели подойти, но как-то неловко: ваше дело войсковое… Прошу в дом, пообедаете. Только извините, мы – по-крестьянскому. Хлеб ныне есть — не то, что было при Польше. Голодница, с тех пор, как пришла Красная Армия, не голодная… Воинство не поедет от нас?
«Стыдно признаться, что хотели б уехать, да беда не пускает», — подумал Гридин, а вслух сказал:
— Теперь все на колесах. Одни едут, другие проезжают, как обычно на войне. Мы, к сожалению, не можем здесь, за обедом, долго задерживаться. Лучше б с собою взять.
— Можно. И горяченькое кое-что найдется. Прошу. — Он поднял полные ведра и повел танкистов в переулок.
Остановился возле избы с игрушечной ветряной мельницей на крыльце. Открыл калитку, пропуская во двор гостей. Троян замедлил шаги, обратив внимание на лопасти мельницы: они слегка покачивались, хотя стояло безветрие. «Как перед бурей…» — подумал боец, подтягиваясь. Тут же его тронула простая, домашняя картина: навстречу, по ступенькам крыльца сходила моложавая женщина с мальчишками лет пяти и десяти.
— Еще дочка есть, старшая… — говорил хозяин, показывая свою семью.
Во двор начали приходить соседи. Они внимательно присматривались к воинам. Женщины застенчиво доставали из узелков, лукошек хлеб, сало, масло, творог, яички. От денег наотрез отказывались. Некоторые крестьянки украдкой утирали слезу.
— Что дают, берите с собою, в мешочки, — советовал хозяин. — Сухомятка вам, конечно, надоела. Поэтому прошу в дом, к столу.
Хозяйка низко поклонилась гостям.
— Спасибо. Мы привыкли на свежем воздухе, — вежливо отказывался Гридин, время от времени озираясь в сторону машин. Как бы он ни стоял, машины не терял с глаз.
— Сейчас в аккурат обед. Разве можно человеку без горячего?
уговаривал бойцов хозяин. На минутку задумался, почесал затылок и что-то быстро сказал соседям на смешанном польско-украинском языке.
Женщины засуетились. Неизвестно откуда появились во дворе стол, скамейки, лавки. На цветастой скатерти задымились миски с борщом; посредине, на белом рушнике с вышивкой возвышался пышный каравай хлеба.
— Можно язык проглотить, — толкнул Чапурин Трояна в бок.
Сели за стол так, чтоб видны были машины, дорога, молодой ивняк. Мало-помалу разговорились.
Белоголовый мальчишка с красной звездочкой на лацкане длинного пиджака сразу ж прилип к Чапурину. Устроился у него на коленях и все расспрашивал:
— Дядьку червоноармеец, когда ваша орудия ударит по тому
герману? А у нас будет бой?..
Чапурин неопределенно покачал головой, чем заметно огорчал малыша.
— Дядьку, стрельнули б по тому лесу. Там злодеи ховаются…
— продолжал он свое.
Бойкая девочка-подросток поставила на стол большую миску со сметаной, налила молока в кружки и, краснея, обратилась почему-то к Трояну:
— Может ли в вашей школе изучать науки ученик нешляхетского рода?
— Может… — не совсем поняв вопроса, ответил Троян.
— А разрешают не поехать в Сибирь по окончании школы?
Троян понял ее только после пространного разъяснения отца.
Ясные и наивные глаза подростка удивленно расширилась, когда Трон рассказал, что в Советском Союзе выбор профессий и места работы — дело добровольное, что девушки, наравне с юношами, сами выбирают себе работу по душе. Потом особенно поразило девочку, что Троян и Гридин говорили одинаково свободно по-русски и по-украински. Узнав, что оба — вчерашние студенты, она подпрыгнула от восторга.
— Я хочу стать учительницей! Поеду в Россию и поступлю в ваш институт. Меня зовут Ядзя Барвинская. Запишите… Правда, что у нас войны не будет? Ведь могучая Красная Армия … — сыпала горохом темпераментная Ядзя. Она не сомневалась, что, а на последний вопрос услышит: «Нет, не будет. Дальше врага не пустим!» И у Трояна сразу пропал аппетит. Что он мог ответить?
— Трудно сказать определенно… — старался он как можно доступнее рассказать о вероломстве агрессора.
В разговор вмешался Гридин.
— Готовьтесь к наихудшему, — вдруг развеял он надежды крестьян. — Не исключено, что фашисты придут сюда. Будет бой, стрельба…
— Я не хочу! — всполошилась Ядзя. — Папа, поедем с красноармейцами туда, где институты, где нет фашистов, нет войны.
— Бог с тобою, донько!..- встревожилась хозяйка, мама Ядзи.
Дороги забитые. Всюду бомбят… И на чем ехать? – добавил отец.
— Тогда я сама…
— Без родителей, без документов в военное время нельзя, — стал объяснять Гридин.
Хозяева благодарно посмотрели на спокойного, рассудительного танкиста.
Тем временем людей во дворе увеличилось. Троян и Гридин, которые лучше своих товарищей понимали местный говор, непринужденно беседовали с крестьянами, отвечали, как могли на их вопросы. Танкистам было и больно и стыдно — они предвидели, что придется покидать на произвол судьбы добрых людей. Какая доля их ждала?
Во дворе откуда-то появился взволнованный пожилой человек. Он кивнул хозяину и оба ушли за дом. Троян тут же пересел на край лавки, чтоб видеть и слышать собеседников.
— Там герман, — показал пожилой крестьянин дрожащей рукой на опушку леса, вклинившуюся в массив ржи.
— Та ви що, збожеволіли, куме?
— Як бога кохам!.. Сам бачив: живі фашисти.
— Щось таке мелете, що й купи не держаться. Он яка сила Червоноі Арміі через міст сунула. Залізні танки той міст охороняють.
— Я не буду я, як брешу. Це ж мабудь той десант…
Тра-та-та!.. Тра-та-та!.. — вдруг резанули тишину пулеметные очереди, будто подтверждая справедливость кумовых слов о «германе».
Гридин поднялся. Слова команды застряли в горле. Но танкисты и сами схватились за оружие.
Женщины с визгом бросились врассыпную. Двор вмиг опустел.
Ядзя стояла на ступеньке крыльца. И произнесла четко, по слогам:
— До-сви-да-ни-я!
В ее светло-голубых глазах блестели слезы.
Над деревьями, под маской которых стояли БТ-7 и БА-20, с криком взлетели грачи. Всполошенная стая метнулась к лесу, но сразу ж с отчаянным карканьем вернулась назад.
Сизые дымки расцветали на опушке леса и медленно скатывались к мостику.
— К машинам! — закричал Гридин, прыгнув прямо через забор на улицу.
Друзья, молча, поторопились за ним.
Троян на ходу вспоминал, как ночью где-то недалеко кружили на одном месте самолеты. Потом была стрельба. Несомненно, там высаживались вражеские парашютисты. Впоследствии они могли соединиться с теми, что на юге форсировали Стырь. И теперь очевидно гитлеровцам понадобилась дорога, возле которой застряли БТ-7 и БА-20. Следовательно, экипажам крайне важно немедленно занять места у танкового оружия, иначе…
— Троян, влево, тропинкой!.. Самохин и Чапурин — напрямик!.. — командовал Гридин.
Сам побежал улицей, укоряя себя за беспечность, за то, что разрешил покинуть машины на неповоротливого, флегматичного Ивана Моторного, за неумение командовать людьми.
— Осторожно! Зря не высовываться, — предупредил Гридин. —
Перебежками — вперед! Моторный, за пулемет! Ушкварь по опушке!
Тот, видно, услыхал, потому что быстро кинулся в люк
БТ-7.
Танкисты перебежками, ползком пробирались к цели. Они запутывались в кустах лопухов, полыни, крапивы, падали, опять ползли. Задыхались. Но стремление опередить врага и встретить его из танкового оружия придавало сил.
Металлически застучал танковый пулемет из БТ-7. Вражеская пальба на минуту затихла. Друзья сделали последний рывок а благополучно нырнули в свои люки.
Гридин припал к прицелу. Сразу увидел на краю ржаного поля шевеление колосьев. Ясно: из леса в хлеба перебирались враги.
— Осколочный!.. — поступила команда.
Щелкнул затвор танковой пушки. Грохнул выстрел. Второй… Снаряды поднимали во ржи пыль. Очереди из пулеметов прочесывали укрытия, где прятались гитлеровцы.
— Покидают ненадежную маскировку. Бегут к добротной окраинной избе. Не пустить их туда! — слышался голос Гридина.
Он корректировал и стрельбу из броневика.
Вражеские выстрелы прекратились. Поле и лес словно обезлюдели.
Танкисты, выжидая, недоумевали: враг притаился или уничтожен?
— Прекратить огонь! — распорядился Гридин. — Чапурин, со мною, в разведку!
Они выбрались из машин и, держа винтовки наготове, двинулись перебежками к мостику. Переползли по дощатому настилу. Поднялись и под прикрытием кустарника — бегом к ржаному полю. На меже — возвышении залегли. Звучно прокаталось эхо винтовочных выстрелов. Ответа — никакого. Разведчики, маскируясь, побывали в местах, где ранее пряталась враги.
Наконец, Гридин и Чапурин вернулись к машинам. Через плечо у каждого висели трофеи: черные короткие автоматы, полевые сумки, ранцы из телячьей шкуры.
А позади, за речкой, все усиливалась пальба.
Танкисты собрались за кормою посоветоваться.
— Что ж, очевидно, наступил конец нашим ремонтам,- вздохнул Гридин, охватив загрязненной пятерней небритый острый подбородок. Его лицо посерело, темные глаза не скрывали одного: положение безвыходное.
— В гражданскую войну черноморские моряки затопили боевые корабли — только бы врагу не достались, — сказал Самохин.- Взорвать!
— То в гражданскую… — возразил Гридин. — По решению Советского правительства… А мы не получали приказа командования уничтожать боевую технику.
— Учебно-боевую, — поправил Самохин, стоя на своем: — Нельзя допустить, чтоб враг смог заполучать трофей, из которого можно стрелять. Попытка выстоять с нашим мизерным остатком боеприпасов приведет нас — боюсь произнести! — в… плен.
— О, нет! — горячо возразил Троян. — В народе говорят: «Радше впадъ, але не зрадь.»
Гридин добавил:
— Еще наши далекие предки считали, что Лучше убиту быти, нежели полонену быти.
— Братцы! — тревожно крикнул Чапурин, стоявший на посту. — С тыла — какие-то люди!..
Друзья кинулись к люкам. Башни ожили, поворачиваясь стволами в сторону реки.
Гридин, опустив ноги в люк, застыл на башне. Он пристально всматривался вдаль размолотого транспортами большака, понимая, что прерванный разговор — теория. Теперь предстояли дела. Требования Присяги приобретали новый смысл.
А группа людей, которая тяжело шагала обочиной дороги, подходила уже совсем близко. Впереди выделялась высокая фигура со «шмайссером» на груди. Остальные — в вылинявшем обмундировании, с загрязненными повязками ранений — шагали с винтовками за плечами устало, но ровно и спокойно.
Вот высокий человек, шедший впереди, поднял руку, помахал. Предупреждал, что ли? Танкисты всматривались в эту фигуру и не могли опознать, хотя в ней было что-то приметное.
Все прояснялось, когда услыхали:
— Ага! Вон, где студентики замаскировались, я те дам!
От неожиданности, от приятного удивления танкисты и слова не могли произнести. Будто гора с плеч свалилась. В глубине души затеплилась надежда. Старшина Кирьяков всегда казался им тем загадочно-мудрым человеком, который знал выход из любого, даже безвыходного положения.
— Дмитрий Иванович!.. Товарищ старшина! Какими судьбами?..
А еще говорят, что чудес не бывает… — расчувствовался, со слезами на глазах Троян, вывалившись наполовину из люка.
— Здорово, орлы! — пожимал старшина руку каждому танкисту, обводя их шутливо — критическим взглядом. Потом нарочито — браво выпятил грудь: — Правда, не у каждого из вас вид орла. Но ничего, теперь заживем — все-таки, нашему полку прибыло. — Он повернулся назад, к своим спутникам, которые все еще устало подтягивались.
— Мои хлопцы — госпитальная команда выздоравливающих – только что из боя, но не унывают, хотя каждый знает, что впереди пахнет новой дракой. Вон, взгляните: опушка леса за ржаным полем кишит гитлеровцами. Удивительно, как они до сих пор вас не смяли в этой заболоченной яме? Понимаю, понимаю, Гридин, что вы им уже дали перцу. Снаряды есть?
— Семь осколочных, два бронебойных, двести патронов, — доложил Гридин.
— Маловато. Но использовать их надо с толком. – Старшина задумался, привычно выбивая на планшете «Марш танкистов». — Товарищ Ежевикин, — обратился он к рядовому с забинтованной головою:
— Ударим по врагу единым кулаком. Сейчас же скрытно проберитесь со своим отделением к меже, что на краю ржаного поля. Заляжете там. Когда мы жахнем из пушек, вы — залпом врагу во фланг. Потом смените позицию и действуйте по обстановке так, чтоб у фашиста создалось впечатление, что его окружают. Наши три одиночных выстрела из танкового пулемета ДТ — сигнал вам вернуться к машинам, опять-таки скрытно.
Отделение Ежевикина быстро исчезло меж кустов ивняка.
— В какой машине имеется вакансия? — спросил Кирьяков Гридина.
— В броневике, — ответил тот.
— Назначаю себя временно командиром БА-20. Возражения есть?
— Вы, как всегда, шутите, товарищ старшина.
— Грешен. Но не каюсь …
Старшина Кирьяков сел за пушку БА-20. И сразу обнаружил на опушке леса две групповые цели. Оба орудия ударили разом. Затем послышались залпы стрелков Ежевикина.
Израсходовав все снаряды, и, убедившись, что с пользой для дела — враг не проявлял признаков активности, — Кирьяков приказал Гридину дать сигнал Ежевикину на отход, а сам взял фанерный ящичек с красным крестом на крышке, роздал танкистам медикаменты. Выломав дно опустевшей аптечки, написал на нем по-немецки:
«В могилу!» и жирно нарисовал стрелу-указатель. Таких указаний он приготовил несколько.
Бойцы с удивлением следили за странной работой старшины.
— Чего рты разинули? Гридин и Самохин, снимите с машин пулеметы, выньте затворы из пушек… А вы, Чапурин, наберите ведро бензина… Отставить панихиду!- повысил голос старшина, увидев помрачневшие лица танкистов. — Вы и так сделали больше, чем могли. Фашисты приняли вас за танковое подразделение, которое пытается заманить их в заболоченную низину. Но сейчас они разберутся и на «танковую засаду» двинут огненным и броневым кулаком.
— Нам нечего по-детски испытывать свою волю. Красиво умереть — дело непростое. — Он неожиданно улыбнулся, хитровато прищурив глаза: — Как вы думаете, за рычагами новых танков, кто сильнее задаст жару бесноватому фашисту: молодой, необстрелянный танкист или тот, кто понюхал пороха?
— За одного битого десять небитых дают, — вставил Троян.
— То-то! Иногда для лучшего разбега нужно отойти… – И Кирьяков торопливо и громко закончил: — Подготовить машины к уничтожению!
Понурив головы, танкисты полезли в люки. И сразу наружу полетели пулеметные диски, пушечные затворы… На запыленной траве выросла куча войскового имущества.
Резко запахло бензином.
— Товарищ старшина, — обратился к Кирьякову Чапурин. — Все
имущество мы не сможем забрать. Может, чтоб облегчить наши сидоры, немного перекусим? Ведь я в Голоднице от кое чего не отказался.
— Хвалю за юмор, — будто согласился старшина, но тут, же Ежевикину приказал: — Распределить среди красноармейцев отделения часть танкового имущества. Да, не забудьте прибить к стволам придорожных деревьев таблички с моими надписями, стрелки должны указывать на мост… Гридин, немедленно ведите колонну!
Когда голова колонны стала прятаться в зарослях ивняка, Кирьяков взял ведро и подошел к броневику. Плеснул в открытую дверцу. Остаток вылил в черный проем люка механика-водителя БТ-7, Потом медленно, как бы обдумывая, оценивая свои действия, вынул из кармана коробок. Посмотрел еще раз на машины, как будто прощался с ними. Наконец резко чиркнул спичкой и бросил маленький огонек на мокрое брезентовое лохмотье. В лицо ударило горячее пламя. Кирьяков подошел к танку…
Уже из ивняка оглянулся. Из-за деревьев поднимались в небо два столба черного дыма.
Он настиг колонну на краю болота. Велел бойцам свернуть с тропинки в луговой кустарник, чтоб не маячить на открытой местности и не привлечь погоню за собой. Бойцы, сгибаясь под тяжестью оружия и войскового имущества, понуро брели на восток.
Шли молча. Только слышалось тяжелое дыхание. Трещал валежник под ногами. Лес становился все гуще. Стволы сосен обступали бойцов все плотнее. Смеркалось.
Старшина Кирьяков послал Ежевикина разведать, не проходили ли вблизи войска. Разведчик вскоре вернулся — ни единого следа обнаружить не удалось.
Скоро совсем стемнело. Когда деревья порой расступались, над головой в просветах меж ветвями мерцали звезды. На прогалинах дышалось легче — не так давил смолистый дух. Зато ноги заплетались в густой траве, подстерегали ямы, пеньки, коряги. Иногда путь преграждала стеною заросли орешника, черемухи, терновника.
— Воистину тернистый наш путь, — как бы про себя проговорил Троян.
Перед рассветом, когда стало совсем темно, и люди, мокрые от пота и сырости, еле тянули ноги, старшина объявил привал.
Место для отдыха он выбрал под ветвями кряжистых дубов, которые образовали над головой сплошной, непроглядный шатер. У подножья этих великанов бойцы сложили оружие, вещевые мешки, тюки. Сами попадали, как подкошенные, на сухую прошлогоднюю листву.
— Вот теперь, как советовал Чапурин, мы и облегчим вес некоторых сидоров, — весело объявил старшина Кирьяков. — Потом какой-то часик послушаем, как эти дубы растут.
— Фу! Так опал телом, что и на еду не тянет, — вздохнул Чапурин. — Но надо крошку пожевать, иначе цыгане приснятся.
— Только бы не те, что к нам через рожь подкрадывались, — дополнил Троян в том же шутливом тоне. — Садись, братцы, к невиданному столу.
— И, правда, стол невиданный, — подхватил Самохин. — Даже вблизи не видно, что за еда разложена на плащ-палатке, то бишь на скатерти-самобранке.
— Я так устал, — растянулся на земле Чапурин, — что не возражал бы, если б вкусные кусочки сами по себе попадали б прямо в рот.
Бойцы начали ужинать. Хвалили Федота за то, что он сумел в боевой обстановке сохранить голодницкие дары.
Кирьяков назначил часовых, определил порядок их смены.
Троян стоял на посту в самое трудное, предрассветное время. Прислушиваясь к лесным звукам, он вдруг встрепенулся: из чащи донесся чистый мелодичный посвист:
— Чьи вы?.. Чьи вы?..
— Свои, — через минуту нашелся часовой. — Рано будишь.
— С кем вы там разговариваете, Троян? — приподнял голову старшина Кирьяков.
— Виноват, разбудил вас, — спохватился Троян. — Чибис там.
Тоже службу несет. Чьи мы, спрашивает.
— И в самом деле… — потянулся Кирьяков. — Нам очень хотелось бы знать, чьи мы теперь?
— И с танками порвали, и с пехотою связь не наладили, — сонно пробормотал Самохин.
Старшина Кирьяков подхватился, размялся накоротке. На востоке занималась заря.
— Будите людей, Троян. Двинем холодочком в путь,- приказал старшина, переобуваясь. — Немножко передохнули и достаточно.
Бойцы поднимались нехотя, насилу сгибали, разминая, затекшие руки, ноги.
Сориентировались по солнцу, лучи которого еле пробивались сквозь густые заросли. Справа над лесом гудели самолеты. Слышно было, как часто-часто бабахали зенитки, а лесное эхо дублировало. Вскоре между деревьями показался просвет. Кирьяков остановил колонну, послал Гридина с пехотинцем в разведку.
— Лесная дорога, — доложил Гридин, вернувшись. – Сильно разъезженная, но неизвестно кем, скорее всего нашими и врагом.
Где-то недалеко слышались спорадические выстрелы, завывание моторов.
Внимательно оглядываясь, Кирьяков повел людей к дороге. На обочинах стояли высокие деревья с обломанными ветвями, ободранной корой; молодая поросль искромсана колесами и гусеницами. Тонкие сосенки, березки, осины, придавленные к земле различными транспортами, стремились подняться, будто раненые в бою солдаты.
Дорога вела на восток. Кирьяков приказал идти обочиной, в тени, чтоб ненароком не нарваться на врага.
Опять шли молча. Казалось, после кратковременного сна, ноги стали еще более непослушными, а ноша отяжелела раз в десять. Только Моторный, на удивление всем, находил в себе силы время от времена забегать по следам в лес, осматривать лесные завалы, кусты.
— Агов, хлопцы!.. — послышался вдруг из зарослей его окрик.
— Чего он? — остановился Кирьяков.
— А бес его знает. Может, птичье гнездышко нашел, — отмахнулся Самохин.
— Давайте за мною! — выбежал навстречу Моторный. — Вон, видите: куча привялых веток… Это маскировка. А справа, — показал он по привычке жестом: — Колесо!
— Техника!.. — обрадовался Чапурин.
— Еще и какая! То, что нам надо.
Кирьяков скомандовал повернуть в чащу.
Пока бойцы пробирались через кустарник, длинноногий Чапурин первый очутился возле находки Моторного. Его внимание привлекла, прежде всего, полевая кухня на буксире. Он уже кинулся было отвинчивать зажимы на горячей крышке котла, как из-за кустов прозвучало:
— Эй, кто там хозяйничает?
На прогалину вышел высокий сержант с сердитыми желтыми глазами. Правое плечо оттягивала винтовка, в руках топор. За ним шли двое, с охапками валежника, видно, повара.
— Мы думали, что брошенная… — начал Гридин и внезапно отскочил от машины, замаскированной ветками.
Под радиатором что-то шевельнулось, засопело. Гридин наклонился и увидел русоволосую голову, забитую соломой, хвоей.
Кряхтя и вздыхая, из-под полуторки вылез мускулистый детина в замасленной гимнастерке.
Сержант дернул винтовку с плеча и уставился желтыми глазами в бойцов, которые подходили с дороги.
— Кто такие? Чьи вы?..
Внешний вид его был какой-то карикатурно — причудливый. Уши и нос напоминали вопросительные знаки, да и вся фигура — тонкая сутулая — походила на этот знак.
— Свои, товарищ сержант. — Троян вышел вперед. — Вчера мы с вами встречались в лесу. Не узнаете?
Сержант заметил танковые эмблемы на петлицах Трояна и его фигура начала медленно выпрямляться.
— Узнаю. Значит, вы теперь остались без колес? Что-то больно много наших машин чадят дымами на дорогах… Душа горит от таких пожарищ.
— А что с вашим транспортом? — вмешался в разговор Кирьяков.
— Нет передачи на кардан. Сцепление не включается.
— Только и всего? — подскочил Моторный. — Товарищ старшина, разрешите взглянуть?
— Слепухин, давай покажи машину механику, — кивнул сержант своему шоферу.
Замасленный парень, пожав плечами: мол, и охота возиться, неторопливо полез в кабину. К нему кинулся Моторный.
Пока бойцы сбегали дважды по воду, Моторный, вытирая пот со лба, собрал инструменты и поставил на место шоферское сидение.
— Эй, хлопцы! — предупредил он. — Глядите, как бы в лесу не остаться. — И ткнул полусонному шоферу рукоятку: — Заводи! Только сначала бабину закороти — у тебя аккумулятор «сел».
Машина завелась не сразу. Моторный еще поколдовал на своем языке с карбюратором, покопался в зажигании и двигатель затрясся как в лихорадке, стреляя кольцами выхлопных газов.
— Кто верует в технику, садись!
Полуторка медленно сдвинулась с места, освобождаясь от ветвей маскировки. Сразу завопил повар, свесившись с кухонной приступки.
— Осторожно, Ваня, это не танк! — крикнул Гридин.
— Куда ты?.. Стой! — замахал руками сержант. — Слепухин по воду ушел. Котел неполный. Дрова остались…
— Найдем и воду, и дрова. Садись, сержант, в кабину. Я с кузова буду следить за воздухом. Слепухин вон уже догоняет… — спокойно и весело распоряжался старший по званию — Кирьяков.
Полуторка выбралась из леса и помчалась дорогой, мотая хвостом пыль.
Над приметным хвостом из-за леса неожиданно вынырнули распластанные крылья фашистского самолета. Его острый нос ощерился огненными вспышками.
— Воздух!
Оглушительное рычание пронеслось над головами, едва не зацепив кабину. Впереди машины запрыгали фонтанчики дорожной пыли.
— Промахнулся. Неужели вернется?
— Может вернуться, гадина, — сказал старшина и крикнул в кабину: — Ваня, давай шуруй куда-нибудь под дерево. Да вон над дорогою ветви свисают…
До ветвистой березы оставалось еще метров триста, когда над головою вновь послышалось металлическое завывание.
— Моторный! — кричал, перегибаясь через борт старшина. — Разгоняй машину!.. Руль влево! Влево, я те дам!.. Стоп!
Маневр оказался удачным. Фонтанчики запрыгали с правого борта. Бойцы в кузове прилегли.
— Теперь вправо! — командовал Кирьяков. — Под березами —
тормоз! Всем — в лес! Залечь в ямках, канавах — где придется. Бандит повторит нападение.
Еще не осела над дорогою пыль, прикрывавшая бойцов и машину, как опять донесся зловещий вой. Грохнула бомба. Горячая волна ударила в спины.
— Все. Добился пират своего, зло сплюнул Гридин, возвращаясь из леса к дороге — он так и не успел залечь.
— Эх, машина, ты машина, все четыре колеса… — горько пропел Самохин, увидев разбитую полуторку.
Моторный, невнятно бормоча, дал волю жестам — так он небывало люто проклинал фашистского стервятника, бесноватого Гитлера и всех его прихвостней.
— Хорошо, что хоть оружие похватали, — утешал друзей Троян. — А то оно могло быть и хуже.
— А боеприпасы? — опросил старшина.
— Я бросил мешки с патронами, магазинами в кусты, — сказал
Чапурин. — Нужно оттянуть их подальше от огня.
— Тогда быстрее! Подлюга еще вернется.
И в самом деле, дорогою опять пронесся вой.
Бойцы кинулись к машине, которая полыхала дымным костром (в кузове бойцы забыли горюче-смазочные материалы). Чапурин, накрывшись каким-то мокрым лохмотьем, отцепил от полуторки кухню и столкнул в кювет.
Сержант отчаянно ругался, рвал на себе волосы.
— Не горюй, друже ты мой сизый, — успокаивал его старшина Кирьяков. — Каша уцелела, не оставлять ее врагу. Пока он не трогает нас, пообедаем.
К кухне подошли бойцы — с котелками, банками от консервов и начали разбирать кашу.
— Ешьте вволю, но не глотайте осколков, — предупреждал
Чапурин. — Мне уже один попался, чуть зуб не сломал.
Земля тяжело колыхнулась. Где-то недалеко рвались бомбы.
Из-за поворота выскочил всадник. Конь галопом перенес его на теневую сторону дороги. Всадник был простоволосый, взлохмаченный, гимнастерка вздымалась от ветра.
Когда тот приблизился, сержант узнал своего бойца, посланного утром в разведку.
Боец спрыгнул с взмыленного коня, вытер рукавом потное, запыленное лицо.
— Фу! Все-таки перехитрил. Еле-еле убежал.
— От кого? — нетерпелось сержанту.
— От самолета. Мчался за мною. Все норовил пулями пригвоздить меня к дороге.
— На кой черт мне твой самолет? Докладывай, что узнал, — нервничал сержант.
— Интендант велел неисправную машину уничтожить. Кухню перевезти кобылою.
— Опоздал твой интендант. Командира полка видел?
— Нет. Ему не до нас…
Не получив от сержанта никаких указаний, боец поинтересовался:
— Как быть с кухней? Может, оглобли приладить?
— Не видишь, что кухня разбита? — сердито вскочил сержант.
— Лошадь отдай старшине, а сам — за мной!
И, опустив голову, сержант зашагал на восток пыльной дорогой.
Вещи, оставшиеся целыми, погрузили на лошадь. Моторный взялся за поводок.
— Ну, Ваня, — сказал Самохин, осматривая товарища. — Был ты механиком-водителем танка, потом шофером автомобиля, а теперь стал водителем кобылы. И до чего, брат, докатился?
— Да ну тебя! И так тошно, — не принял шутки Моторный.
— Очень много пылюки от твоего транспорта. Демаскируешь нас, — подбросил Чапурин. — Правил движения можешь не придерживаться. Перейди на левую сторону дороги.
— Довольна лясы точить! — оборвал старшина. — Подтянись!
Замыкающие, усилить наблюдение за тылом.
… Колонна пробиралась лесом, в обход населенных пунктов. Так было безопаснее. К группе присоединились еще несколько красноармейцев.
В тихом сосновом бору, возле бойкого лесного ручейка, Кирьяков объявил привал. Бойцы перебинтовывали раны, мылись, стирали портянки, брилась. Здесь, под защитой леса, в затишке, разговорились. Кирьяков прислушался. «Опять пошли лясы точить», — покачал он головой. И подозвал к себе Гридина.
— Вы — единственный в нашем отряде коммунист. Назначаю вас комиссаром. Нужно объяснять людям ситуацию, поддерживать в отряде боевой дух.
— Но как? Ни радио, ни газет…
— Вот здесь-то и выручат партийность ваших взглядов.
Они собрались у подножья вековых сосен.
— Товарищи бойцы! — обратился старшина Кирьяков к сводному подразделению. — Среди нас есть коммунист товарищ Гридин. Он будет исполнять обязанности комиссара. Человек грамотный, из студентов. У кого есть какие-то вопросы, предложения, обращайтесь к комиссару.
Красноармейцы одобрительно загудели.
Коренастый пехотинец, в протертой на локтях гимнастерке, сразу же подсел к Гридину.
— Мы тут рассуждали себе… Отступаем аж от Ковеля. Начальство приказало снять оборону, хотя фашист нас ни за что не сдвинул бы. Ехали, ехали… Машины бандюги с воздуха спалили. Теперь вот идем. Куда идем? Где остановимся? Уже слышна пальба впереди. Где фашисты? Где наши? Ничего не разберешь. Когда твердо станем в обороне?
— Не знаю, — угрюмо буркнул Гридин.
— Ясно. А международный пролетариат что поделывает? И конкретнее: как немецкие коммунисты относятся к агрессии Гитлера против Советского Союза?
— Не знаю, — так же хмуро ответил Гридин.
— Молодец! А то тут кое-кто всезнайство свое показывал: мол, законы войны, стратегия, тактика… А ты правду режешь. И еще: почему наши газеты писали, что Германия придерживается договора о ненападении?
— Это не совсем так, — поколебался Гридин. Он подумал, вспомнил сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, пересказал его содержание.
— Оно-то так, — соглашался и сомневался дотошный пехотинец, но гнул свое: — Только почему мы отступаем да отступаем? Когда и на каком рубеже остановимся?
— Вон там, за лесом, — вмешался Троян, показав на восток. — Старая Государственная граница. Там и остановим фашиста.
— Невероятно! — чуть не вскрикнул высокий сержант, поднимаясь с бревна. Он чиркнул спичку, ссутулился, чтоб закурить и судорожно закашлялся.
Троян, обернувшись, удивился: внешний облик сержанта напоминал вопросительный знак.
Широкая лесная тропа вела на восток, параллельно разъезженному большаку. Слева и справа от тропы стояли густые заросли, поблескивали лужи, виднелась обширная трясина.
Старшина Кирьяков повел колонну тропою.
Вечерело. Стал моросить дождь. Пока тропа вела прямо, шли быстро. Но вот начались повороты. Под ногами зачвакало болото.
Кирьяков выслал вперед разведку.
Разведчики вернулись скоро и принесли неожиданную новость: совсем недалеко, на лесной дороге, стоит вражеская колонна.
Пришлось отряду отойти вглубь леса.
Когда отошли в безопасное место, Кирьяков остановил бойцов, собрал актив и предложил:
— А что, если напасть на них? Небось, дрыхнут… Нарушим сон. Гранаты есть, к пулемету несколько дисков осталось.
Старшину поддержали. Он скомандовал привал. Пока бойцы отдыхали, Кирьяков послал к дороге еще одну разведку.
Собравшись группками, люди обсуждали события последних дней, делились впечатлениями, махоркою, сухарями.
Под густою елью приглушенно басил сержант:
— Разве они воюют? Они без разбора все истребляют. Гоняются не только за людьми, но и за коровами, лошадьми… Убийцы проклятые. А убийц надо уничтожать. Нападать на них!..
Невдалеке от него Гридин рассказывал о вероломстве фашистов. Кирьяков подошел к кучке людей, где Троян говорил о том, как однажды его испугал обыкновенный теленок.
— А это было со мною, — вставил слово старшина Кирьяков. — Иду я перед рассветом на бахчу… И вижу на дороге что-то черное, высокое стоит. Будто гора. Собрался с духом, подкрадываюсь. Приглядевшись — шалаш. Дед — сторож — в обход пошел, а озорники и вытянули его курень на дорогу.
— В темноте что угодно может привидеться, — поддержал Самохин. — Кое-кому и фашист представляется горою, а вспомнить Лугу — там эта «гора» не приняла штыкового боя, распалась.
Вернулась разведка. Старшина Кирьяков собрал бойцов и объявил приказ:
— Рядом с нами гитлеровская мотоколонна попала на трудно проходимый участок дороги и застряла, я те дам!.. Наша задача: скрытно подобраться к врагу. Гранатами забросать несколько машин, из пулемета и винтовок уничтожить как можно больше фашистов… Возможности наши ограничены, но поскольку враг, считайте, сам напрашивается на нашу вылазку, то отказываться грех. Действовать по моим сигналам… — и он детально разъяснил, какие группы, под чьим руководством выполняют задачу.
Бойцы подкралась бесшумно. Лес, окутанный туманным мраком, уже не казался им таким надежным защитником. Чвакала грязюка, потрескивали сучья. В лицо лезли колючие и мокрые ветви деревьев.
Неожиданно закончились деревья. Перед бойцами была дорога, вся запруженная темными силуэтами машин. Где-то слышался сонный храп, несло чужим, отвратительным духом.
Кирьяков подал сигнал: — «Всем залечь!». Перед тем, возле машины с высоким кузовом, мигнул луч фонарика. Донесся гортанный окрик. Ответил вялый хриплый голос. И лучи фонариков скрестились.
Бойцы замерли, не дыша, сдерживая даже удары сердец.
Старшина Кирьяков длинной очередью из пулемета провел по световому перекрестью, кузову и мотору машины. И в тот же миг слева и справа лесной мрак резанули вспышки. Отозвалось эхо, усиливая и дополняя взрывы гранат и выстрелы красноармейцев.
Вдоль колонны вспыхнул свет фар. Панические выкрики смешались с беспорядочной пальбой из автоматов. В световых отблесках замелькали силуэты гитлеровцев. Одни выскакивали из кузовов, другие, наоборот, лезли в машины, что-то выбрасывали на землю, куда-то переносили, волоком тащили.
— Ага! Припекло, я те дам!.. — торжествовал старшина Кирьяков, стреляя по врагам. — Пришкварило, запрыгали, гады зеленые.
Над дорогою клубами поплыл дым. На обочинах нервно метались уродливо-длинные тени.
Выстрелы советских бойцов постепенно затихали, а потом и совсем потерялись в сплошном грохоте и трескотне вражеских автоматов.
По команде старшины все красноармейцы, целые и невредимые, отошли в условленное место. Они были радостно возбуждены и счастливы.
— Молодцы! — хвалил воинов Кирьяков. — Оказывается, наше сводное подразделение состоит из прекрасных разведчиков, снайперов… Надо только, чтоб порядок был. Мы еще покажем гитлеровцам, где козам рога правят.
— Свалится лихая година и на голову Гитлеряке! — погрозил
Троян кулаком на запад. — Придет время… Неминуемо!
Старшина Кирьяков кратко подвел итоги.
— У нас не осталось ни патронов, ни хлеба… Нужно немедленно пробиваться к своим.
Тучи постепенно расходились. Сквозь ветви деревьев пробивался скупой лунный свет. А на дороге, где завязла вражеская колонна, до рассвета не затихала стрельба.
Они шли…
Угнетали бесконечные лесные чащи. То, что бойцы были невидимыми, радовало. Но то, что они порой тыкались, как слепые котята, ничего не видели и ничего не знали — терзало душу.
Изможденные люди падали от усталости, еле ковыляли на потертых до крови ногах.
Когда лесная тропа вновь вывела к глухому селению, передовой дозор, как всегда, остановился, ожидая, какой стороной старшина Кирьяков прикажет обходить сельские хаты. Но командира заинтересовало это селение.
В разведку он послал Трояна с пехотинцем.
Тропинка вывела их на сельскую улицу. Деревянные избы, прижимаясь к дороге, с любопытством рассматривала разведчиков тусклыми стеклами окон из-под нахмуренных стрех. Селение словно вымерло или притаилось в напряженном ожидании. Неслышно было ни собак, ни петухов. Только где-то под крышей меланхолично ворковал голубь. Троян повернул на этот звук. Постучал по доскам калитки.
— Есть кто-либо дома?
Никто не ответил.
Спустя минуту-другую, открылась дверь погреба. Во двор вышел сгорбленный дед. Осмотрев обоих разведчиков, он остановил взгляд на Моторном. Видно было, что его заинтересовала украинская речь. Сам, однако, заговорил с сильным польским акцентом:
— Ваши на Горыни… Здесь недавно красноармейцы парашютистов ловили. Побежали за ними в лес. А красный командир, раненый, возле машины. Боец с ним. Вон там, в проулке, — показал дед на высокие березы, что возвышались на противоположной стороне селения.
Троян взобрался на поленницу дров и чуть не упал от радости:
— Она!
Он увидел всего лишь кузов грузовой машины, а, казалось, что парень, будто после длительной разлуки узнал любимую девушку.
Расспросив деда о парашютистах и о тех, кто их ловил, разведчики поторопились назад, к своим. Доложили обо всем старшине.
Известие о машине приободрило смертельно уставших бойцов. И они готовы были бежать к ней напрямик. Но старшина Кирьяков повел людей лесом, в обход селения.
Они вышли на восточную окраину, к семейству высоких роскошных берез.
Меж черно-белыми стволами деревьев виднелась незамаскированная грузовая машина. Рядом человек в военном, без ремня и без пилотки, рыл яму. Комья земли падали возле охапки сена, на котором кто-то лежал, накрытый шинелью. Слышался болезненный стон.
Копавший яму, услыхав шаги, встрепенулся, бросил лопату и кинулся к кабине.
— Свои, не бойтесь, — крикнул издали Кирьяков.
Широкоскулый боец, увидев команду красноармейцев, приближавшихся к нему во главе со старшиной, положил винтовку в кабину, надел пилотку и стал подпоясываться ремнем.
— Кто вы и что делаете? — весело спросил старшина.
Водитель. — Могилу копаем. — И, поплевав на ладони, опять взялся за лопату.
— Постой, постой! Для кого могилу? — Кирьяков посмотрел на шинель, под которой кто-то тяжело дышал.
— Да звякает, как по сердцу, только на рессоры лишняя тяжесть… Не понимаешь? Моя тоже не понимает. Взгляни сам — утиль.
И Кирьяков увидел груду запасных деталей, большая часть которых была тщательно завернута промасленной бумагой.
— А тут?.. Командир твой где? — наклонился Кирьяков над шинелью.
— Да это же он и есть. Наш командир, капитан. Спасать надо.
В живот ранен.
Кирьяков поднял полу шинели. На него глянуло бледное, бескровное лицо. Большие карие глаза горели.
— Чем помочь вам, товарищ капитан? — спросил Кирьяков раненого.
— Нужно сообщить кому-то из нашего командования, которое находится у моста на Горыни, что двое из диверсионной разгромленной группы парашютистов убежали, что они могут соединиться со второй группой и сориентировать ее о положении у нас здесь, на подступах к Горыни… — еле слышно шептал капитан. — Воды… — шевелил он пересохшими губами.
— Товарищ капитан, потерпите, не пейте, — попросил Кирьяков. — Сейчас отвезем вас к врачу.
— Накройте. Знобит.
— Что с машиною? — повернулся Кирьяков к водителю. – Да бросьте, наконец, лопату!
— Нет горючего, — развел тот руками. — Капитан приказал запчасти закопать, а машину сжечь. Но она ж исправная.
— Сжечь еще успеем, — задумался старшина. — Нужно поискать
другой выход.
Он осмотрел окрестности селения и принял решение. Сразу ж велел сержанту найти человека, который помог бы капитану. Одновременно позаботиться о питании для людей. Гридину и Трояну приказал перетрясти все селение, его окрестности и добыть горючее. Моторному и Чапурину — проверить техническое состояние машины, подготовить ее к поездке. Самохину — обеспечить охрану, выяснить, что за стрельба была в лесу. Потом спросил водителя:
— А вы искали бензин?
— Всюду искал, — безнадежно махнул рукой шофер. — Разве в
такой глуши бывал когда-либо бензин?
— Не вешайте носа, товарищ водитель, — подбодрил Кирьяков.
— Сейчас же проверьте давление в шинах, подготовьте запасные. Рассчитывайте на вес всей нашей команды.
Гридин и Троян, да еще пятеро бойцов, двинулись по селению, заглядывая в каждую хату. Перепуганные старики и старухи только удивленно покачивали головами и твердили одно и то же:
— Ничего у нас нет. Боимся проклятого германа, хаты наши спалят… Прячьтесь, а то начнет бомбы швырять…
Они остановились возле дома с зеленой вывеской: «Крамныця». На дверях — большой замок. Рядом — погреб, тоже под замком. Кругом — ни души. Окликнули, потарабанили палкой о пустую бочку — все напрасно.
Потом неожиданно из огородных зарослей вынырнул сельский парень, лет 17-ти, с серыми глазами и простым, открытым лицом.
— Мне тоже нужен завмаг, — сказал он. — Без него повозку для капитана не раздобыть.
— Важнее всего найти горючее. Это лучше, чем воз, — разъяснил Гридин.
— Перво-наперво разыскать завмага. Энергичный дядька. Побегу, может, нападу на его след, — и залопотал босыми ногами по пыльной улице.
Как только он исчез, из-за погреба выглянул низенький человечек, в теплой безрукавке. Он завернул к умывальнику, висевшему на стволе каштана, сполоснул руки, вытер грязной тряпицей и, поздоровавшись с бойцами, спросил:
— Какая скрута у панов-товажишув?
Гридин шепнул Трояну:
— Он обратился к нам? Это мы — паны и товарищи?
— Помолчи, — одернул Троян друга и спросил человечка:
— Вы пан — директор магазина?
— Нет, нет, проше пана… То есть — да. Продавец я. И весь к панским услугам.
Откройте, будьте добры, магазин. Деньги у нас есть.
Когда они вошли в помещение, Гридин сказал:
— Нам нужен бензин. Понимаете? Горючее.
— Понимаю пана. Но бензины нет.
— А что есть? Керосин, спирт, одеколон?..
— Одеколон, духи, проше пана, есть. И керосина бочка в погребе.
— Сложите все — одеколон и тому подобное — в ящик. Подсчитайте, сколько это будет стоить, — попросил Гридин.
Продавец начал щелкать на счетах.
— Все. Прибавил и керосин.
— Пускай пан напишет расписку…
— Костя, ты думаешь, что-нибудь выйдет из этой химии? – с сомнением спросил Троян в пути к погребу.
— Посмотрим. Надо попробовать, другого выхода нет. Зови водителей.
Троян побежал к машине. Когда вернулся, бочка с керосином была уже на улице. Гридин сдержанно благодарил продавца.
Тот, пожимая руки бойцам, кланялся:
— Удачи панам-товажишам.
Прибежал сероглазый парень, извиняясь, что проглядел продавца. Он взялся помогать бойцам, катить бочку.
Возле машины собралась вся команда. Сержант принес два вещмешка продуктов, ведро молока, лукошко снадобий для раненого. Но пища никому не шла на ум. Все напряженно следили за водителями, которые возились около двигателя. От них ждали чуда.
Гридин между тем залил в бензобак ведро смеси керосина с одеколоном, духами и осторожно подогревал карбюратор.
На сидение водителя залез Моторный. Чапурин энергично крутнул заводной рукояткой. И произошло небывалое — двигатель раза два чихнул и громко взревел. Моторный уменьшил подачу горючего. Машина зарокотала ровно. Запахло одеколоном и еще чем-то неуловимым.
— Ну, теперь нам сам черт не брат! — потирал руки Чапурин.
— Товарищ старшина, разрешите дозаправить бензобак и в путь! — доложил Гридин.
— И немедленно, я те дам, — весело подмигнул Кирьяков. — Мигом погрузить запчасти. Из ветвей и сена сделать постель для раненых. Капитана перенести в первую очередь. На сборы – пять минут!
Капитан позвал к себе Кирьякова.
— Вон тот гражданский паренек, что вам помогает, — местный поляк, — сказал капитан.
— Зовут его Вадек, фамилия Брода. Он днем и ночью выполнял различные поручения нашего командования. Поощрите его…
— Есть, товарищ капитан! Что-то придумаем. — И, старшина, окликнув Вадека, заговорил с ним: — Капитан очень признателен тебе за помощь. Скажи, что б ты хотел на память? Не стесняйся.
— Для меня самое ценное — доброе слово. Я… Я хотел бы с вами. Возьмите меня с собою.
— Мы не можем. Не имеем права. Возьми коня. Если будет круто, он тебя выручит.
— О! Большое спасибо! — повеселел сразу парень. — Я быстрее вас буду на Горыни!
Он сел на коня без седла. Почесал его бока босыми ногами, казавшимися от грязи и пыли в носках, и помчался по сельской улице.
Следом, натужно завывая, выехала перегруженная машина. Распространяя запахи парфюмерии, она набирала скорость. И покатила на восток, где над гребнем леса, поднимались облака черных дымов.
Из мрачного зеленого плена машина вырвалась на солнечный простор. Позади осталась угнетающая сырость леса, тревожное эхо пальбы… Они выбрались в конце концов будто из холодного подземелья, которое поминутно трещало, тряслось, угрожая рухнуть.
Однако и встречный ветер отдавал гарью.
— Ого! Сразу чувствуется, что едем к Горыни, — шутил Самохин.
Люди пристально всматривались вдаль дороги. Скоро стала вырисовываться в задымленной мгле очертания разрушенных хат.
На улице, куда они въехали, валялась какие-то бумаги, обрывки одежды, тканей, обломки мебели и ветвей деревьев, разбитые ящики с каким-то оборудованием, разорванные мешки с мукой, крупой… Машина затряслась по свежим комьям земли, грудам камней и кирпича. Под колесами хрустело битое стекло. В стороне, с обломанных ветвей ясеня свисала лохмотья подушек, одеял, части детского велосипеда. За поваленными плетнями темнели остатки русских печей с дымоходами — как надгробные памятники, окуриваемые струйками дыма.
Машина остановилась на небольшой площади, перед церковью. Возле ограды, под изломанными, закопченными каштанами, догорали два грузовика и артиллерийский тягач. Рядом с ними зияла большая воронка, торчали, как из-под земли, обломки полевого орудия. Приземистая хата, за искромсанным осколками палисадником, печально установилась на разрушения пустыми глазницами выбитых окон. Откуда-то доносились жалобное мяуканье кошки. Тихо скрипела полу — оторванная оконная рама и шевелились в ней белые занавески — будто кто-то урывками выглядывал на улицу.
Это стервятники расчищали путь тем фрицам, с которыми мы почеломкались в лесной темени, — сказал сержант.
— За Горынью — мое село, — вздохнул один из бойцов. – Если не утопим фашиста в этой реке, то он и с моей хатой сделает то же самое.
— Давай к реке! — приказал Кирьяков Моторному.
Объехали воронку. Протиснулись между расщепленным явором и разрушенной избой в узкую улочку. Машина, миновав разбитую крестьянскую телегу, убитую в оглоблях лошадь, с грохотом покатилась вниз, вдоль густой стены старых дуплистых верб. На повороте боец в каске и с винтовкой преградил дорогу.
Перед глазами было тревожное, безутешное зрелище.
Над рекой, соединяя оба берега, кровавым пламенем полыхала огненная дуга моста. Пожарище отражалось в зеркале тихой речной поверхности и от этого казалось особенно каким-то зловещим.
С моста падали в реку его горевшие части, отчего вода густо краснела. Было слышно, как гудел, трещал огонь.
Молча, и сурово смотрели бойцы на эту неистовую пляску огня над спокойной полноводной рекой. Чудилось, что горел не только мост, но и сама вода.
— Опоздали, — с болью в интонации проговорил кто-то в машине.
— Нет, как раз вовремя. Именно вы мне и нужны, — послышался отдаленно знакомый мягкий голос.
Бойцы, как по команде, оглянулись. Танкисты, приятно удивленные, ахнули: рядом с машиной стоял полковой комиссар Дорофеев.
Старшина Кирьяков, одним махом очутившись на земле, доложил комиссару о прибытии сводного подразделения.
— Хорошо, что присоединили к своей команде одиночных бойцов, — похвалил комиссар старшину. — Чудесно! Раненых сейчас же заберем. Остальным замаскироваться вон под тем роскошным осокором. Машину передадим местным активистам, у них есть свои неотложные дела. — Дорофеев кивнул в сторону трех гражданских, которые курили под деревом. — Вадек, ты тоже останься, — велел комиссар парню, невесть как очутившемуся возле машины.
Поручив военврачу заняться ранеными, комиссар продолжал:
— Фашистскому десанту не удалось захватить переправу через
Горынь. Наши главные силы благополучно перебрались на тот берег. На этом берегу, километрах в десяти отсюда, сейчас арьергардные подразделения сдерживают натиск врага. Чтоб гитлеровцы не прорвались на восточный берег, пришлось уничтожить мост.
С востока, из-за реки, донеслись пушечные выстрелы.
— Что это? — тревожно посмотрел Кирьяков на комиссара.
— Наши артиллеристы пристреливаются, — объяснил Дорофеев.
— Молодцы, быстро развернулись.
— Товарищ полковой комиссар, раненые отправлены на лечение. Личный состав построен! — щелкнув каблуками, доложил сержант.
— Хорошо. Вольно. Сейчас приду, — ответил Дорофеев и вновь повернулся к Кирьякову: — Есть приказ командования направить на станцию Сарны всех танкистов, оставшихся без машин. Вам придется побыть здесь, чтоб отсеивать из пехоты танковых специалистов, формировать из них группы и отправлять, куда приказано. Эти два экипажа отправьте сейчас же. Сами уедете в замыкании. Вижу, не очень нравится вам задание. Опасаетесь застрять в пехоте?
— Да нет, куда уж еще? — пожал плечами Кирьяков. — С вами с первого дня войны, породнился с пехотой… Не вижу, однако, и на Горыни свежего заслона. Старая Государственная граница…
— Рубеж этой реки — хорошая преграда для гитлеровских мотомеханизированных частей. Сегодня ночью и особенно завтра утром вы в этом убедитесь, — заверил комиссар. — А сейчас пойдемте к людям.
Здороваясь с бойцами, полковой комиссар крепко пожал каждому руку, с отцовской нежностью обнял Гридина.
— Спасибо за службу в стрелковых войсках! Больше мы не
увидимся. Вы, Гридин, старший группы, направляетесь с пакетом к танковому командованию. Прощайтесь и доверьте свою судьбу товарищу Броде, — показал комиссар на Вадека. — Он у нас командует «речным флотом» на Горыни. Всего вам доброго!
— Счастливо оставаться, товарищ комиссар! — ответил Гридин и повернулся к Броде.
Танкисты прощались с пехотинцами, обнялись со старшиной Кирьяковым. Только теперь увидели, как он осунулся, как помрачнела казавшаяся неизгладимой его улыбка на лице, какое добродушие таилось в глубине чуточку озорных глаз.
Во главе с Вадеком танкисты пошли берегом реки на север от догоравшего моста.
— Отца моего в тридцать девятом году фашисты убили, — рассказывал дорогою Вадек. — Нас четверо у мамы. Я старший. Комиссар обещал взять меня с собою. Я люто ненавижу гитлеровцев. Поляки всегда были против иноземных угнетателей. Я специально выучил русский, чтоб читать ваши книги о героях, чтоб разговаривать с русскими. Я отплачу фашистам за мою поруганную отчизну…
— Ну, вот мы и пришли.
Парень полез в заросли осоки. Послышался плеск воды, треск сучьев. Из-за густого лозняка выплывал большой деревянный плот. Вадек протянул бойцам длинную жердь, и громоздкая конструкция из вербовых бревен стукнулась о прибрежные колья.
Танкисты осторожно выбрались на неустойчивое сооружение.
Вадек посоветовал разместиться на середине плота, а сам широко расставив ноги, оттолкнулся от берега. Темно-зеленые прибрежные кусты начали быстро удаляться.
Скоро плот подхватило течение. Жердь уже не доставала дна реки. Невдалеке глухо бухнуло. На реке взлетели два фонтана воды. Гридин схватил шест, лежавший поперек плота, и стал помогать Броде.
Наконец причалили к низкому, поросшему густой травой восточному берегу. Танкисты поблагодарили Броду и живо повыскакивали на топкую землю.
Парень, привычно оттолкнувшись шестом, быстро начал удаляться. Плот вместе с ним четко отражался в зеркале тихой воды. Новый взрыв снаряда всколыхнул воду — отражение немного исказилось, но ненадолго. Брода твердо стоял посредине плота. Сквозь грохот нового взрыва донеслось:
— До-сви-да-ни-я!
Троян невольно вздрогнул: точно так же, по слогам, прозвучало прощальное приветствие Ядзи Барвинской.
Воинский эшелон отошел от станции Сарны перед вечером.
И сразу — налет. Пока солнце село, пришлось еще дважды отбивать атаки воздушных пиратов. Но продырявленные осколками и пулями вагоны не останавливались, ни на минуту.
Ночью начались остановки — с руганью, дерганием, распоряжениями, иногда противоречащими одно другому. И все-таки эта езда, после лесного бездорожья, казалась танкистам роскошным отдыхом.
Оказывается, на свете есть чудесный транспорт, — восхищался Самохин. — Хочешь — сиди, хочешь — лежи, даже спи, а оно все везет тебя. Наверно, если б не война, такого открытия не сделал бы.
Да, только во сне такое могло привидеться, — поддержал Троян. — Особенно, когда спали на ходу…
Большинство бойцов, ехавших в вагоне, прошли пешком сотни километров, и теперь они с наслаждением раскинули на голых нарах одеревенелые ноги, руки.
Завязывались разговоры. Вспоминали недавние бои, друзья с болью называли имена павших сослуживцев.
Кто-то пустил слух, что танкистов везут получать новую технику. И в вагоне об этом возникли споры. Гридин и Троян лежали на верхних нарах, возле открытого окошка. В ночном мраке мелькали темные очертания строений, деревьев. Нигде — ни единого огонька. Только от паровоза время от времени летели искры, нарушая светомаскировку. Земляки закрывали глаза, но уснуть не могли. Воображение рисовало образы родных, друзей.
Менее года тому назад такая ж теплушка катила на запад.
Оба тогда радовались, что им выпадало служить вместе, в любимом, роде войск. Вспоминали старшего лейтенанта, выступавшего перед призывниками в военкомате. Его стройная фигура, скрипящие ремни, рубиновый блеск кубиков на петлицах вселяли уверенность в мужестве и непобедимости Красной Армии.
Не забыли друзья и того, что без проводов, без прощания с близкими они промчались мимо родного дома. Правильно ли они сделали, не написав родным об отъезде?
От мысли о девушках-зазнобушках Гридин заерзал на нарах, словно места себе не мог найти. Схватился за карман гимнастерки, набитый бумажками, и открыл, было, рот:
— Петро, я давно хотел…
Но поезд резко затормозил. Звякнули буфера. Доносились частые паровозные гудки.
За окном серело. В утреннем полумраке мелькали на платформе красноармейцы в новом обмундировании.
В дверь теплушки заглянул старший лейтенант со шрамом на щеке.
— Из вагонов не выходить. Скоро будем разгружаться, — предупредил он. И сразу по перрону, вдоль эшелона, прокатилась команда:
— Воздух!
Кто-то ударял об рельсу:
— Бам, бам, бам!..
Тут же торопливо отозвались зенитки:
— Tax, тах, тах!.. Та, та, та!..
Они неслась на крыльях благородного порыва.
По мере увеличения скорости колонны уменьшалась полуденная жара — освежал встречный поток воздуха — и увеличивался жар юных сердец — воодушевляли предстоящие важные события.
Пыльная дорога вилась вдоль ручья, спрятанного в луговых травах. Справа волновались, как море, тучные хлеба. Впереди, в мглистом мареве, смутно дрожали темно-зелеными оазисами плантации хмеля. Их обступали ряды высоких, слегка наклоненных к земле столбов, похожих на стволы зенитных орудий. Слева возвышались темные рощи. На дальнем горизонте тянулись синеватые полосы лесов. Под охраной пирамидальных тополей, в зеленых насаждениях виднелись деревенские хатки.
Некогда глухой и узкий проселок превратился в оживленную трассу, сплошь забитую войсками. Дымная змейка тянулась на юг, туда, где за сумеречным горизонтом, в знойном июльском воздухе беспрерывно грохотала артиллерийская канонада, надсадно ухали бомбы, зловеще гудели самолеты. На фоне черных клубов дыма сверкали огненные точки.
Там — фронт. Туда двигались войска.
Веселые, жизнерадостные красноармейцы сидели плотными рядами в кузовах грузовиков, облепляли тягачи, орудия, стояли на подножках кухонь, выглядывали из-под брезентов, из окошек крытых машин. Березовые, дубовые, вербовые ветки — маскировали боевую технику с людьми, и придавали колонне торжественно-праздничный вид. Зеленые листья, цветы, прикрепленные к головным уборам бойцов, к стволам оружия усиливали это впечатление.
В одной из кабин изрядно обшарпанного грузовика рядом с флегматичным шофером весело подпрыгивал на сидении, выбивая пальцами на планшетке «Марш танкистов» старшина Кирьяков. Временами он открывал дверцу и задорным взглядом окидывал кузов, переполненный танкистами.
На запыленных лицах людей радостно блестели глаза и зубы. Слышались смех, шутки. Многие бойцы с начала войны, действуя в соседних подразделениях, впервые вернулись в свою боевую семью, где встретились со старыми сослуживцами. Всех их вновь объединило что-то общее, возвышенное. Радовали, воодушевляли быстрота и массовость движения, а главное то, что невидимая рука командования наконец-то изменила характер событий вместо изнурительных отступлений, осуществляла стремительный маневр с целью нанесения контрудара по врагу. И каждому бойцу было приятно сознавать себя частицей этого наступательного потока.
Печатью благородного наступательного порыва было отмечено не только то, что двигалось, но и то, что сопровождало, увлекало на юг войска: быстрая речка, придорожные деревья, урожайные колхозные поля, ближние и дальние рощи, леса, курчавые облака.
Поток военных машин с красноармейцами вызвал невиданный восторг среди местного населения. В селах, на обочинах дорог бойцов приветствовали и дружелюбно напутствовали толпы крестьян. В их глазах светилось радостное убеждение в том, что против врага, наконец, двинулась несокрушимая мощь Красной Армии. Они вглядывались в загорелые, мужественные лица тех, кто бесстрашно ринулся наперерез коварному врагу, чтоб своей грудью, оружием в руках защитить самое дорогое, что есть на свете — Родину. Колхозники встречали и провожали каждую машину горячими призывными возгласами, выразительными жестами. Празднично одетые девушки расцветали сияющими улыбками, которыми одаряли воинов вместе с букетами живых цветов. Дети, подростки горящими глазами с восхищением следили за прохождением каждого вида боевой техники. Группы мальчишек долго бежали в едкой пыли, стараясь не отстать от орудий, военных машин.
С различных сторон поминутно раздавались взволнованные, бравшие за душу слова:
— Разбейте проклятого врага!
— Не пускайте фашистов до Киева! Не допускайте его топтать хлеба!
— Залыйте тым ковбасникам добре сала за шкуру!..
— Возвращайтесь с победой! Мы вас ждем!..
Девушки-крестьянки застенчиво посылали воздушные поцелуи. Бойцы на лету ловили букеты цветов. Отвечали знаками крепких рукопожатий.
Здоровяк Медведев наполовину своего роста свесился за борт машины, сразу поймав несколько роскошных роз.
— Красавицы! Я — сибиряк… — обращался он. — Разгромим фашистов, и заверну к вам на вечерницы. Люблю Украину! Если примите, навек останусь у вас…
Суеверный Бабак уже через сутки будет укорять парня за концовку последней фразы.
— Ласкаво просимо! Обуздайте супостата-фашиста…
Медведев отломил от маскировки веточку дуба и бросил в толпу:
— Лови чернявая. Знай — мы крепче этого дерева и даже стали. Врагу не устоять от нашего удара…
Зардевшаяся девушка поймала на лету веточку и выразительно прижала ее к груди. Ее ответный взгляд обострил в душе те качества, которые помогли ему оправдать свои слова в бою.
Без меры усердствовал Мотыльков, которого товарищи еле удерживали в кузове. Он так разошелся, что готов был на ходу прыгнуть в любую стайку девчат, поймать и заключить в свои объятия самую пугливую из них. Большинство сослуживцев впервые за войну услыхало голос бывшего неистощимого балагура-студента.
— Гера, земляк, ты оказывается, живой? Мы считали, что ты с первого дня войны пропал без вести, — басил Медведев.
— Приказ стершего – закон, оправдывался Мотыльков, лицо которого приняло покаянное выражение, — меня на окраине Голодницы забрали в дальнобойную артиллерию. Только по случаю сегодняшнего праздника удалось вернуться к своим.
Гера воспитан только в наступательном духе.
— Точно… Если бы 22 июня мы махнули на Буг, а не на Ковель, то я первый вступил бы в Берлин. Вперед, за Родину!… – звучал ораторский тон в выкриках Мотылькова.
— Мотыльков — неисправимый болтун, — возмущался Гридин.
— Так бездумно бросается священным словом… Прости, как лапоть, и … красив… — добавил Троян, не то, что наш лопоухий земляк…
— Поедем, девки, с нами. Кароока, за один твой взгляд… — объявился фальцет.
— … и за твой язык, лопоухий, я тебя придушу, чтоб не бросал тень на земляков, — оборвал Марека бывший моряк.
— Да угомонитесь вы!.. — нервничал Гридин.
— Ей-богу, я какого-то карася прибью еще до фронта, — угрожал моряк.- Где твоя татуированная шкура раньше была?
— Смертоубийство сознательно миновал…
— Понятно: даже псу живому лучше, чем мертвому льву.
— А это чей голосок выискался?
— Мой земляк философ Бабак. На одном солнце с ним онучи сушили.
— Тьфу, ты, черт!.. Большое течение захватило всякий мусор.
— Не беда. В общем аврале и трусы сойдут за храбрых…
Вдоль дороги зияли воронки от бомб. В стороне, на деревьях, повисла крыша, заброшенная взрывной волной.
Машину резко качнуло — левое колесо угодило в засыпанную пылью воронку. Кузов и рессоры визгливо заскрипели. Перегретый мотор тяжело и сипло застонал и все же справился с перегрузкой, с хриплым завыванием вырвал грузовик из ямы.
Толпы народа, нарядные пестрые хатки, похожие на их молодых обитательниц, скрылись за тучами пыли. Прощальным скрипом отозвался деревянный мостик, и машина вырвалась за село.
Слева широко раскинулся фруктовый сад. Роскошные ветви яблони поникли к земле, отяжеленные урожаем и пылью. Их листья и плоды, будто сукном обтянуты — не блестели в лучах яркого солнца. Справа колосья хлебов, стебли льна, ботва картофеля — все поседело и томилось в дорожной пыли. Поры растений находились под удушливым налетом порошкообразного суглинка. Солнце нестерпимо жгло. Природа млела, задыхалась в густом, душном, знойном воздухе. Все в окружности изнемогало в ожидании очистительной, освежающей бури.
Приближалась темно-сизая бахрома леса. За ним чувствовалось что-то неведомое, таинственное. Где-то рядом били зенитки, пулеметы, винтовки. Бойцы с машин не видели самолетов, только слышали их завывание, бомбежку.
Когда над головами зашуршали березовые листья, и лица обдало лесной свежестью, старшина Кирьяков объявил из кабины, что близок конец пути.
Грузовик еще долго скрипел и подпрыгивал на неровностях тесной лесной дороги. Мимо скользили впритирку к бортам кузова мощные кряжистые дубы, стройные бурые сосны, замшелые стволы елей, зеленые кусты орешника, рябины, черемухи. Лесом гулко перекатывалось эхо орудийных выстрелов, взрывов снарядов.
В перспективе проселка засинел кусочек задымленного неба. Машина свернула в сторону, втиснулась между ветвистыми деревьями.
Вокруг появились бойцы в касках, танкошлемах, пилотках. Наводились справки о земляках, сослуживцах. Все интересовались новостями, свежими газетами. Завязался разговор о фашисте, которого никак не удавалось сбить с важной шоссейной магистрали.
После короткой отлучки вернулся старшина Кирьяков. Сразу распорядился привести в порядок оружие, не мешкать с обедом. Сосед, старшина-пехотинец предложил два ведра борща и снарядный ящик каши. Бойцы не заставили долго себя упрашивать. Они не стали развязывать свои вещмешки с сухим пайком, а вежливо поинтересовались, каким хлебом питается матушка-пехота.
— Для своего брата-танкиста ничего не жалко… — расщедрился хозяйственник, доставая из палатки разнообразные продукты питания.
Троян в числе первых справился с обедом. Начал чистить винтовку. Легкий, нежный шелест листьев орешника навеял бойцу мелодию песни «Зашуміла ліщинонька». И боевую обстановку скрасили задушевные слова:
Вірно люблю ще й кохаю,
Як не бачу, то вмираю…
У каждого потеплело на душе. Лица дышали молодецким задором — будто предстоял не бой, а выход в занимательное ночное, где костер, печеная картошка, увлекательные истории, сказки.
Прибыл старший лейтенант со шрамом на лице. Энергично взглянул на часы, солнце. Бойцы быстро свернули чистку оружия и под командой Кирьякова двинулись вслед за старшим лейтенантом. Лесная тропа немало петляла в зарослях прежде, чем вывела на опушку, с которой виднелось в дымах село. Командир достал карту, уточнил на ней что-то с карандашом в руках и обратился к танкистам таким тоном, словно открывал первую страницу занимательного приключенческого романа:
— Знаю, что среди вас есть опытные разведчики и те, которые желают ими стать… Здесь, — он показал ориентиры, — вы должны разведать противника на направлении действий своих товарищей, которые еще находятся в пути… Враг вырвался на шоссе Новоград-Волынский — Житомир и угрожает Киеву. Нам приказано изучить пути выхода наших войск к шоссе, добыть данные, которые облегчили бы нанести удар фашисту под дых, и этим способствовать срыву его наступления на столицу Советской Украины. От соседа, который уступает вам часть своего участка, мы получили следующие сведения… Перед нами речка Тня, на обоих ее берегах виднеются хаты села Соколов почти полностью занятого врагом. За избами — отсюда не видно — речка разделяется на рукава, через которые, один за другим, перекинуты два моста. Эта речная переправа находится под усиленной охраной противника. Его основная группировка окопалась вдоль шоссе, на удалении двух километров южнее Соколова. Вы видите впереди, на подступах к первым сельским строениям разбитые наши тягач с орудием и два БТ-5. Соседи информировали о том, что враг встретил авангард наших войск сильным противотанковым огнем. Они успели засечь вражеское ПТО вон в тех кустах, на возвышенности. Советская артиллерия в течение дня вела огонь по выявленным огневым точкам. Вы должны разведать, чем враг располагает дополнительно в районе мостов и по возможности захватить «языка». Полагаю, что для выполнения боевой задачи требуется всего шесть человек. Ставка на добровольцев…
Старший лейтенант сделал паузу. Бывалый командир внимательно повел живыми блестящими глазами, спрятанными в тени широкой каски, по лицам бойцов. То, что он прочел на них, его поразило: возбужденное внимание, напряженное выжидание.
— Кто желает пойти в разведку, два шага вперед!
Все танкисты качнулись, два раза гулко ударили сапогами по твердой лесной целине и одновременно щелкнули каблуками.
Старший лейтенант слегка отпрянул назад, будто от некоей неожиданной волны. Благодарственно оглядел строй и остановился на хитровато улыбающемся лице старшины, которое, как бы говорило: «Знай, мол, наших».
Кирьяков понял вопросительный взгляд командира и высказал свое мнение:
— Считаю, что в разведку целесообразно взять бойцов невысокого роста, чтоб легко и незаметно проникнуть в любую дырку. Предлагаю отсчитать пять человек с левого фланга и я — шестой.
— Вы себя считаете невысоким? — улыбнулся командир.
— Да… Длина — это еще не высота… — бросил он взгляд вдоль строя, оформляя в уме другую мысль. – Моя длина часто помогала видеть далеко спрятанные вещи… Это мои питомцы. Мы привыкли вместе.
— Разрешите? — послышался голос представительного бойца, среднего роста, почему-то очутившегося на правом фланге. — Товарищ старший лейтенант, позвольте мне занять свое прежнее место на своем левом фланге?
— А, Мотыльков… — вмешался Кирьяков. — Не заметил, когда вы стали за спиной Медведева. Мое мнение такое: не делать больше в строю никаких перемещений.
Старшина и старший лейтенант обменялись понимающими взглядами.
— Товарищ старшина, забирайте свой левый фланг и готовьтесь в разведку,- распорядился командир. — Пока светло, изучите местность, поведение гитлеровцев. Их сейчас начнет тревожить наша артиллерия, чтоб вызвать ответный огонь. Исходный пункт — расщепленная снарядом береза — пройти в 22.00 11.07. Помните: вы действуете на участке подразделения капитана Пятигорева, который на подходе. Пока, что его рубеж будут совершенствовать наши пешие танкисты.
Старший лейтенант проводил глазами удалявшихся разведчиков и скомандовал:
— Остальные, за мной! и побежал к окопчикам, которые виднелись вдоль опушки леса.
С обеих сторон началась артиллерийская и ружейно-пулеметная перестрелка, которая шла вяло, но не затихала до наступления темноты.
Разведчики изучали противника в назначенных каждому секторах наблюдения. Ничего нового не удалось обнаружить. Фашистские орудия и пулеметы били из-за не просматриваемого южного берега речки.
Бледнел закат. Чернели леса, поля. Окрестности села, подступы к речке окутывала темная украинская ночь своим тревожным пологом. Все кругом затихало. Только разведчики не дремали — ждали сигнала к действиям.
Они двинулись с зарей. Росистая трава освежала и холодила.
Сползли бесшумно в приусадебную канаву, за которой темнели жерди изгороди. Каждый опасался, что вот-вот столкнется с притаившимся врагом. Становилось жутко и в то же время заманчиво — интересно. Это придавало впечатлениям особую остроту.
— Не шушукайтесь с лопухами, я те дам… — Кирьяков осторожно раздвинул стволом автомата стебли буйной крапивы.
В просвете виднелась тыльная стена крайней хаты. Под стрехой Гридину почудилось движение тени.
— Кошка, — уверял Троян. Через минуту показал рукой: Вон, взгляните, — на гребне крыши, возле дымохода, — и он заинтересовался южным небосклоном. Слева полыхали зарницы войны. Слышался отдаленный грохот. Впереди все придавлено загадочной тишиной. Воображение поражала безграничная россыпь звезд Млечного пути на небе.
В низине начали вспыхивать огни, сопровождаемые гулкими перекатами выстрелов. Это нарушило тихое очарование украинской ночи.
Трояну казалось, что о лучшем времени для совершения подвига и мечтать не следовало. У него было праздничное настроение. Как хотелось, чтоб об этих событиях узнала Вера, мама!.. Именно, — мама. Она в это время наверняка поглядывает с тяжелыми вздохами на звезды и надеется, что они не случайно так мирно и тихо светят, что завтрашний день должен, наконец, принести радостные вести о победах Красной Армии, об окончании кошмарной фашистской ночи. Ему почему-то хотелось думать, что и мать связывает эти минуты с каким-то рубежом, после которого забурлят новые радостные события.
Рядом неуклюже ворочался Моторный:
— Ищу на небе какой-нибудь ориентир. Только сейчас сделал для себя открытие, что очень плохо знаю небо. Петро, где Венера?
Недалеко застрочили вражеские автоматы.
— Тише возись, Ваня. Не выставляйся из канавы. Поэтическую Венеру — богиню красоты и любви — ты не увидишь, а на ее антипод — пулю — нечаянно наткнешься. Наша, как и все красавицы, вечерняя звезда, страдает непостоянством, сейчас она скрылась за горизонтом вместе с наступлением сумерек. В песне не случайно поется:
Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя,
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная!
Рада б зірка зійти — чужа хмара та й наступае…
— Понятно, убедил. Какую же путеводную метку на небе выбрать, чтоб не заблудиться?
— Полярную звезду, которая постоянно светит на одном месте. Держись ее и никогда не собьешься с пути. Она поможет обнаружить врага…
Над головами вспыхнула ракета. Разведчики пригнулись ко дну канавы.
— Один уже обнаружился, — обрадовался Троян, показав на юго-западные склоны возвышенности.
Уродливо вытянутые тени от подбитых танков и тягача запрыгали и удлинились настолько, что достигли разведчиков. Бледный свет погас. Все исчезло. В глазах стало темнее прежнего. С высотки, где предполагалась ОП вражеского противотанкового орудия, прочертили темноту ночи огненные пунктиры. Звонко, как из железного ящика ударил пулемет. Справа, у плетня, взвилась в небо под острым углом новая строчечная трасса. Стрельба отличалась каким-то деревянным звуком.
— Бьют из-за различных укрытий, наугад, — определил Кирьяков.- По-пластунски марш!
Разведчики лавировали под лучами вражеских ракет и медленно окружали хату, от которой то и дело отбрасывались длинные тени.
— Мы движемся с немалой скоростью — тень от избушки, как стрелка спидометра, ищет нас, маскирует, притягивает в центр своего качания, — заметил кто-то.
С учетом прихотливой пляски света и теней разведчики попарно, в виде подковы стремились охватить крестьянскую хату. Не раз казалось, что вражеские вспышки обнаруживали их — уж очень часто и назойливо они возникали на одном и том же месте.
Невозмутимое хладнокровие Кирьякова скрадывало, смягчало тягостное влияние напряженной обстановки. И разведчики отлично знали из опыта, что ночью наблюдать с возвышенности плохо, а с низины – хорошо. Это преимущество придавало им уверенность.
Силуэты первой двойки — Гридина и Трояна — мелькнули на фоне светлой боковой стены и растворились там, где чернела пристройка дома — коровник. С другой стороны Самохин и Белобородов неслышно юркнули между жердями изгороди и исчезли в кустах смородины. Это действовала группа прикрытия. Очередная вспышка мертвенно-бледных лучей не обнаружила вокруг хаты никаких признаков жизни.
Медленно тянулись минуты томительного ожидания. Когда сгорел над головами огненный шарик, неизвестно как подкравшийся к углу избы, старшина Кирьяков движением руки велел Гридину осмотреть пристройку. Сам старшина вместе с Моторным слился с грядкой ароматной мяты.
В подполье сарая-коровника Троян обнаружил старую женщину, хозяйку дома. Приполз старшина. Влез в подвал, и там сразу стало тесно. В углу теплился каганец. Разговорились. Оказалось, что женщина видела, как подходили к селу советские танки, как по ним фашисты стреляли.
— Басурмане грохали с бугра, что на краю села, и с огорода кума Охрима, что рядом с нашей хатой. Теленка у меня зарезали. Шкуру отдали – висит в коровнике. Ох, ни приведи господи!.. — заново переживала страхи крестьянка.
«Ясно, что здесь не одна пушка, а минимум батарея, — рассчитывал в уме Кирьяков. — От бугра до соседа примерно метров 200. Позиция остальных двух орудий надо искать в 100-800 метрах от обнаруженных.
— Сыночки мои, — прижала женщина свои руки к исхудалой груди, глотая слезы, — не встречали вы, часом, где-нибудь моего сына Петра Сокола? — и она пристально стала вглядываться в загорелое, веснущатое лицо Трояна.
— Гм… — смутился тот, в его груди завибрировали дивные струны отзвуками детства. Он сделал неопределенный жест рукой и начал отвлекаясь, поправлять фитиль каганца.
— Где-то на дорогах войны слышалось такое имя, — почесал старшина за ухом.
— Сын родился на Петра… Так мы и прозвала его… Как раз завтра, то есть через час ему исполниться 21 год. В такой день мне не хотелось уходить от хаты. Хоронилась, скрытно пироги пекла. Вот, угощайтесь… — и она сняла с корыта на кадке клетчатый шерстяной платок: обоняние бойцов уловило вкусный аромат печеного.
— Спасибо, после дела, а то мы за пирог, а враг на порог… — благодарил Троян, пересиливая бурю на душе.
Ее тихий, глухой голос доносился будто издалека:
— Хорошо, прикрою, чтоб свежие были… По нашим старым обычаям, сегодня не простой день, особенно ночь — конец ивано-купальских гуляний. Раньше, бывало, в эту ночь молодежь заканчивала жечь костры у речки. Последний раз куковала рябая кукушка. Так и говорили: пришла лета макушка, после чего птица-гадалка уже перестала предсказывать, сколько лет человек проживет. С неба сходила весна, и ее место занимало красно лето с его жарами, зноем, уборкой хлебов… В этом году принесла нелегкая чужестранца как раз в ночь на Ивана Купала — время появления на Лысой горе ведьм, оборотней, колдунов… И кукушка улетела. На прощание она подала четыре раза свой голос. И вы ровно через четыре дня объявились, и как раз из-за той приусадебной канавы, где в Иванову ночь кум Охрим косил траву. У него тогда коса переломилась. Значит, там растет разрыв-трава. А это верный признак того, что вас ждет удача — перед вами все замки и запоры врага распадутся. Таково народное поверье…
— Нет, нас потянуло через места, где растет разрыв-трава, не желание открыть ивано-купальские клады. Мы накоротке, по секрету, к вам в гости и сейчас же обратно… И вам советуем уйти в лес, а то завтра здесь могут стрелять…
Разведчики узнали от женщины о том, что гитлеровцы укрепляются между речкой Тня и шоссе, роют окопы, а деревню Соколов занимают только вблизи мостов. Еще раз убедились, что очень удачно проникли к врагу с открытого фланга, что и возвращаться следует тем же путем.
— В Яремов лес я с радостью уйду с вами. В молодости, случалось, мы, девчата, парубки, искали в густой влажной траве, около деревьев светящиеся Ивановы червячки. И на берегу Тни светились таинственные цветочки разрыв — травы… А сегодня везде огни антихриста — германа. Заплакала я утром на том месте, где мой первенец Петро объявил бодрым «кавав-кавав» о своем появлении на свет… Теперь пойду с вами сыну навстречу. Может, он в день своего рождения добирается до своей родины…
Троян переговорил шепотом со старшиной и тот объявил:
— Хорошо, мамаша. Если все будет благополучно, на обратном пути мы возьмем вас с собою. Ждите нас. Взойдет месяц — будет видно…
Разведчики поднялись из подполья в коровник. Кирьяков нечаянно задел головою за какую-то жердь и что-то за его спиной грохнуло. Он обернулся назад, сверкнул фонариком — на полу валялась телячья шкура. Над ней поднялся рой растревоженных мух, которые загудели, подобно всполошившемуся вражескому логову. Шепотом, ругнув себя за неповоротливость, старшина вместе с Моторным выползли в палисадник. Под заливистым стрекотанием сверчков — звуковая маскировка, — они исчезли в направлении бугра.
Гридин и Троян искали лаз в плетне, чтоб проникнуть в огород «кума Охрима». Неожиданно их лица обдало ветром. Оба занемели, вслушиваясь и вглядываясь в темень. Насторожил шорох. И что-то черное зигзагами прочертило воздух в направлении хаты.
— «Летучая мышь», — облегченно вздохнул Троян.
Самохин и Белобородов, назначенные в прикрытие, наблюдали за бугром. Вдруг Белобородов отшатнулся назад и припал к уху товарища:
— Что там запылало?..
Из-за леса поднималось кроваво-красное зарево. Слабо белевшие стены хаты покраснели, окна, будто осветились изнутри жарко пылавшей печью.
Ничего сверхъестественного. Дня тебя, северянина, в диковинку, а для нас — это обычный восход месяца. Теперь нам будет сложнее работать во вражеском расположении…
Разведчики загляделись. На фоне огромного красного шара четко рисовались блестящие ветви вишни, даже зеленые плоды выделялись, окрашенные в розовый цвет. Все предметы на земле стали принимать определенно очерченные формы, резко обозначались тени.
Разведчики еще плотнее прижались в земле. Старшина воодушевлял в расположении противника:
— Теперь мы из углублений на местности сможем на большом расстоянии рассмотреть все, что мало-мальски отсвечивается в расположении противника.
И тут же он с двух точек оглядел небольшую возвышенность, покрытую зеленью с поникшими безжизненными листьями.
— Маскировка, — догадался Кирьяков.
Кругом чернели снарядные воронки. Признаков спрятанного орудия нигде не было видно. Только при более тщательном изучении вырисовывались среди искусственных кустов, на удалении ста метров южнее высотки, знакомые очертания с характерными бледными отблесками.
— Понятно, — пушка, — сделал заключение старшина. — Во время нашего артобстрела прислуга скатывала ее с высоты в запасное укрытие.
В 150 метрах левее увядшей маскировки месячные лучи освещали частокол из верб. За ним оказалось второе орудие.
— Огневые позиции артиллерии оборудованы согласно уставу, — шепнул Кирьяков на ухо Моторному. — Я уклоняюсь от вас на запад искать третий ствол, а вы ведите наблюдение за обнаруженными двумя.
Удача придала уверенности разведчикам, они осмелели.
Старшина подполз к узкой улочке, которая вела к дому кума Охрима. Его прикрывала густая тень от приусадебных деревьев и кустов. Он воспользовался естественной маской и двинулся перебежками. Хлопок и шипение ракеты остановили. Залег. Переждал свет. Когда все кругом затихло, возобновил движение к домику. За яблоней блеснули стекла окон. Неожиданно старшине почудилось, будто за ним кто-то следовал, по-кошачьи тихо, часто останавливаясь. Какого же было изумление, когда рядом со своей тенью он заметил типичный силуэт фашистского автоматчика. Привидение? Нет. Сердце у него дико заколотилось. И без того потное тело так взмокло, будто каждая клетка выпустила всю свою влагу. Липкое обмундирование сковало движение рук, ног. Нервы!… Решено напасть на врага в тени. Для этого надо сделать три-четыре шага в направлении забора деда Охрима.
И только он напряг мускулы для резкого оборота кругом, как сзади что-то грузное свалилось на землю. Тяжелое дыхание с хрипом. Возня. Кирьяков оглянулся.
Оказалось, что за старшиной наблюдал не только один фашист.
Гридин и Троян, лежа у плетня, ловили всякие подозрительные шорохи, тени. Их интересовало все живое возле хаты Охрима. Сначала был обнаружен в затененной улочке вражеский часовой. На него и было обращено главное внимание. Как впереди врага очутилась согнутая фигура Кирьякова, друзья не уловили. Когда старшина и кравшийся за ним фашист поравнялись с разведчиками, оба обменялись выразительными жестами. Тут они в какие-то доли секунды пережили и страх и отвагу, и безнадежность и надежду, и веру и безверие, и растерянность и решимость — широкую гамму душевных эмоций, знакомых тому, кто сталкивался лицом к лицу с врагом в его расположении. И… Нет, каждый в отдельности на такое не решился бы. А тут вдруг оба поняли, что разведка попала в тупик, и другого выхода не было. Поэтому Гридин камнем бросился врагу под ноги, а Троян кошкой прыгнул на вражескую, сутулую спину. Слабый, сдавленный стон и тряпка-кляп чуть не разорвала рот гитлеровцу. На какое-то время наступила агонизирующая тишина. Пальцы левой руки Гридина оцепенели, сжимая горло фашиста, а правой впились в его физиономию — под ними кляп. Троян, ударив врага коленом между ног, схватил его за руки, и, заломив их за спину, сам навалился на обмякший вонючий чужой живот. Разведчик окаменел, слушая громкий стук собственного сердца, вражеский храп, прерывистое дыхание Гридина, голос сверчка, отдаленный лай собаки, близкую автоматную очередь. Боец задыхался от какого-то отвратительного смрада и неведения: а что же дальше?
Выручил противник. На противоположной окраине села разразилась громкая автоматная пальба. Под ее шумок и была закончена возня с пленным.
Кирьяков пожал в темноте руки друзьям и отправил их с «языком» к хате. Сам уточнил местонахождение третьего и четвертого орудий, убедился, что вблизи не было никаких признаков размещения второй батареи, и вернулся на сборный пункт.
Разведчики собрались в месячной тени, за тыльной стеной хаты.
— Молодцы… Задание выполнено, — хвалил старшина.
— Оно-то так, а обратно при месяце как? Страшно покидать эту спасительную тень,- шептал кто-то.
— Опасно и другое: чем она становиться короче, тем быстрее наступит конец ночи, — рассуждал Гридин. — Чем закрыть этот месяц?
— Он – наш. С ним можно договориться, — отозвался Троян и — тихим шепотом, душевно:
Ой не світи, місяченьку, не світи нікому,
Тільки світи розвідникам, як підуть додому…
— Довольно, уговорили казацкое солнышко. Теперь нам предстоит самая трудная часть задачи… — строго начал старшина Кирьяков и лаконично изложил план действий. — Разрешаю взять с собою женщину, иначе гитлеровцы завтра ее замордуют за причастность к нашей вылазке. Пока вы сосредоточьтесь в приусадебной канаве, я с высоты этого дома окину прощальным взглядом вражеский выступ у моста.
С чердака он увидел речку. Месячный светлый столб пересекал неширокую полосу воды. Под впечатлением рассказа старой крестьянки на южном берегу чудились костры. Замелькали тени, напоминавшие ведьм и колдунов. На самом деле зоркие глаза видели фашистских солдат, которые разгружались, с прибывших машин. К мостам через Тню также подкатили какие-то транспорты, без света. Слышалась возня.
Старшина вернулся к разведчикам. Сообщил им разведданные и поставил задачу на обратный путь.
Движение к своим начала двойка с «языком». Уступом, на значительном удалении ползли Гридин и Троян с волоком-рядном, на котором лежала женщина. В замыкании двигалась группа обеспечения в составе старшины и Моторного.
Как ни старался Кирьяков до конца казаться спокойным, он, видя впереди себя шевеление темных спин бойцов, которые обозначались также яркими отблесками со штыков лунных лучей, не раз порывался сделать замечание; подозрительные звуки сзади заставляли его хвататься за автомат, разворачиваться в сторону, замирать на месте. Потом тяжелый вздох и — шепот:
— Хлопцы, быстрее, но не суматошиться… Я те дам…
Эти наблюдения Моторного позволили ему сделать вывод, что Кирьяков такой же человек, как и все.
Они ползли домой знакомым маршрутом. Но каждый волновался сильнее, чем тогда, когда двигались к врагу. Казалось, тогда было легче; враг был впереди и каждый боец не спускал глаз с опасных объектов.
Слух помогал глазам. А в движении назад внимание раздваивалось. Не было видно, что делалось за спиной. Каждого терзала мысль: вот-вот недремлющий фашист хватится часового и тогда…
Немаловажным было и то, что туда разведчики шли налегке, безо всякого багажа, а обратно несли важные разведданные, не говоря о физически ощутимых двух волоках. Чувство ответственности за судьбу разведматериала усиливало напряжение каждого бойца, увеличивало стремление до конца выполнить успешно начатую боевую задачу.
Когда разведчики уже находились перед самой опушкой своего леса, враг — опомнился. Кроме отчаянной ружейно-пулеметной пальбы с освещением ракет, ударили минометы. Над головами бойцов к привычному свисту пуль прибавился визг осколков. У Трояна выбило из рук оружие, сорвало с головы пилотку. Белобородова ранило в ногу.
— Бросай меня сынок. Я уже свое отжила, а ты молоденький, спасайся, — просила женщина под ливнем огня.
— Петро, сворачивай в заросли бурьяна,- советовал кто-то сбоку.
— Нет, не брошу и в бурьян не полезу — он шевелится и демаскирует… — еле поворачивал Троян сухим языком во рту. Он задыхался и поминутно наталкивался головой о какие-то препятствия.
Наконец, бойцы с шумом, тяжелым дыханием свалились в свои окопы.
Старшина Кирьяков, не отдыхая, поднял на ноги «языка» и ушел с ним в штаб. Обратно принес приказ:
— Подготовиться к переходу на другой участок.
Пациентка Трояна ни жива, ни мертва, лежала на дне окопа. От всего пережитого она потеряла дар речи. Когда пришла в себя, спросила:
— Неужели и мой сын в день своего рождения переживает такие страсти?
— Нет, — успокаивал Троян. — Не везде на войне бывают такие передряги. Ваш Петро — артиллерист, далеко от передовой.
Помолчав немного, он с волнением заговорил:
— Я тоже Петро… Мне тоже сегодня исполнилось 21 год… До встречи с вами не знал, что в этот день я именинник. Забыл… Спасибо вам…
Вмешался Кирьяков:
— Все мы не знали… Теперь выяснилось, что сегодня наш Троян четырежды именинник: день рождения; спас меня от внезапного нападения фашиста, чем избавил всю группу от обнаружения; добыл «языка” и выручил из фашистской неволи мать красноармейца, своего тезки. Качать Петра!
Друзья с соблюдением маскировки, с приглушенными возгласами восхищения обнимали и качали своего боевого товарища.
— Осторожно, не забывайте, что Петро только, что родился, не уроните младенца, — шутил кто-то.
— Ты, сынок благополучно перенес в свой день рождения, благодарение богу, невиданные страдания и муки… Считай, что заново на свет народился. Перемелется лихо — добро будет. Кто горя не видал, тот и счастья не знает. Дай бог тебе, сынок, здоровья и хорошей доли, — и старая женщина по-матерински обняла и поцеловала бойца. Участливо обращаясь к разведчикам, она добавила: — Вы пришли к нам в такое время, когда купаются и в росе, и в воде, и… в слезах…
На востоке розовела чешуя перистых облаков.
Загоралась, утренняя заря. Лунный свет слабел. В луговой низине стали отчетливее выделяться слои тумана, особенно над извилистой грядой кустарников. К ней двигалась, извиваясь среди кочек, цепочка разведчиков.
Они залегли на валках отсыревшего за ночь сена. Впереди простиралась луговая низина. В ожидании старшины Кирьякова бойцы вполголоса переговаривались.
— А вот эта загадка поможет сориентироваться… — отвлекал людей ото сна бодрый полушепот. — Один говорит: побежим, побежим; другой говорит: постоим, постоим; третий говорит: пошатаемся, пошатаемся. О чем идет речь?
Отозвались приглушенные голоса:
— Об экипаже бывшей учебно-боевой бетушки-старушки. Но интересно: первый раз слышу такую меткую, образную, самокритическую характеристику «трех танкистов» — Гридина, Моторного и Трояна…
— Возражаю… Я не уловил критики даже в тоне. Считаю, что имеете в виду не противопоставление характеров танковой тройки, а то, что они удачно дополняют друг друга…
— Да, но какое это имеет отношение к нынешнему ориентированию на местности?
— Самое прямое. Ваши домыслы невпопад, — торопился бодрый полушепот внести ясность. — Загадка отгадывается кратко: вода, берег, трава. Сейчас мы с ними встретимся. Вон за тем сплошным кустарником.
Это Троян — неугомонный именинник. Он показывал рукой на зеленую гряду, утопавшую в предутреннем тумане.
Подошел старшина Кирьяков. Кратко поставив задачу, он весело зашагал по скошенному лугу. За ним — цепочка разведчиков.
Людей неприятно поражало то, что лунный свет как-то странно мертвел, становился синеватым и холодным. От этого кое-кто вздрагивал, поеживался.
Вскоре началась высокая, серая от росы трава. Сгустки тумана по мере приближения к ним, как бы незаметно отступали, повисая вдали над белесой растительностью. Старшина не обращал внимания на ее шелест. Только когда вступил в кустарник, начал осторожно отводить от себя в сторону мокрые ветви. Троян, шагая следом, ежился, нагибался. Боком обходил густые отростки вербовых листьев, стараясь не задевать их и не стряхивать на себя обильную росу. И все-таки, за шею чувствительно падали крупные капли, от чего все тело вздрагивало. Заросли оборвались. В мутном провале угадывалась речка.
Справа, из района Соколова, перекатывалось низиной эхо выстрелов.
Троян неохотно опустился на холодную траву. Раздвинул руками стебли осоки и увидел речную поверхность, сплошь покрытую густым туманом. Сбоку оказался Гридин.
— Где же Березовая гребля? Снесло ее? — шепнул Троян другу.
— Нет здесь никакой гати. Это, оказывается, название деревни, которая находится слева от нас.
— Значит, наш «язык” соврал?
— Нет, данные пленного подтверждаются. Вон, южный берег неподвижен и молчит. С рассвета его должны занимать солдаты, которые прибыли ночью и сгрузились юго-восточнее Соколова. Наша задача: упредить гитлеровцев.
— Да… Вон, она, какая Тня… Странное название. Наверное, от тять, тнуть, тинать, что означает тяпать, рубить, резать… Этим сейчас мы и займемся… — рассуждал Троян.
— По-твоему тня — рубка, резня, а по-моему форсирование произойдет бесшумно.
— И я так хочу… Хорошо бы, чтоб и за Тней не было тни…
Рядом зазвенел телефон. Троян оглянулся. В углублении широкого дупла старой вербы сидели знакомый старший лейтенант в каске и красноармеец-связист. До слуха долетели слова:
— Так точно!.. Слушаюсь… Приступаем…
Старший лейтенант тут же поманил к себе пальцем Кирьякова и распорядился:
— Начинайте. Политрук с передовым отрядом на подходе.
Старший лейтенант взобрался на седловину дуплистой вербы. Замаскировался в молодых ответвлениях и начал пристально вглядываться в сумрак противоположного берега.
Связист, не выпуская из рук телефонной трубки, занимал такое положение, чтоб была возможность и вращать ручкой телефонного аппарата, и, в случае надобности, схватиться за винтовку и открыть из нее огонь.
Старшина Кирьяков, подав знак внимания, неторопливо опустил ноги в воду — неподвижно-сонную и будто густую.
Отражение верб в речке качнулось, шевельнулось. Казалось, их вершины торопились заглянуть последний раз в чистое речное зеркало.
Послышались тихие всплески и хлюпанье — разведчики широким фронтом двинулись вперед. Опрокинутое в реке бледное небо с остатками неярких звезд заколебалось и исчезло в кругах волн. Форсирование шло вброд. Вода многим доходила до пояса, Трояну — под мышки.
Было и жутко, и любопытно. С приближением опасности ощущался подъем энергии. Бросало, однако, в дрожь. Но никто не стучал зубами — стыдно перед товарищами. Ведь со стороны глядя, это был бы признак страха.
К глазам бойцов приближались обрубленные на удалении до полутора метров от земли коротыши толстых верб. Они в тумане принимали странные, причудливые формы и будто манили к себе, в укрытие. «Не подвох ли? Не притаились ли за дуплянками враги?..» — настораживались бойцы. К счастью, никаких признаков противника. И кое-кто начал пренебрегать мерами маскировки. Сразу стал показывать себя Мотыльков — рвался вперед с явным намерением первым зацепиться за коряжистый берег. Старшина, молча, погрозил кулаком. Тот будто не заметил и, ободренный тишиной, успешным началом форсирования, с шумом и треском хватался руками за размытые водою корни, сучья. Однако его опередили более искусные бойцы. Первыми вылезли из воды Медведев, бывший моряк, Троян, Самохин и Гридин. Они почувствовали удивительную легкость в каждом мускуле и готовы, подобно птицам, устремиться вглубь берега. Но зарываться и шуметь в разведке нельзя. Все осторожно прошли мелкий лозняк и растворились в зарослях. Затем стали выходить на прибрежную полянку. Старшина в центре передового отделения шагал крупно, спокойно, как аист.
— Выходит, показания «языка» подтвердились, а название речки устарело… — шептал Гридин на ухо земляку.
— Не спеши, Костя, приготовься к худшему, — одернул Троян.
Навстречу вынырнул из канавы Мотыльков с таким видом, словно убегал от бешеной собаки.
— Идут!.. – задыхаясь, еле проговорил он.
— Запомните: разведчик избегает в докладах двусмысленность, неясность, я те дам… Кто, где и сколько? Выражайтесь точно, — потребовал старшина.
— Фашисты… Рота. Берегом… Строем, по два… Прямо к нам.
— Не возводи в куб, — одернул Гридин.
Кирьяков прислушался. Действительно приближались звон оружия, чужая речь.
— Очень хорошо, — улыбнулся он. — Гитлеровцы облегчают нашу задачу. Чем нам их искать, так они сами к нам жалуют и не гамузом, а командой. Мотыльков… Хотя нет, отставить — вы уже наполовину вышли из строя, придите в себя. Троян, вернитесь к речке и доложите старшему лейтенанту, что со стороны Соколова приближается отделение гитлеровцев — с учетом коэффициента страха Мотылькова. Последнее не для передачи.
Когда ушел Троян, Мотыльков вытянулся в струнку перед Кирьяковым.
— Товарищ старшина, после ваших слов я в полном ажуре. Где мне быть?
— На главном направлении. Там, где бойцы успешно продвигаются к шоссе. Передайте Медведеву, чтоб он не останавливался даже, если услышит здесь, у нас стрельбу. Нужно занять плацдарм как можно большей глубины.
Мотыльков со всех ног бросился выполнять приказание.
Кирьяков осмотрел местность, задержался на вывернутом из земли и омытом дождями большом корневище и приказал:
— Семипьядев и Чапурин, займите со своим пулеметом огневую позицию в яме, возле коряги. Через три минуты будьте готовы открыть огонь. Без моего сигнала — ни звука.
Из-за блестящих зеленой свежестью листьев вербы брызнули первые солнечные лучи. Бойцы жмурились.
Путаясь в высокой траве, бежал берегом Троян. Выкупанный в речке и орошенный росою он был мокрый до шеи. Обмундирование отливало глянцевитым блеском и дымилось паром.
— Товарищ старшина, — докладывал разведчик, — старший лейтенант и политрук уже на этом берегу. Оба руководят переправой. Велели нам встретить врага с выгодного рубежа. Они уходят на свое направление.
Из-за реки донеслись глухие как бы подспудные удары. Через несколько секунд — резкие взрывы снарядов в районах Соколова и Березовой гати.
Самохин повернул вопросительное лицо к старшине:
— Наши. Но почему так широко разбрасывают снаряды? Нас не поддерживают.
Кирьяков не успел ответить.
— Товарищ старшина, где прикажете расположиться с телефоном?.. — на ходу задыхался мокрый телефонист с винтовкой в одной руке и кожаной сумкой в другой. Следом — красноармеец с катушкой через плечо.
— Вы сбились с маршрута. Вернитесь назад, от своей дуплистой вербы возьмите двести метров левее и прямо по следам в траве догоняйте старшего лейтенанта, — приказал Кирьяков связистам и — Самохину: — Артиллеристы еще не знают, где мы. Теперь от этих парней, что убежали с катушкой и аппаратом, зависит поддержка наших действий своей артиллерией. Берегите, где увидите в траве черные провода. Они донесут нашему командованию сведения о каждом нашем шаге на плацдарме…
Раздались близкие выстрелы из автоматов. Разведчики инстинктивно пригнулись к земле, хотя вблизи не было слышно свиста пуль. Через короткое время со стороны речки донеслись всплески, шлепанье чего-то упавшего в воду, крики. За вербами поднялись вверх три диковинных водяных дерева. В утренних лучах они рассыпались разноцветными ветвями – брызгами.
— Снаряды противника, но радуга наша, — пророческим тоном заметил Гридин.
— Пристреливается, — отозвался старшина, согнулся и вприпрыжку кинулся в сторону звуков вражеской автоматной стрельбы.
Остальные разведчики обогнали Кирьякова. За поворотом тропинки они увидели сквозь густую листву вспышки красных огоньков.
— Ложись! — скомандовал старшина, сильно размахнулся правой рукой и запустил высоко над кустами гранату. — Пулеметчики, — огонь!
Звучный гранатный взрыв дополнили ружейно-пулеметные выстрелы. В ответ, над головами разведчиков пронеслись, как злые осы, стаи пуль. Просвет тропинки закрыло дымное облако.
— В ответ не добросил фриц, — обрадовался Кирьяков. — А ну-ка, Самохин махнем, согласно норме ГТО, — и тут же две черные точки описали крутые траектории в воздухе.
Разведчики кинулись прямо в пороховую гарь своих взрывов.
— Сюда, хлопцы! – звал старшина Кирьяков. — Здесь фашисты набрали в рот земли… Молчат, как рыбы.
Бойцы собрались у длинной канавы, вдоль которой, в иссеченных осколками кустах лежали пять зеленых вражеских трупов.
— Остальные убежали. За ними не погонимся, — распоряжался старшина Кирьяков. — Используем выгодный естественный рубеж для обороны. Пулемет установить напротив тропы… Знаю, что место открытое. Наломать ветвей, замаскироваться… Вернитесь за корягой. Приволоките ее, забаррикадируйте тропу… Остальным — растянуться вдоль канавы вправо и влево, на расстояние зрительной связи друг от друга. Левадный бегом к старшему лейтенанту. Доложи, по карте, что правый фланг пока вполне обеспечит отделение стрелков с пулеметом.
Противник вновь дал о себе знать. Со стороны Соколова зачастили выстрелы. Трескотня приближалась. Вскоре на илистой почве тропы вспархивала пыль. Семипьядев и Чапурин лихорадочно орудовали штыками — окапывались. Вражеский огонь заставлял ковырять землю полулежа.
Они неизвестно, сколько еще возились бы с оборудованием своей огневой, если бы фашисты не спугнули их своим парадом. Чапурин не верил своим глазам: из-за обширного куста, как из-за декораций на сцене, шагнула в ногу четверка гитлеровцев, приставив к животам автоматы и строча из них перед собою.
Семипьядев бросился к ДТ. Его помощник Чапурин, подал снаряженный диск, а сам схватился за винтовку. И оба почему-то медлили.
Из канавы показалось странно некстати улыбавшееся лицо Кирьякова.
— Что ж вы, братчики, смотрите? — ни то шутил, ни то укорял старшина. — Чтоб не опоздать, стреляйте.
Тем временем из-за лозняка — декораций выдвинулась новая вражеская четверка.
Семипьядев тщательно прицелился, нажал на курок. Одновременно над канавой описали круги в воздухе несколько взмахнувшихся рук. И подобно тому, как внезапно набегавший вихрь прижимает к земле самые буйные бурьяны, так и опереточный строй врагов закачался и волной припал к траве. От совместного грохота гранат и длинной пулеметной очереди казалось, воздух пришел в движение. На вражеской стороне шевелились кусты, трава. Канава неустанно гремела выстрелами.
Когда визг пуль со стороны противника прекратился, старшина Кирьяков потребовал:
— Прекратить огонь! С мест не сходить.
Обратил внимание на себя Семипьядев. Он сидел возле пулемета и держался обеими руками за голову. Чапурин — рядом, с недоумением разглядывал свои окровавленные руки.
— Это что за немая сцена, пулеметчики? — спросил старшина,
Семипьядев размазывал на лице кровь, силился улыбнуться:
— Никуда, кажется, не ранен, а гудит в голове… — он осторожно провел ладонью по шее. — Шут его знает, откуда такое кровотечение. Там, где должно быть ухо, что-то печет…
— В таком разе все понятно, — воспрянул Чапурин. — Я у тебя одолжился кровью, — и начал осматривать голову товарища. — Да, брат, от твоей ушной раковины остались одни клочья. Возле самой головы смерть побывала…
— Не пугай парня, — крикнул из канавы Самохин. — Ему чертовски повезло — пуля или снаряд второй раз в одно и то же место не попадают. Значат, пулеметчик гарантирован от опасностей на сто лет. Не зря Семипьядевым кличут.
— Федот, перевязывай быстрее, а то уже начинает болеть, — торопил пострадавший.
— Не крути головой. Я мигом… Глаза оставлю, под носом пропущу моток, чтоб не чихал, не сморкался. В разведке эти удовольствия не положены… — приговаривал Чапурин, выматывая на голову Семипьядева второй бинт.
Голос Кирьякова из канавы:
— Семипьядев, вы своей белоснежной чалмой демаскируете позицию. Отправляйтесь на медпункт. Там разберутся, что с вами делать.
— Товарищ старшина, — бодро доложил пулеметчик. — Мое место у ДТ, а не в медпункте. Я не чувствую никакой боли. Виноват Чапурин — по-медвежьи замотал белым всю голову. Но не беда — здесь за грязью дело не станет…
Вдоль речки загремела серия взрывов. Над вербами поднялись черные и водяные столбы. Возле пулемета зашлепали комья речной тины.
— Смотрите, как по щучьему велению… – размазывал пулеметчик по коряге-баррикаде ком ила. — Сейчас замаскируюсь под цвет местных предметов…
К канаве прибежал Левадный, за ним — отделение стрелков.
— Товарищ старшина, — доложил он, — командир приказал вам прибыть к нему с пешими танкистами-разведчиками, на главное направление. Фланг обеспечат стрелки с пулеметом.
Старшина Кирьяков разъяснил сержанту, командиру отделения, характер обороны рубежа речка-канава и отправился со своими подчиненными вглубь плацдарма.
В пути они наткнулись на Бабака.
— Так что разрешите доложить, осматриваю телефонный провод… – начал он, видно, разбитый страхом.
— Выполняете распоряжение командира?
— Нет, по своей инициативе, понимая важность связи с командованием, как вы отмечали…
— Где старший лейтенант? — оборвал старшина.
— Впереди наши натолкнулись на траншею противника. Завязался огневой бой. Политрук и Медведев с двумя бойцами наводят порядок…
Путаник!.. где командир? – взорвался старшина, и тут же заставил себя улыбаться.
— Точно не доложу… Когда наши спрыгнули к гитлеровцам в траншею, вот те кустики закачались… Я уже давно наблюдаю за ними — не шевелятся. И ни слуху, ни духу…
Бабак видел по выражению лиц старшины и бойцов, что докладывал чепуху, но не мог себя преодолеть. «Разве можно найти такие слова, которые поправили бы твои плохие дела?..» — растерянно укорял себя он.
— Значит, говорите, веточки не колышутся? — шагнул вперед Кирьяков, теряя с лица привычную улыбку, от чего становился неузнаваемым.
— Они велели прикрывать их… Но как?… — сказанулось у Бабака как, то произвольно. Он хотел перебороть себя, но не хватало силы воли. Поэтому цеплялся, как ему казалось, за надежный якорь спасения, а получалось — за соломинку.
— А вот так! — ужом пустился Троян среди травянистых кочек, в сторону упомянутых Бабаком кустиков. Спрыгнул в траншею и сразу отозвался: — Хлопцы, сюда! Трофеи…
Старшина Кирьяков взглянул на Бабака так, что тот проворнее ужа пустился вслед за Трояном.
Разведчики рассредоточились и широким фронтом приблизились к обороне противника. Трояна увидели за несвойственным для него занятием — он медленно двигался траншеей и концом штыка переворачивал брошенные врагом вещи: противогазы, магазины от оружия, кучи стреляных гильз, какие-то железные и бумажные коробки, пачки сигарет…
В траншею спрыгнул старший лейтенант со связистом и телефонным аппаратом.
— Подбегаю к месту отчаянной пальбы… — горячо говорил командир. — Слышу: «Энде! Гитлер капут!” и стрельба прекратилась. Пауза и бас: «Каленый нож им в печенку». Ну, рязанский акцент в немецком восклицании сразу выдал политрука. А что за бас? Оказалось, ваш Медведев. Молодцы, двое очистили от врагов траншею до конца левого фланга. Теперь укрепляются.
— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить вам схему обороны Житомирского шоссе, — протянул Троян командиру лист бумаги. — Долго рылся в барахле, но нашел то, что искал…
Рассматривая продолговатую полоску кальки с аккуратно нанесенными на ней условными знаками участка шоссе, огневых точек, окопов, старший лейтенант говорил:
— Важный документ… Сейчас надо отправить в штаб. Нас интересует только вот что… — и он обратил внимание старшины, всех разведчиков на кружочки, полукольца, стрелки, расположенные вдоль северо-восточной обочины шоссе. — Оттяпали мы немалый плацдарм за Тней. Теперь… — старший лейтенант распорядился о передаче в штаб своих новых координат и вылез на южную сторону траншеи.
Как только он очутился в чистом поле с группой разведчиков, вокруг заклубились густые взрывы мин, снарядов. Со стороны Соколова резал кинжальный огонь крупнокалиберного пулемета. Люди прижались к земле. Не было никакой возможности сделать ни шагу не только вперед, но и назад. Обстрелу, казалось, не будет конца.
Об этом бое местные жители рассказывают легенды,
С самого утра большое и яркое солнце начало сильно припекать.
Щедро мечет лучи. Играет, подзадоривает… — повернулся Троян набок, жмурясь.
— Горячо берется. Хватит ли у него силы — день велик… – не сдвигаясь с места, лежал Самохин ничком в водомоине, рассматривая оголенные дождями корни растений.
— Не было бы перепадов от жары к холоду, от застоя к движению — все окостенело бы, зачахло, — философски заключил Гридин.
Сзади послышалось выстукивание ”Трех танкистов» и возглас:
— Эй, экипаж машины боевой! Ваши мокрые спины заметно начали дымить паром — демаскируете захваченный рубеж. Продвижением изменить обстановку.
Утренний влажный туман давно сменился сухим туманом – едким пороховым дымом, тошнотворной гарью, смешанных с пылью. В мутном, душном, почти неподвижном воздухе слабо ощущались еле уловимые колебания с запахами иссеченной пулями и осколками зелени, вывороченной снарядами теплой земли, сырым луговым болотом, смеси едких испарений пота, крови…
Бойцы, застигнутые вражеским огнем в открытом поле, — в который раз с утра! — залегли. Изнывали от жары и жажды. Перед глазами шевелились, раскачивались стебли трав, конского щавеля, ромашки. Резкие порывы взрывной волны, осколки, пули подкашивали их, рвали в клочья.
Старший лейтенант и старшина не раз намеревались возобновить движение к шоссе, но их усилия оказывались тщетными. Как только бойцы начинали шевелиться, тотчас же против них сгущался вражеский огонь. В разных местах слышались крики, стоны раненых. Выносить пострадавших с поля боя немыслимо. Приходилось терпеливо ждать. Время тянулось мучительно медленно.
Когда люди потеряли всякую надежду на ослабление смертельной пляски огня, и начали впадать в какое-то безразличное полузабытье, ненавистный грохот стал удаляться к Березовой гати.
Старший лейтенант встрепенулся:
— За мной, братцы!..
Бойцы ползли и своим глазам и ушам не верили — враг не препятствовал. Усиление огневой активности на левом фланге считалось причиной облегчения в центре. Из окопов поднялась новая цепь во главе с политруком, которая со свежими силами быстро опередила старшего лейтенанта. Многие осмелели — встали на ноги, побежали. Спотыкались, падали, вставали, на радостях перегоняли друг друга. Расстояние к шоссе сокращалось. Иные радовались, как дети, — открыли, что их ноги сохранили способность бежать. Никто не обращал внимание на рост огневой активности на обоих флангах. Над головами проносились с визгом шальные пули. И сами контратакующие не стреляли — не было целей. Тоскливый вой около ушей бойцы принимали за посвистывание ветра. Кое-кто ни то, шутя, ни то по рассеянности отмахивался руками, как от мух.
— «Опять старая загадка: где враг?” — подумал Гридин и в изнеможении свалился на траву. Рядом перебежками мелькали товарищи. Кто-то, падая рядом, больно ударил его каблуком в плечо. Он приподнялся на локте, и не верилось: поле шевелилось массой диковинных силуэтов.
— Не выставляй голову, не видишь?- враги … Туча, — слышался со стороны голос Трояна.
Вдруг открылось потрясающее зрелище: надвигалась, как в мареве, толпа зеленых фигур, в глубоких серых касках. На красных лоснящихся физиономиях — черные оскалы пастей. Истошные крики тонули в автоматной пальбе.
— С места — огонь! — командовал старший лейтенант. — Пулеметчики, не зевай. На вас вся надежда.
Бойцы припали к земле там, где кого застала команда. Поле расцвело сизыми дымками, огласилось гулкими винтовочными хлопками. На флангах и в центре соревновались в скорострельности пулеметы. Гитлеровцы смешались, многие, хватаясь руками за воздух, падали, остальные стали рассеиваться по кустам.
Две-три минуты передышки и вновь замолотили снаряды и мины. Они рвались с таким металлически сухим треском, будто пересохли на солнцепеке.
— Держись за землю!.. – требовал старший лейтенант. Бойцы на голой местности старались втиснуться в твердую почву. Многим чудилось, будто земля под ними заметно прогибалась.
А солнце все жгло, будто старалось восполнить недостаток огня с советской стороны. Казалось, от усталости оно замерло на месте. Больше того, от перерасхода тепла, размеры его уменьшилась. Временами дневное светило становилось за тучами пыли, дымов малиновым, без лучей.
И так продолжалось целый день.
Вражеский огонь рвал и кромсал все живое вокруг. Везде все и вся дырявило и решетило. Прилетел скрипучий вражеский разведчик, после которого над полем боя несколько раз измывались стаи «юнкерсов” — «музыкантов». Они чуть не цеплялись за почву своими выпущенными шасси.
Бойцы, обливаясь потом и кровью, метр за метром двигались к шоссе. Дыханием взрывов обжигало лица, руки, слепило глаза. На смену убитым и раненым из-за речки прибывали новые разношерстные подразделения, состоявшие из танкистов, артиллеристов, стрелков, хозяйственников, писарей.
Волю советских воинов не могли сломить ни вражеская авиация, ни неистовый артиллерийский и минометный ураган, ни свинцовые ливни, которые чередовались, как по расписанию.
Людей мучили жажда, зной, духота. Нечем дышать.
— Не думал, не гадал, что проклятые колбасники до сих пор не выдохнутся, — сетовал Мотыльков.
— Да, тут малость ты дал маху. Покелева цел, возвращайся в свою артиллерию, — подбросил ежа Чапурин.
— Черта с два! — по-своему понял Бабак. — Бандит и назад не дает ходу.
— Влипли. Местность невезучая, не для подвига, — сожалел Мотыльков.
— Главное — какая силища у него! — поражался Бабак. — Каюк нам. Будь ты хоть кротом, отсюда живым не выберешься…
— Что за скулеж развели?! — слышался желчный, хриплый голос Гридина. — Делать вам нечего? И без вас тошно…
— Бабак не знает, что эта «силища» утром зады показывала. Он в то время червей искал в траве, — съязвил Самохин.
Из-за увядших маскировочных ветвей Медведев погрозил кулаком Мотылькову:
— Не вздумай перепорхнуть в другие кусты. С головы до пят спущу твою татуированную шкуру. — И, сверкнув глазами, в сторону Бабака добавил Гридину: — И вы своего лупоглазого бычка тоже приструньте, иначе они в паре попадут под чей-то каблук и будут нечаянно раздавлены.
Пререкания услыхал старшина Кирьяков. Подполз. Загадочно-обещающий блеск глаз впился в Бабака и Мотылькова:
— А ну-ка, ко мне, хлопчики… По-пластунски. Не торопитесь. Что-то ж вас давненько не видел… Взгляните вон на шоссе: на обочине высится как гриб старое дерево, из зеленой кроны которого торчит сухие ветки. На макушке сидит вражеский корректировщик. Я не раз встречался со стеклами его второй или третьей пары глав. Нет ли у вас желания спустить очкастого вниз? Уверяю: нам от этого сразу полегчает.
— Идея неплохая… Надо снять … — смутно представлял Мотыльков себя героем подвига. И Бабаку — горячо, на ухо:
— Не артачиться. Этот старшинский юмор может нам боком выйти. Эх, кабы шутил черт с бесом, водяной с лешим!.. Но тут все они затеяли злую шутку с нами…
— Оно, конечно, если бы была возможность… мямлил Бабак.
— Отсюда не достать, — старшина примирительно спрятал в уголках рта тонкую усмешку. — Как только мы начнем продвигаться вперед, вы оба воспользуетесь оживлением поля боя, возьмете вправо, где будет меньше огня, подберетесь к дереву на расстояние действительного винтовочного выстрела и аккуратно снимете фашистскую птаху. Ясно?
— Так точно!
— Отлично! За вашими действиями будут наблюдать, я те дам…
— Если понадобиться, подмогу огоньком из ДТ, — пробасил издали Семипьядев.
— Вот так история… — почесал затылок Бабак и неприязненно скосился на пулеметчика.
Из-за речки послышалась канонада.
— Наши!.. — радостно закричали бойцы.
Шоссе заклубилось серией взрывов.
— Вот это правильно дают!.. — восторженно оценил кто-то.
Воинов охватило общее воодушевление.
Старший лейтенант поднялся во весь рост и призвал вперед. Бойцы двинулись к шоссе, однако не учли слишком большого расстояния, которое отделяло их от цели. Одного броска не хватило. Контратакующая цепь утонула в новом дыму вражеского огня.
Казалось, противник был неистощим в своих все новых и новых средствах противодействия.
Над головами нудно скрипел фашистский стервятник.
Старший лейтенант с маленькой группой бойцов вырвался так далеко вперед, что оказался вне действия вражеского артиллерийского огня. Смельчаки попали, однако из огня да в полымя — их в упор встретили пулеметные очереди.
В цепи перекатывался от бойца к бойцу политрук.
— Товарищи! Мы с утра держим под обстрелом шоссе, — слышался его голос. — Смотрите, наша артиллерия не дает врагу ходу. Движение гитлеровских колонн в сторону Киева остановлено. Западнее Соколова с каждым часом растет скопление вражеской техники. Там есть, кому нанести бронированный удар по «образцовому” кавардачку. Стало быть, аккуратно разработанное гитлеровское расписание движения на Киев уже сорвано. Нам осталось немного — вырваться на шоссе и оседлать его. Еще рывок и мы у цели… — и он наткнулся на бездыханное тело старшего лейтенанта. Рядом припали к земле бойцы, боясь вслух объявить о новом горе.
— Без командира не бывает. Вперед!.. — услыхали они голос политрука.
Матово-желтое солнце клонилось к западу, духота и зной в раскаленном воздухе не спадали. Прошитые и опаленные огнем кустарники потускнели, потеряли свой зеленый живой блеск; листва на подсеченных огнем ветвях скрутилась в трубочки, остальная завяла и поникла. Пожухла мятая трава.
На задымленном светло-коричневом небе стали появляться темные облака. Порывы ветра обдавали разгоряченные лица бойцов освежающей прохладой. Со стороны речки доносился шум голосов. На горизонте сгущались грозовые тучи, которые двигались, росли и превращались в грандиозную черно-серую массу. Где-то сверкала молния. Еле слышно, как бы попутно, в неторопливых сборах зарокотал гром. Все живое на земле ощущало приближение чего-то нужного долгожданного. Хмурая чернота заняла полнеба, все больше расширяясь. Вдруг мрачная тяжелая туча осветилась огненной ломаной стрелой. Вслед разразился могущественный грохот. В кустах, в траве, будто что-то начало лопаться. Накаленные стволы оружия зарябили темными пятнами, которые мгновенно уменьшались, шипели и бесследно исчезали — испарялись. Капли зачастили. Оружие, отдыхая от жаркой работы, остывало и при вспышках молний отсвечивало влажным матовым блеском. Ему, как бы на смену, дружно ударил сердитый ливень своим мокрым ружейно-пулеметным огнем. Его залпы слились в сплошной шум. На земле сразу заструились бурные дождевые потоки. Их поверхность заклокотала маленькими фонтанчиками, словно от падения пуль и осколков.
Бойцы, изнуренные длительным боем, зноем, неутоленной за день жаждой, тянулись к прохладным ручейкам и захлебывались, глотая живительную влагу. Гроза всем принесла истинное блаженство.
Старшина кликнул Мотылькова и Бабака, напомнив им о задании. Дружки по несчастью уползли к злополучному дереву, споря.
— Мало того, что фриц с утра без передыху долбит в хвост и в гриву, еще и природа глумиться над нами, — бурчал Бабак.
— Колпак ты старомодный… Стихия — врагу помеха, а нам на руку. Никто в этой дикой вакханалии не поймет, сняли мы вражеского наблюдателя или нет. В то же время мы невидимы ни со стороны фашиста, ни со стороны Семипьядева…
— Держи карман шире — глазастый Кирьяков все видит.
— Не беда. Мы ударим из винтовок по дереву с гнездом. Иди, проверь: сбит корректировщик или сам слез погреться. Видимость плохая.
— Фриц вновь швыряется минами. Не пойдем дальше… На мне сухой нитки нет и ни одного нерва целого… Все равно нам погибать в этой смертельной свистопляске сил природы и врага…
— Тупица ты книжная. Если не замолчишь, пристукну. Сообрази, болван ты непроходимый: чем дольше будет идти дождь, тем лучше для нас. Фашист не выдержит слякоти. И мы, может быть, вернемся к старшине героями. Понимать надо, а не дрожать за свою шкуру…
Грозовой мрак поминутно рассекала молния, озаряли взрывы вражеских снарядов и мин. В грохотавшем воздухе смешались и земля, и небо, и огонь, и вода… Казалось, в таком аду человеку немыслимо не только действовать, но и жить.
Мотыльков полз, тревожно косясь глазом налево — его опережали разведчики.
— Не отставай, размазня. Эх, проворонишь с тобой дело…
Желание отличиться брало верх над трусостью Мотылькова.
Неожиданное обстоятельство резко изменило противоречивые стремления двух дружков.
На западе, в мрачной темени неба образовалось голубое окошко. Сквозь него выглянул край ослепительно яркого, словно омытого дождем солнца. Дневное светило перед своим заходом вонзило острые лучи-стрелы во вражеский суматошный муравейник на шоссе. Левее, на фоне черного леса, всеми цветами заиграла веселая радуга.
— На ее краях, — заметил Троян, — выступают широкогрудые розовые облака, похожие на былинных русских богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Точь-в-точь — все трое.
— Ну и глаза у тебя, Петро! Что захочешь, то и видишь… В самом деле, при желании можно различать очертания легендарных витязей, говорил Гридин, вбирая голову в плечи. — Неприятно холодит жидкий дождик при солнечном сиянии,- кивнул он на светлые нити, которые тянулись с неба к земле.
— Это солнце слезится…
Лучезарная солнечная стрела последний раз скользнула вдоль шоссе. Попутно осветила старое дерево с вершиной в виде аистового гнезда и скрылась. Это было как бы сигналом, целеуказанием для небесной артиллерии. Вслед за исчезнувшим лучом ослепительно сверкнула над злополучным деревом зигзагообразная молния, и гнездо вспыхнуло пламенем. Грянул гром, от которого заколыхалась земля. Вправо от дерева- факела вся неприятельская сторона затянулась могильным мраком. С придорожной рощи снялась стая перепуганных птиц и метнулась на восток.
Из груди десятков бойцов вырвалось: «Ура!»
— В чем дело? – спросил кто-то.
К старшине Кирьякову прибежал весь в грязи запыхавшийся Мотыльков.
— Товарищ старшина, смотрите: горит!.. — докладывал он.
— Ну и что же?
— Как что? Мы вели по наблюдателю убийственный огонь зажигательными нулями…
Рядом — хохот и вопрос:
— Эти пули вы сами отливали?…
— Ладно, — уступил Кирьяков. — Считайте, что вы свое задание выполнили.
Со стороны смеявшихся — реплики:
— Бог помог….
— Ледачому щастя…
— Какая разница? Главное — вражеский наблюдательный пункт уничтожен…
Солнце совсем померкло в тучах. Гроза возобновилась с новой силой. И огонь противника не ослабевал. От ярких вспышек молний блекли, исчезали огни взрывов снарядов, мин. Мгновениями на поле боя становилось совсем темно.
Наконец, в паузу между громовыми ударами и артиллерийской канонадой вклинился трехкратный залп советских гаубиц. Это был сигнал.
Из-за речки сплошным гулом загремели орудия. Казалось, они соревновались с раскатами грома. Яркие молнии то и дело озаряли изрытое снарядами и омываемое ливнями поле боя, отливавшее мокрым глянцем цепи красноармейцев, которые словно ободренные разъяренной небесной стихией, вместе с ней внезапно выросли из кромешной темноты и неудержимо понеслись вперед. С фланга ДТ Семипьядева рассекал дождевую завесу свинцовой струей, обеспечивая продвижение товарищей. На фоне грохота канонады, ружейно-пулеметной трескотни, оглушительных ударов грома, над полем прокатилось мощное русское «Ура!»
Это было сказочно, непостижимо, легендарно.
Жители окрестных сел слыхали сквозь шум грозы и треск грома это необычное «Ура!» В их памяти остался, как сон, как некое предзнаменование ураганный ночной удар красноармейцев в направлении Житомирского шоссе. — Это было в субботу, на Петра, ровно три недели после начала войны… — вспоминает пожилая женщина из села Курное, которое находится в километре южнее шоссе. — Я с десятилетней дочкой и соседом-стариком дрожали под проливным дождем в окопе, по горло в воде… Жить не хотелось… И вдруг до нас докатилось громогласное «Ура!». Мы заплакали от радости и гордости за наших бойцов, освободителей, защитников… Появилась уверенность в том, что выживем. Я перекрестилась… Дед причитал: «Разверзлись хляби небесные над антихристом, гитлеровским супостатом… Дай бог выйти нашим на твердую дорогу… Враг тогда нигде не пройдет, не объедет… Завязнет в грязи… Имя Петра — каменное, пусть камни посыпятся на вражьи головы…» Так и было; дождь лил всю ночь. Советские снаряды, как камни, без конца падали в расположении гитлеровцев. Их машины надолго засели на обочинах дорог. Многие так и брошены…
Казалось, небо и земля слились в одном водовороте.
Гридин, Троян, Семипьядев, моряк бежали в числе первых к шоссе. Яркие вспышки молний, близкие выстрелы, взрывы снарядов позволяли видеть друг друга. Наконец, впереди, стала отсвечивать асфальтная лента. И тут света прибавилось. Его стало больше, чем требовалось для ориентировки. Ослепляло море огня. Лужи, потоки воды отражали различные сполохи, которые стали беспрерывными.
Несмотря: на яркую иллюминацию Гридин неожиданно споткнулся о что-то большое и мягкое. Упал. На него свалился Троян. Огненный зигзаг над головой осветил до мельчайших деталей препятствие вздутую тушу лошади. Кто-то вблизи отчаянно ругался, Тут же бойцов оглушил страшный треск. Нет, это был не гром. Лошадиный труп, как живой, встрепенулся и всей своей массой ударил по разведчикам. Какой-то исполинской силой разбросало людей в разные стороны.
Первым очнулся Троян. С отвращением отплевываясь, он выпутывался из паутины липких кишок, крича:
— Костя ты живой? Поднимись!.. А-а, вот хорошо… Не пугайся, это не мои и не твои внутренности. Я, словно легендарный Ласкоон от змей, не могу освободиться от обмоток из конской требухи. Какая-то коняка — бедолага спасла нас. Вражеский снаряд еще раз ее убил и израсходовал на нее всю смертельную силу… Нас облепило остатками разорванной в клочья конины и накрыло ею, как мокрым рядном.
— Везет же нам, Петро, в твой день рождения. Я совершенно цел… О чудо! И силы небесные нам помогают, и лошадь загородила своим телом… С тобой, друже, невольно станешь и религиозным, и суеверным.
— Я готов опоэтизировать наши боевые дела именами святых Петра, Илья… Раз от них враг дрожит, то нам этого и надо.
— Чудеса с горем… — отплевывался Гридин. – У меня во рту, в ушах, за воротником полно конского помета, крови…
— Ничего, дождик все смоет. Могло быть хуже. Любая беда — не предел всем человеческим невзгодам, — успокаивал Троян.
Рядом, сквозь грохот боя, шум дождя слышался голос Кирьякова:
— Разведчики, собрать раненых и сосредоточиться у спаленного молнией дерева.
Бойцы окликали друг друга, шарили среди придорожных кустов, разыскивая тех, кто не отзывался.
Гридин нашел Моторного у опрокинутого в кювете вражеского грузовика. Тот как-то ухитрился затянуть ремнем выше кисти раненую руку, а правой копошился в двигателе, сам прерывисто дышал и сотрясался, как мотор.
— Брось, Ваня. Трофейная техника сейчас не пойдет. Слышишь взрывы? Это пехотинцы подрывают ее. Пойдем к старшине, — предложил Гридин.
— Да, пожалуй, як не мені, той не свині, — отошел механик-водитель в сторону и метнул гранату под мотор транспорта. — А теперь ноги на плечи и – к начальству. Ничего танкистского у нас не осталось. И черное под ногтем смыто дождем…
— Осталось не снаружи, а внутри, — говорил Гридин, перевязывая товарищу раненую руку. Затем оба двинулись в назначенное место. В пути встретили Трояна, который тряс, приводил в чувство контуженного Белобородова.
— Не страшно. Со мной такое бывало. Отошел и ты отойдешь, — успокаивал Троян. — Дождичек оживляет. Твою ночную ранку я заново перевязал. Ну, и хорошо… Топ, топ — своими ножками…
К стволу обгорелого дерева Чапурин с сердцем сбросил с плеча две винтовки, ДТ и сумку с пустыми магазинами.
— Хоть волком вой… — тяжело стонал он. — Страшно обидно… Такой был везучий… Немножко не дошел. Перед кюветом маленьким осколком мины угораздило в то самое место, что и утром, за рекой… Верь теперь не писаному правилу, что в одно место дважды не попадает… Я говорю о Семипьядеве. Какой был фартовый парень!.. Не судьба…
— За Медведева еще обиднее, — скрипнул фальцет в темноте. — Того скосило на противоположной стороне дороги. Его подвел мой взбаломошный земляк — моряк. Увлек за собою и там оба погибли…
— Может, оттого так случилось, что ребята возвышались, рослые, здоровые, всегда на виду… — кто-то сочинял объяснение жертв.
— Наш старшина Кирьяков тоже своей высокой и широкой фигурой загораживал двоих таких, как я, карандашей, — отозвался Левадный. — Порой казалось, что он, как бронированный, пробивал в море огня собою дорогу вперед. От него, как от неистового овода шарахались в стороны вражеские осы, слепни, вся гитлеровская тварь… Значит, старшине — судьба…
— Вон, махонький, щупленький политрук… — слышался чей-то хриплый, будто простуженный голос. — Как только крикнул «Ура!», споткнулся и присел… Я хотел помочь подняться, а его тело обмякло… Лейтенант тоже мал ростом, шел рядом и — ничего. Дело тут не в росте человека, а в том, что надо сначала осмотреться, потом двигать…
— Болтаешь. Бывает время в бою оглядываться…
Из темноты выросла фигура старшины. Левой рукой он волок что-то черное, бесформенное.
— Живые все в сборе? — спросил Кирьяков.
Разведчики называли себя по фамилиям, обступая старшину.
Всплеск молнии осветил у ног Кирьякова дрожащую, сгорбленную фигуру гитлеровского офицера. С упрямым бледным лицом и водянистыми глазами, Чапурин замахнулся своим кулачищем:
— У-у!.. Образина… Скажи, много еще вас там есть, а то убью. Моторный, извлекая из своего кармана огромный ключ, вмешался:
— Обожди, Федот мы его по винтикам разберем…
Пленный блеснул очками к небу.
— Не тревожьте механики завоевателя, а то ничего не скажет. Это моя добыча. Сейчас он безвреден. Эй, Мотыльков, — ко мне! — торопливо говорил старшина.
— Я здесь, — донесся хриплый голос из-за дерева.
— Вы что копаетесь в грязи?
— Ищу документы у бывшего фашистского корректировщика. Весь обгорел, бандит…
— Бросьте, где ваш напарник?
— Бабак? Он совсем раскис. Плачет возле убитого политрука. Разрешите сходить за ним?
— Не надо. Потом вас ищи. На обратном пути захватим.
Тихо и ровно шелестел дождь. В отсветах молний и взрывов снарядов виднелись стальные, вертикальные полосы. Под ногами хлюпала вода.
Старшина Кирьяков поручил Левадному присматривать за пленным, а сам обошел всех разведчиков, вглядываясь в лица, ободряя раненых.
— Не густо осталось… — печально заключил старшина про себя и — громко: — Товарищи, мы выполнили свою задачу. На достигнутом рубеже остается наша пехота. Нам приказано вернуться в свое расположение. На обратном пути подобрать раненых и оружие. Все. Потопали.
Старшина взвалил на себя вещмешок, набитый трофейными снаряженными магазинами, взял в руки «шмайсер», позвав к себе Гридина, Трояна и связиста Бойко.
— Друзья-студенты присоединяю к вам третьего, вашего земляка, односельчанина, с которым вы здесь, в бою, впервые встретились. Получится танковый экипаж… Чтоб дать возможность вам вспомнить о вечерницах, всем троим, поручаю конвоировать пленного. Глаз с него не спускать, особенно во время артобстрелов, чтоб не сбежал… Старший – Гридин. Получите документы и доставьте по назначению,… — вручил Кирьяков объемистый пакет, перевязанный телефонным проводом.
Гридин поднял фашиста за шиворот и толкнул в ту сторону, куда направлялись разведчики. Офицер стал отчаянно мотать головой и упираться — давал понять, что он никуда с места не сдвинется.
— Ничего, и коза не хочет на торг, а ее ведут, — тоном доброго совета втолковал Троян пленному.
Гридин перевел пословицу на немецкий. Гитлеровец, к удивлению разведчиков, тяжело вздохнул и дисциплинированно зашагал в указанном направлении.
— Как видите, и фашист понял мудрость русских слов, — сказал Кирьяков. — Бойко, ведите кратчайшим путем, вдоль провода. Счастливого…
— Нелегкая нам досталась задача, — покачал головой Троян.
И он не ошибся.
— Не нравится мне эта песня…
— Перестаньте ворчать, Чапурин. Я те дам…
— Из Тни не вылезти, безбрежной стала… Симфония…
Разведчики миновали знакомые заросли лозняка, а под ногами все продолжала хлюпать вода. Сапоги вязли в топкой почве.
Дождь не переставал. Темень. Люди еще не выбрались из разлива речки на твердую землю, как глаза ослепили вспышки, барабанные перепонки еле выдержали новую серию резкого треска снарядов. Пришлось как есть с ранеными, оружием падать в воду, грязь, спасаясь от осколков.
— Легче десять раз повторять утреннее форсирование, чем совершить одно, хотя и победное возвращение… — недовольствовал кто-то.
— Эта Тня навеки запомнится… Я больше не выдержу… – стонал Чапурин. — Желудок давно пуст – хоть песни пой, хоть волком вой.
— Не стоит. Вон, из мрака вспышки выхватывают опушку нашего леса. Стрельба удалялась на север. Пошли… — говорил старшина, как с детьми,
Бойцы поднялись, нагрузились оружием, взяли под руки раненых и направились в непроглядную моросящую мелким дождем мглу. Кратковременные всплески огня помогали видеть очертания спасительного лесного массива. Многообещающий шум деревьев приближался. Все рвались к обетованному месту из последних сил.
Люди не могли знать, что таил в себе лесной загадочный гул.
Ноги непослушно скользили по раскисшей земле, проваливались в ямы с водой, путались в какой-то тягучей растительности. Раненые падали, стонали, просили оставить их на поле до рассвета.
— Веселее, ребята. С такого дела надо возвращаться с песней, а не с унынием. Еще одно усилие, осталось немного… Вон, недалеко сверкают вспышки наших орудий, — подбадривал старшина.
Впереди световые сполохи временами выхватывали из темени очертания леса. В промежутках между молниями, взрывами снарядов не было видно ни зги. Глубинные свечения в лесу манили к себе, возбуждая энергию.
Мало-помалу поле стало выравниваться. Ноги ощутили травянистую целину. Заоблачный белый свет мигнул и открыл высокую стену деревьев.
Разведчики с облегчением и надеждой вступили под темный лиственный шатер. Прислонились к толстым стволам и под говорливый шелест дождя наслаждались приятным покоем. Стало тепло, уютно, ненастье не замечалось.
Раненые нуждались в перевязках. Старшина торопился. Нащупал тропу. И сразу все двинулись по ней вглубь леса, наугад.
Не прошли и десяти метров, как встретился первый сюрприз: путь преградила гора сваленных деревьев. То ли это был завал, сделанный против гитлеровцев, то ли просто результат артобстрела или бомбежки, — неизвестно. Разведчики стали искать обходы. Как ни старались проникнуть вперед слева или справа, — всюду в темноте препятствовали нагромождения сучьев, расщепленных стволов дуба, ясеня.
— Если бы днем — тут рукой подать к нашим артиллеристам. Не только вспашки, но и звуки выстрелов говорят о том, что они рядом,- рассуждал кто-то.
— Если бы да кабы, во рту выросли грибы — был бы не рот, а огород. Нам надо без «если» пробраться к своим, — ответил Самохин и кинулся разбирать препятствие.
— Правильно! А ну, навалимся, — поддержал старшина Кирьяков.
Зашелестели ветви, затрещали сучья, сопровождаемые тяжелым дыханием, выкриками. Редкие световые подмигивания из-за завала поощряли людей.
Вдруг ослепительный огонь вспыхнул рядом, на мгновение, разогнав темноту. Тотчас раздался душераздирающий треск. Ударная волна обрушилась на бойцов бесчисленными обломками ветвей. Не успело замереть эхо, как грохот повторился. И зачастил…
— Кто-то сквозь шум кричал:
— Осторожно! На мины нарвались!..
— Не двигаться. Лежать. Это артобстрел, а не мины, — спокойно требовал старшина, в коротких фразах одинаково подчеркивая и отрицание, и утверждение.
— Тяжелая… Дальнобойная садит… — кряхтел Чапурин, выбираясь из-под веток.
— От ваших уточнений не легче. О выходе из леса и не помышляйте. Лежите на месте, — звучал старшинский голос.
Вражеские снаряды, казалось, рвались кругом. Лес грохотал, трещал, звенел, выл, стонал. Кровавые глаза взрывов, как бы осматривали результаты разрушительной работы тола, запах которого заполнил воздух.
Самохин воспользовался паузой и подтрунил над Чапуриным:
— Что теперь скажешь, Федот? Грозовой дождь был благодатным освежающим душем по сравнению с этим адским ураганным ливнем.
— Дождик и сейчас сеет. Его подавляет эта дьявольская свистопляска. Шелест дождя не утихал. Не переставали мигать молнии. Артобстрелу и отдаленной ружейно-пулеметной пальбе не было конца. Ночь пронизывали различной яркости и цвета огни. Над головами носились и каркали взбудораженные птицы. В лесу стоял сплошной гул. Издалека прорывались какие-то крики, призывы о помощи, что-то похожее на рыдания, истерический плач с причитаниями.
Постепенно обстрел перемещался вглубь леса, на север. Юго-западнее с новой силой разразилась интенсивная ружейно-пулеметная стрельба. В паузах прорывались страшные вопли.
Над головами, в листве, монотонно сеял дождь. Его успокаивающий шум вновь заглушили близкие взрывы, непонятные выкрики. Среди общего гула стал выделяться человеческий голос, похожий на пение. Он дребезжал, срывался и все же крепчал. Затем в лесной какофонии стали отчетливо побеждать мелодичные звуки:
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля, —
Это русское раздолье,
Это русская земля.
Песня поднималась все выше и выше, и распространялась в лесу все увереннее и бойче. Казалось, она плыла над верхушками деревьев, как те дневные кучевые облака, которые под вечер собрались в грозовую тучу. Песня усиливалась, повторялась эхом и как-то особенно контрастно противостояла могильной, сырой темени и не гармонировала с гулом войны. В усталом, измученном, но звонком голосе, в раздольной мелодии звучало чувство несломленной воли, сквозило гордое достоинство. В ней перемежалось что-то разудалое и хмельное с душевной болью и огорчением. Разведчики слушали, как зачарованные. Странная мелодия вызывала противоречивые чувства. Она воспламеняла сердца, теснила в груди.
Ураганный артиллерийский налет на минуту-другую заглушил лирико-драматический голос. В коротких паузах он звучал и даже, будто, состязался с ружейно-пулеметной трескотней.
Дружными залпами отозвалась советская артиллерия. Где-то на юге мощно продублировал удары по врагу гром. Ослепительные стрелы раскалывали мрак.
Сердца бойцов тронуло почти сказочное явление: под звуки артиллерийской канонады на земле, под аккомпанемент исполинских громовых раскатов на небе, в лесу широкой рекой продолжала разливаться волшебная песня. Казалось, она далеко уходила за пределы леса и распространялась на обширных просторах советской земли. Несмотря на казавшиеся противоестественность и даже анормальность, хотелось, чтоб ей не было конца. Это желание усилилось после того, когда в конце каждого куплета наступало тревожно-продолжительное молчание. Бойцов охватило опасение, что таинственный певец исчерпал свои силы. К счастью, песня неизменно возобновлялась и продолжалась. Временами она звучала, как напряженно натянутая струна, которая грозила вот-вот оборваться. В эти критические минуты лес до предела насыщался душераздирающим треском. Опасные мгновения проходили, струна начинала звучать увереннее и как бы переходила в грозовой бас. Вражеская трескотня будто отступала.
— Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья, —
Резко-болезненный вскрик и легендарный голос оборвался. И огонь стих.
С новой силой припустил дождь. Неведомый солист, будто собрался с силами, взял торжественно — величаво высокую ноту:
— Это русская сторонка,
Это Родина моя.
Победно закончив в сопровождении оглушительного громового аккорда, который начался на восточной опушке леса, и поддержанный залпом советской артиллерии, в центре массива прокатился над головами, потонув где-то на юго-западе.
Бойцы долго не решались нарушить напряженное молчание.
— Троян?.. Нет, не он… Голос не похож… Не соображу… спрашивал, возражал, сомневался Кирьяков, вслух реагируя на свои противоречивые мысли.
— Кто его знает? Может быть он, а, может, и не он… Душа его, а голос — нет… — разводил руками Моторный.
Среди раненых:
— Кто бы он ни был, а допел свою песенку.
— Посчастливится ли нам свою спеть?
— Хорошо песни петь поемши — ввернул свое Чапурин.
— В таком пекле песни еще не хватало. Неестественно все это. В своем ли уме певец? — высказался Самохин, подчеркнув местоимение «своем».
— Нет, не хочется так мрачно думать. Бывает, лихо плачет, бывает, что скачет, а бывает, что поет. Песня брала за душу — значит, в сознании пелась, — как-то мучительно пришел к выводу старшина, особо сделав ударение на «сознании». — Нам ничего не остается, как пробираться в том направлении, откуда она звучала.
Вновь призывно мигнул огонь советских орудий. Бойцы сориентировались и с новыми силами возобновили расчистку прохода. Перевалив через последнюю корягу, набрели на укатанную лесную дорогу. Обрадовались. Она как раз вела в нужном направлении.
Беспрепятственно шагали недолго. Путь вновь преградила высокая стена сплошной листвы. Поперек лежали обломки разбитой березы. Поиски обхода в густой, как деготь, темени не дали положительного результата.
Редкие молнии проскакивали над верхушками деревьев. Мелкий дождик неустанно шептался с листвой. Моторный лег и ползком, отгибая пружинистые ветви, втиснулся в дыру, которая напоминала шалаш.
— Здесь кто-то стонет, — подал он голос.
Бойцы кинулись на помощь. Затрещали сучья. Фонаря ни у кого не было. В глубокой колее лесной дороги Моторный наткнулся на сапог. Товарищи плечами подняли упругую ветвь, из-под которой со стоном стал выползать человек. Он отплевывался, кашлял, ругал кого-то.
— Своим ходом выезжает… — сообщил Моторный.
— Стало быть, движитель цел. Может, чужой, встречайте, как бы ни убежал, пока мы держим на себе дерево, — сопел Чапурин,
В хриплом брюзжании пленника березы различались слова:
— Не до бегов… Чуть дуба не дал… Где Троян?
— Вы-то кто такой? — не терпелось старшине Кирьякову.
Тень неизвестного поднялась, закачалась, доложила:
— Товарищ старшина, ваше задание… не выполнено, Угораздило нас под обстрел дальнобойных. Мне до удушья сдавило обломком дерева грудь… Виноват, потерял Трояна, Бойко, фрица… — слова потонули в кашле.
— Ба! Да это Гридин! — воскликнул Самохин. — Не узнать голоса. Не ранен?
— Что толку? И без ранения я был недвижим, безгласен …
— Кто пел в лесу?
— Не знаю. От удара деревом я потерял сознание. Когда приходил в себя, помню, что напрягал всю свою волю, чтоб не умереть. Кривой сук уперся в связку с документами и через них сдавил грудь. Если бы не толща бумаг, были бы проломаны мои кости. Мысленно старался кричать, но голоса своего не слыхал, как во сне… Мне казалось, что я наполовину был вдавлен в землю, но вспомнил, слова Трояна о том, что родная земля оживляет, собрался с силами и вы пришли…
— Вы с Трояном попали в эту беду?
— Н-нет… Не помню… Когда начался обстрел, все пошло кувырком…
С противоположной стороны завала запрыгали пучки света. Послышались голоса, шум моторов. Разведчики насторожились.
— Взорвать препятствие! — услыхали они властный голос-баритон.
— Слушаюсь! — ответил торопливый тенорок.
Старшина Кирьяков крикнул:
— Постойте. Здесь — люди.
— Кто там? Обходи справа, велел баритон.
Сбоку мокрые стволы деревьев осветили несколько ярко-направленных лучей света. Разведчики обошли завал.
Оказалось, что обладателем баритона был тот самый командир, к которому спешили бойцы.
Приняв документы и выслушав доклад, он приказал:
— Отлично. Молодцы. Время не терпит… Раненых оставьте здесь. Лишнее оружие сложите на третью машину, считая первой тягач с гаубицей. Там же получите бутылки с зажигательной смесью, сверните в просеку, направо, и — бегом. Догоните колонну наших бойцов во главе со старшим лейтенантом Неходой. Доложите ему, что вы прибыли в его распоряжение. Ясно? Шагом марш!
Кирьяков повернулся к своим подчиненным. Баритон окликнул:
— Стойте! Скажите старшему лейтенанту, чтоб он не беспокоился о левом фланге. Вражеские танки там встретят гаубицы прямой наводкой.
Разведчики догнали колонну истребителей танков на знакомой местности. Бойцы различных родов войск занимали позиции вдоль дороги, которая вела в село Соколов. В дальней перспективе лесной прогалины перешивали воздух в различных направлениях нити огненных трасс.
Старшина получил участок, примыкавший своим левым флангом к высотке, где накануне им была обнаружена вражеская пушка.
— Вот это новая песня. Как она вам нравится?- вздохнул Самохин.
— Ничего нового. Петая мелодия… — выстукивал старшина Кирьяков на планшетке «Трех танкистов».
Вблизи чернело до двух десятков подбитых танков.
— Чьи это? — спросил старшина старшего лейтенанта.
— Всякие… — уклончиво ответил командир.
— И это понятно…
— Днем все увидите… — продолжал старший лейтенант и подробно разъяснил, как следует метать бутылку, чтоб с первого раза поджечь фашистский танк. В заключение приказал: — Без моего личного разрешения никому не менять свою огневую позицию. Как бы ни складывалась обстановка, где бы ни прорвались вражеские машины, стоять насмерть!
Во время артналета они уклонились от курса.
Когда взрывы снарядов начали перемещаться к речке, связист Бойко, сделав несколько зигзагов, уверял, что взял нужное направление. По натуре и характеру молчаливый, вовсе не бойкий, он заговорил первый:
— Фашистские снаряды кромсают ту узкую полоску местности, по которой движутся на плацдарм свежие подразделения, и обратно — раненые. Всем заважает бандит переправляться через Тню.
— Ночью враг не видит. Для острастки постреливает, — смягчил Троян.
— Видит, зараза… Вон, как по нашей линии лупцует.
— Не может быть. Здесь только один кабель, вдоль которого ты ведешь нас.
— Эге, наче я дурень… Нарочно даю гаку сторонкой, бо на своей шкуре узнал, что фашист всегда точно бьет по телефонным проводам — ток притягивает…
Гридин, придержав стволом оружия пленного, резко остановился.
— Бойко, это еще что за новые глупости на старой суеверной подкладке?
— Наш командир отделения тоже так кричал на меня… Раз, чтоб доказать свою правоту ускакал искать разрыв провода в разгар обстрела и нарвался на осколок снаряда. Зазря убит…
— Что ж, ему просто не вышла линия… — примирительно отозвался Троян.
— Нет, у фрица есть прибор… Ефрейтор с коммутатора рассказывал…
— Хватит! — сухо оборвал Гридин. — Это сказки про белого бычка. Сворачивай, Бойко, к телефонной линия и веди строго вдоль нее.
Наблюдая, как связист неохотно выпрямлял маршрут, он неприязненно думал: «Вот так землячка удружил старшина. Каким тюхой-матюхой был в детстве, таким и остался…» Ему вспомнился черненький, маленький школьник, с кустистыми, сросшимися на переносице бровями, любитель сидеть на задней парте, который почему-то до седьмого класса почти совсем не рос. Медлительный, соображал туго. Несмотря на то, что жил рядом со школой, вечно переступал порог в сопровождении звонка и учителя, задыхаясь на ходу от непрожеванного завтрака. Не в меру крупные зубы, похожие на кукурузные зерна, всегда были залеплены желтой мамалыгой и белой брынзой. «Кругом невдатный хлопец» — говорили о нем. Гридину и на поле боя чудилось, что Бойко путал в темноте и не мог нащупать телефонный кабель потому, что был занят своей привычной жвачкой. Во тьме как бы желтели забитые пищей зубы, и это отвращало.
— Что, Бойко, не так просто увидеть ночью черную ниточку? — переживал Гридин.
— Нет, мы уже давно по ней идем, — наклонился связист и подняв с земли что-то невидимое. Он на ходу чмокал губами, тяжело дышал, нагруженный двумя винтовками, сумкой с телефонным аппаратом и катушкой с проводом.
— А почему же молчишь? — не вытерпел Троян, приблизился к земляку и ощупью убедился, что у того действительно скользил в руке невидимый провод.
— Тише. Сержант учил нас, что разговаривать на линии — смерть — видуща… Слышите? Уже сзади гад бьет по кабелю — делает порывы и вызывает связиста под осколки… — волновался Бойко.
— Все. Лопнуло твое связистское суеверие, — вмешался Гридин, — Мы уже подошли к речке и никто нас не обстреливает.
На берегу связь оказалась подвешенной к высокому суку кустистой вербы. Гридин быстро взобрался по скользкому стволу к толстым сучьям и, упираясь о них ногами, снял с высокой ветви провод, крича:
— Петро, сбрасываю, — лови!.. Заставь гитлеровца вброд по нашей ниточке форсировать Тню. Это охладит его прежний пыл и нам польза — разведает глубину речки.
Троян с не желанием начал выполнять просьбу товарища. Пленный отказывался лезть в воду, упирался.
— Объясни ему, Костя, по-немецки. Зачем зря человека пугать, взвинчивать?
— Какой он человек? Тот, кто принял фашистскую веру, потерял человеческий облик. На стану переводить твои уговаривания. Пусть дрожит в тревожном неведении. Страх хоть немного начнет перевоспитывать. Смелее сталкивай «завоевателя» с берега.
Троян повозился с минуту около пленного и взмолился:
— Не могу, Костя. Слышишь? Он жестами показывает, чтоб его застрелили на земле, а не в воде. Объясни несчастному, что тебе стоит? До этого ты с ним хорошо толковал. Зачем озлоблять чел…
— Петро, — со злостью оборвал Гридин, — не проявляй мягкотелости к врагу. Фашист от этого не станет лучше. Пруссак любит твердый порядок, и, если хочешь знать, — жестокость. Ежели бы мы с первого дня войны сумели бы поставить дело так, чтоб карать смертью каждого фашиста, который вторгся на советскую землю, то мы с тобой не оказались бы под Киевом. Перед лицом неминуемой гибели самый заядлый нацист не пожелал бы идти на восток.
— Ну, уж это противоречило бы нашей идеологии и вообще человеческой морали.
— Все морально оправдано, что делается в интересах защиты Родины и, если хочешь, — в целях избавления человечества от коричневой чумы. Не миндальничай, толкай оружием кичливого арийца в зад. Пусть поймет в этой холодной купели, куда завела его фашистская вера.
— Я не умею.… Иди сам…
Гридин крикнул по-немецки:
— Эй, ты «завоеватель»! Стыдно дрожать — тренировался форсировать Днепр, а испугался какой-то Тни. Ну-ка, живо проверь глубину речки.
Гитлеровец безропотно взялся за телефонный провод и осторожно начал спускаться с берега.
— Смотрите, потомок тевтона готов выполнить любую команду, — торжествовал Гридин.
Бойко удерживал кабель у комля вербы, безучастно слушая острую перепалку. Гридину не понравилось, что земляк отмалчивался и не высказал своего отношения к фашисту.
Когда незадачливого первопроходца начало сносить течением и вода доходила до шеи, бойко из-за своей неповоротливости отпустил провод. Тот среагировал истошным криком отчаяния.
Гридин — сухо, чеканя немецкие фразы:
— Не ори благим матом – никто тебя не режет и не топит. Для выражения своих ощущений пользуйся человеческим языком, а не животным…
Фашист стучал зубами, как в лихорадке:
— Не издевайтесь… Застрелите…
— Успеется, — выразил Гридин интонацией всю ненависть к врагу. — Держись провода и – марш на противоположный берег! и сам кинулся в воду.
Гитлеровец выполнил команду.
Разведчики бросились вплавь — место оказалось глубоким.
Пленный последним, на карачках выбрался на илистый мыс. И сразу запрыгал то на левой, то на правой ноге, выбивая зубами дробь, как на морозе.
— Ай-ай-ай! — журил Гридин. — Який же в тебе лицарь?.. И то — в ночь после Ивана Купала… Да, в такое время каждый наш сельский парубок готов достать самого черта из воды. А ты? Пойми, твоим бесноватым согражданам никогда не удастся одолеть здешних соколов-парней.
— Переведи ему, Костя: паршиве порося І в Петрівку мерзне, — добавил Троян.
— Да, да… — дисциплинированно соглашался фашист, лихорадочно дрожа. В отблесках молний и недалеких взрывов снарядов у него было лицо мертвеца, и вся фигура, как скелет.
— Ну, вот, доходит. Начинает перевоспитываться, — тоном подбодрил Гридин пленного и зашагал по лугу.
Телефонный кабель вывел разведчиков к опушке леса, где навстречу вышли двое красноармейцев с катушками за плечами.
— Что? Идти напрямую лесом?..
— Ни в коем разе, — с жаром предупреждал щупленький связист. — Через сваленные деревья напрямик вы не пролезете. Но самое страшное — фашист время от времени сильно обстреливает. Накроет огнем и — капец. Лучше обойти полем, справа.
— А мы хотим вдоль линии связи, — вставил Гридин.
— Нельзя. Она пересекает опасные, очень густые заросли, прежде чем выйти на хорошую просеку, которая прямо выведет к штабу…
— Сойдем с линии… — осторожно стал предлагать Бойко. — Сделаем маленький крючок, зато безопасно.
— Нет, двинем прямо, — возразил Гридин.
— С пленным таскаться через чащи… — начал не соглашаться Троян.
— Какие там чащи? — заупрямился Гридин и, идя наперекор трусливому Бойко и колеблющемуся Трояну, распалился:
— Я сам сбегаю, осмотрю, а вы здесь играйте дрожака…
Те не успели ртов открыть, как Гридин скрылся за стволами деревьев. Тут же послышался отдаленный, зловещий гул орудий.
— Бойко, верни его! — изо всей силы крикнул Троян.
— Как бы эта линия не вышла нам боком, — буркнул телефонист, лениво поднял с земли провод и удалился вдоль него к лесу.
Красноармейцы-связисты кинулись на юг. Один из них бросил назад:
— Здесь, на проводе, не оставайтесь. Отбегите вправо метров триста, в рожь.
Действительно, снаряды рвались преимущественно в районе линии связи. Раздумывать долго было некогда. И Троян, под влиянием навязчивых слов связистов, вслух предположил:
— Да, должно, нет нам здесь линии. Лес видит, а поле слышит. Кто родился в чистом поле, тому не охота умирать в темном лесе, — тронул рукой пленного за локоть и зашагал вместе с ним в сторону массива хлебов.
Сзади полосовали небо огненные трассы, лихорадили ослепительными вспышками, приближались взрывы снарядов. Впереди черная пустота ночи. Они согнулись и побежали. Мокрые, туго налитые колосья ощутимо хлестали по лицу, рукам. Массив как морем, шумел тихим дождем. Троян путался, падал, поднимался и, не отдавая себе ясного отчета о конечной цели, продолжал убегать все дальше от леса. При этом то и дело подталкивал выбившегося из сил пленного. Тот был без оружия, совсем налегке, но от страха и усталости, казалось, испускал последний дух.
Троян напрягал силы, чтоб отбежать, как можно дальше от обстрела. И тут некоторые снаряды начали опережать — рвались впереди. В воздухе засвистели и звучно упали на мягкую, влажную почву увесистые осколки. В голове — фантастические предположения: артиллерийская вилка? Враги отбивают пленного? И возражение: враг не мог видеть конвоя, это случайные, шальные снаряды. Боец решил не кланяться им и продолжать уходить вглубь хлебов.
Гитлеровец поминутно кувыркался в высокой ржи, будто его кто-то хватал сзади за ноги. Он связывал бойца по рукам и ногам. Невольно приходилось не раз возвращаться, поднимать его и толкать вперед.
«Собственно, куда я спешу? — спросил себя Троян. — Нечего показывать этому фашистскому выродку свою выносливость и неустрашимость. Надо остановиться».
Он вернулся к лежавшему пластом фашисту. Послушал — невнятный хрип, бормотание. Чувствовались нотки мольбы, просьб. Боец помог ему встать, показал в хлебном массиве темный куст, похожий на шиповник, и приказал:
— Вон твой ориентир. Доберись туда и там дрыхни.
Троян решил остаться в стороне от фашистского офицера чтоб дышать свежим воздухом — чужой запах преследовал его и претил.
Гитлеровец встал, закачался, сделал шаг вперед. Вдруг над их головами пронеслось сухое шуршание в сочетании с мокрым бульканьем. Возле куста выросли столбы рваного огня. Одновременно — оглушительный треск, причем, сзади и спереди. Тихую рожь чем-то закрутило и положило на землю. Из-за мрачной фигуры фашиста вырвался еще один сноп искр. И так рвануло, будто кто-то решительно разорвал на нем очень плотный офицерский мундир. Трояна опрокинул тяжелый, липкий удар в голову, грудь.
«Вот тебе и именинник…» — мелькнуло в его помутневшем сознании. В голове шевельнулось требование Гридина: воля, несгибаемая воля и ты устоишь. Голос матери: «Терпение и все пройдет…» И в уголках мозга — успокоение: «Все-таки, тебе повезло — ты перетянул через день своего рождения. Сегодня уже 13 июля. Чертовая дюжина? Прочь, — это предрассудок. Во всяком случае, могло быть хуже…”
В его смутном воображении замелькали картины первой страницы книги жизни.
Отходит. А мужья затрубили: смертный час наступил…
Трусы и паникеры. У них не хватает терпения ни на что в жизни, — безнадежно махнула, рукою Петина, мама, укрывая, сына, одеялом.
— Мой после рождения ребенка бодрится, петушится. Старается, чтоб сын, когда повзрослеет, не поверил слухам о позорном поведении отца. Но вот на днях во время обеда у него галушка застряла в горле, когда услыхал слова: «Папа ты говорил мне, что надо быть мужественным, что трусишку ждет плохой конец. А одноглазый пастух Федька обещал школьникам показать в нашем селе настоящего большого труса, который, хотя и стрелял в себя, но живет, как боров». Я уберегла благоверного и от неприятного разговора с сыном и от перспективы попасть на операционный стол — дубасила кулаками по его горбу до тех пор, пока не выбила обратно в рот злополучную галушку. Нет, ваш, храбрее моего…
— Скажите — упрямее. На своей шее чувствую его бычье упрямство. Ох, горе мое тяжкое! Только и свету в окошке, что сын, — и она нежно коснулась ладонью головки ребенка. Со вздохом облегчения расправила плечи: — Спасибо богу, прошел жар.
До сознания маленького Пети с трудом доходил смысл разговора. Слова слышались, будто где-то вдали, хотя мать и фельдшерица — знахарка сидели рядом, в головах.
Мальчик в течение трех суток метался в жару от воспаления уха. Фельдшер Робак, уходя от больного, беспомощно развел руками. Но его жена — совершенно неграмотная, и все-таки слывшая на селе «фельдшерицей» — горячо взялась за лечение своими средствами. Не отходила от ребенка сутки. И не без пользы. Согревательные компрессы из лекарственных трав в сочетании с другими мерами помогли. Температура малыша нормализовалась. Болезненные подергивания в голове прекратились.
Властная и сильная в своей семье «фельдшерица”, в обществе односельчанок обычно страдала одной слабостью — стоило только похвалить ее за умелое лечение, как она могла часами рассыпаться о малоизвестных случаях в жизни, не умалчивая и о личных острых коллизиях.
Петя лежал на печи. Под влиянием тепла снизу, согревающей повязки на голове он, боясь шевельнуться, чтоб не возобновились боли, впал в полузабытье.
Из разговора матери с «фельдшерицей» в его воображении возникали любопытные картины.
Вот он видит окопы, проволочные заграждения противника на всхолмленной местности, вблизи города Черновцы. Из вишневого сада, что на западной окраине села Топоровцы, в сумерках осеннего вечера ползут к вражескому переднему краю разведчики-добровольцы во главе с фельдфебелем Василием Чапаевым. Во время дерзкой вылазки особо отличился рядовок Николай Гридин. Он приволок в Окопы русских «языка» — офицера с картами, документами. На передовой было удивительно тихо. Вдруг на фланге, там, где русские окопы пересекали свекловичное поле, грянул одиночный выстрел. Затем разразилась беспорядочная пальба. Послышались истошные крики. Когда Гридин бежал в расположение своей роты, он в пути наткнулся на двоих земляков. Сред свекловичной ботвы лежал, распластавшись, рядовой Робак, а рядом причитал и плакал рядовой Михаил Троян, пытаясь распечатать индивидуальный перевязочный пакет и оказать помощь товарищу. От самого вида крови он потерял самообладание.
— Прекратите истерику, слюнтяи! — накинулся Гридин. При свете ракеты, увидев на земле, возле ноги Робака, винтовку с насаженным на штык свекловичным корнем, и веревку, соединившую носок сапога со спусковым крючком оружия, он все понял. — Гады ползучие! Трусы! Котелок варит не только по-свински начаться, но и, на хитрость. Спасаете свои паршивые шкуры. Додумались объегорить ближнего… Мол, пусть дураки умирают за веру, царя и отечество, мы же, умники, отделаемся ранениями и — домой… А дудки! Вот я вас!.. Как бешеных собак…- щелкнул он затвором карабина.
Те стали ползать у ног строптивого односельчанина:
— Коля! Кумом будешь… Спаси грешные души… Век не забудем. Не выдавай. Ты сам разъяснял нам, что царизм ведет несправедливую войну, что она не нужна нам… Мы и хотели как-то выйти из этой кровопролитной бойни.
— Брешете, сучьи выродки! Вы хотели, чтоб я и другие остались в окопах вшей кормить, а сами норовили укатить отсюда ранеными героями. Не прикидывайтесь простачками. Вам ясно говорилось, что мы, равно как и солдаты кайзера, должны организованно повернуть оружие против своих угнетателей, кровопийцев… Ишь ты! На крутом повороте попытались улизнуть в кусты. Не выйдет!..
— Существо членовредительства — налицо. «Медик” Робак пустил себе пулю в левую руку из винтовки, дернув ногой за спусковой крючок при помощи веревки, предварительно насадив на штык свеклу, которая должна была предотвратить ожег руки. Все вышло По-задуманному, за исключением одного — свекла не поглотила огонь выстрела, кисть левой руки изуродовала не только большая кровоточащая рана, но и травма от сильного ожога. Это так ошеломило незадачливого соучастника Трояна, что тот наотрез отказался повторить «эксперимент” на себе.
После возни и препирательств — Гридин махнул рукой:
— Черт с вами! Тупицы, бараны безмозглые… Я вас не видел. Перевязывайтесь и расхлебывайте кашу сами! — и ушел к ряду придорожных орехов, где окопалась его рота.
На второй день началось расследование членовредительства. И в России началась революция. Это спасло самострела и соучастника — они были на грани полевого трибунала.
Земляки вернулись домой. Робак вильнул в сторону от революционных бурь. Гридин, наоборот, неистовствовал в центре событий. Троян, по мере сил, помогал горячему, экспансивному односельчанину. Однажды они заманили белогвардейский отряд в глубокий яр, под пули партизан. Затем Гридин носился в кавалерийских атаках под предводительством комбрига Котовского на степных просторах Таврии, среди редколесья, по лугам и полям Волыни… Гнал белополяков за Буг. Из рейда под Варшаву не вернулся.
…В селе ходили легенды о волевом и мужественном солдате революции. Многие хотели быть похожими на него. И слабохарактерный Михаил Троян пытался подражать своему бывшему однополчанину и соседу. Но у него получалось однобоко — карикатурно.
Самочувствие маленького Петруся, лежавшего на печи, постепенно улучшалось. Из беседы матери с «фельдшерицей» он невольно узнал примечательные подробности своего рождения.
Когда вернулся с войны мой муж Михайло, мы одинокие молодожены, получили надел земли далеко — аж под Кучеровым лесом. От села более 7 километров. В то трудное лето я была в положении, на последнем месяце. Но с этим муж не считался. Проявлял по отношению ко мне «мужество», вернее — упрямство. Чем я могла ответить? Известно — терпением. Мы, как одержимые, взялись поднимать домашнее хозяйство. На мне — и хата, и корова, и поросята, и куры, и приусадебный участок… Он же считал все это мелочами, знал только лошадей и поле. Во мне видел подсобного батрака. В дни полевых работ я, как правило, выезжала из дому с мужем — сеять, сапать кукурузу, прорывать сорняки на пашне…
Муж, обрадованный тем, что вернулся, цел с войны, что впервые получил в свое владение землю, по-сумашедшему заходился богатеть. Ему и в голову не приходило пожалеть молодую жену, предложить ей, беременной первым ребенком, заняться каким-то легким, хатным делом. Нет, что и говорить!
Мы до света отправлялись в поле, где спины не разгибали до темна. Работали от зари до зари. Под бледным сиянием месяца и звезд доила корову. Ночью, при каганце – керосина, лампы не было — варила борщ, пекла, хлеб, паляницы… Мужу и невдомек помочь мне. Я и не смела, заикаться просить его о чем-то. Старорежимные порядки и взгляды в семьях очень живучи, у некоторых людей они укоренились навечно.
Помню, как сейчас, дело было — на Петра. Мне стало плохо. И в хате — пусто, ни куска хлеба. Я несмело обмолвилась мужу: мол, и есть нечего надо что-то испечь, и неможется, и праздник… Он и дослушать не хотел.
— Некогда лениться, — грубо прервал. — Позычь у соседей краюху хлеба и гайда в поле, бо печени голуби не летять до губи, святой Петро за тебя не станет работать. Пшеница только вчера созрела, некогда праздновать, зерно начнет осыпаться. Скорей — нечего дарма гаяты часу.
Упрям — если что заберет в голову, дубиной не выбьешь.
И мы вышли в тот памятный для меня день начинать жнива.
Первые удары косою. Хорошо уродила яровая. Меня охватил трудовой порыв. С утра прохладно, работа спорилась. Затем начало припекать солнце, наступала жара. Еле успевала за своим ненасытным, неугомонным косарем. Подбирать скошенное еще кое-как могла, но уминать коленями сноп, туго охватывать его перевяслом, завязывать узел — выше моих сил. Муж не любил рыхлых снопов. Подавай ему плотные, как дерево, тяжелые, как свинец. Проверял, если палец свободно просовывается под перевясло — плохо, заставлял перевязать заново.
Я знала, что рядом работали такие односельчанки, которых хлебом не корми, дай им только повод, кого-нибудь осудить. Они спали и во сне испытывали удовольствие от распространения среди языкатых кумушек вестей о какой-нибудь ледащей молодой жене. Одну такую черноротую я заметила с утра. Она недобрым оком косила в мою сторону. Будто даже слышалось, как она что-то выкрикивала о моем отставании. Мне было не до нее, и я не отвечала. Разве до чужого рота приставишь ворота?
Была думка просить мужа помедленнее косить, но тут, же отогнала ее. Поняла, что щербатого горшка не поправить. Так и шла за покосом. Не сладко было. Соленый пот заливал очи. Босые пятки моего косаря, с закатанными до колен штанинами, и блестящее на солнце лезвие косы, все удалялись и удалялись от меня. Благодарение богу, мужу вздумалось остановиться наточить косу. Он угрюмо, неприязненно покосился на солнце, которое все-таки обгоняло его, завзятого труженика. Затем стал быстро водить бруском по лезвию. Неприятный скрежет отдавался в моем сердце, но я готова была терпеть бесконечно, лишь бы не возобновлялась косовица. За коротенький перерыв успела подобрать почти все валки – свела на-нет отставание. Едкий пот слепил очи. В постоянно согнутом состоянии от прилива крови, разболелась голова. А о пояснице и говорить нечего — ломило страшно. Я не могла себе позволить распрямиться, взглянуть на небо. Перед моими глазами мелькали только валки, стерня, снопы.
Когда сгребала исколотыми пальцами последний пучок пшеницы с колючей стерни, мечтала: завяжу этот сноп и сяду на него, отдохну. А, может, успею сбегать назад, к проселку, где закопана в землю банка с водою — от жажды во рту пересохло. Но не тут-то было. Муж опять начал взмахивать косой и дергающими движениями зашагал вперед. Больше того, когда перед косою показался сизый от росы полосатый арбуз, он сердито отшвырнул его ногою в сторону, в ботву, унизанную яркими цветениями и молоденькими, ядреными завязями, беспощадно изрезал в клочья; мне со злом бросил через плечо: «Сколько наказывал не разводить баштан в пшенице — он снижает урожайность зерна. Не послушала, куриная голова». ”Это, наверно, падалышный”, — оправдывалась я. А на самом деле, я завсегда тайком разбрасывала весной по посеву арбузные зернышки, из которых, как раз к косовице вырастали и поспевали арбузы. Разве плохо, когда идешь рядком, наткнуться как бы случайно на спелый, будто жар, прохладный арбуз? Как приятно утолить жажду! Но моего упрямого, черствого мужа страшно раздражало все то, что отвлекало его от главного. «Только лодыри во время работа прохлаждаются всякими лакомствами”, — говаривал он.
Вдруг из-под косы с шумом и жалобным писком выпорхнула какая-то птичка. Я от испуга так и повалилась на жесткую щетину скошенных при корне стеблей, и при этом не выпустила из рук оберемок пшеницы.
— Размахался до беспамятства своей косой, — упрекнула я мужа, — чуть птичку не срезал и меня испугал.
— Что ж, по-твоему, мне выискивать в пшенице всех степных птенцов, тварей и предупреждать, чтоб они вовремя уходили? А хоть и заметил, неужели стану окашивать? Лес рубят, щепки летят.
И, как дурману объелся, продолжал махать своей косищей.
Я поднялась и шагнула к тому месту, откуда вылетела бедная пташка. Тут же вынуждена невольно присесть: в боку сильно закололо. Ударил холодный пот. Знала, что лишнее усилие мне даром не минется и все же потянулась вперед. В листьях низкорослой паутинки заметила маленькое гнездышко, из которого выглядывали и тонко попискивали крохотные пташенятки с голыми шейками. Желторотики торчали почти на уровне густой, как щетина, и низкой стерни. «Выскребает аж при корне, чтоб больше соломы было. Еще немножко и срезал бы головенки новорожденным беспомощным существам. И все из-за жадности», — мысленно осуждала мужа.
У меня начались схватки. Упала. Муж посмотрел на меня так, что молоко скисло бы. Выражение его лица как бы говорило: «Не вовремя начинаешь свои бабские дела. В самый раз только хлеб косить… Неужели не могла потерпеть до-окончания жнив? Теперь возись с тобою”.
— «Не возражаю. Говорят, и на солнце есть пятна.
Был полдень. Солнце светило почти отвесно. Тень стояла самая короткая. Негде спрятаться от жары. Муж все-таки отвлекся от косьбы. Сложил напротив солнца копну, и моя голова оказалась, в маленькой тени.
Меня бросало и в жар, и в холод, и в дрожь. В глазах потемнело. Кто-то дал пить. Зубы мои, как в ознобе, стучали о края глиняной банки, из которой лилась в пересохший рот, на горячую — грудь освежающая влага. Хорошо, что муж с утра закопал в землю банку со свежей ключевой водой. Как она оживила меня! Открыла глаза и увидала обеспокоенные лица соседок-односельчанок. Спасибо, они то и помогли мне во всем…
Рядом, в холодочке, требовательно закричал детский голосочек. Новорожденный. Сын. Мне стало хорошо, покойно, будто святые хату перелетели.
Высоко, в ясно — голубом небе радостно заливался звонкой песней невидимый жаворонок — может быть, счастливая мать тех детей, которые случайно уцелели под слепой косой смерти мужа. Трели степной птички звучали как приветствие новорожденному и мне. Где-то совсем, рядом четко забил перепел. Он словно начал отсчет первых минут жизни моего сына. Со стороны леса, чуть заметно дохнул ветерок, который принес смешанный терпко горьковатый запах дуба, — скошенных васильков, сурепки. В ласковом, колеблющемся воздухе прожужжала пчела, обдав лицо ароматом теплого меда. Неугомонно весело трещали кузнечики. Грациозно пролетали перламутрово—голубые стрекозы. На руку села нарядная бабочка.
В полуденном знойной степи царила бурная, стозвучная жизнь. Какая-то женщина подала мне красную и сочную скибку арбуза. Я припала губами. Дышалось легко. Жара будто отступила.
Так у нас появился первенец Петро.
Довольное кряхтение мужа свидетельствовало о том, что он был удовлетворен исходом беспокойного происшествия на ниве. Видно, его расшевелили женщины, которые без умолку тараторили о том, что родился хороший наследник.
Все, казалось, шло и до ладу и до прикладу.
Через короткое время в той же степи случилось несчастье. Ох, душа разрывается, как вспоминаю…
У нас так складывалась жизнь, что маленький Петя чуть ли ни с первого дня рождения не домоседничал, а неотлучно находился со мною, на работе. Бывало, накормлю его, уложу в холодочке, а сама за сапу и давай догонять мужа своим рядком. Третий раз мы тогда сапали кукурузу. Стебли ее выросли высокими, почти в рост человека. Только кое-где меж ними тянулись к солнцу тощие сорняки. Обработка поля имела целью вспушить землю и последний раз очистить ее от мелкого бурьяна. Так обычно готовилась почва для посева озимой пшеницы. Работа не очень трудная.
Все же, пока я прошла своим рядком в конец нивы, пока возвратилась назад, минуло немало времени. Взглянула на небо — солнце поднялось высоко. На горизонте вырастало маленькое облачко. Сердце охватила какая-то неизъяснимая тревога. И не зря.
Меня так и подмывало все бросить к побежать к сыну. Так и сделала. Как прибежала, так схватилась за голову. Своим глазам не верю. В отчаянии всплеснула руками и бросилась через высокие стебли кукурузы к Пете, как та пташка из-под косы, он свалился со своей постельки, упал на землю лицом вниз и уже не плакал, а только слабо, судорожно подергивался. Чуть дышал. Заплаканное личико все грязно. В ротике — полно черной земли. Ручки посинели… Ребенок находился на грани жизни и смерти.
Что произошло? Должно быть, сразу, как только я усыпила малыша и ушла сапать, его укусила какая-то мушка или муравей, или он проснулся по какой-то другой причине. Как бы то ни было, начал ворочаться, плакать и как-то скатился — с подушки и ткнулся личиком в землю.
Я застала, его тогда, когда он слабо всхлипывал. Это отдавалось режущей болью в моем сердце. Задержись со своим рядком еще на несколько минут, и сын задохнулся бы. Недаром в моей груди ныло — как предчувствовала. А еще говорят, что человек не может предчувствовать беду.
Еле устояла на ногах. Потянулась к воде, облила ею и откачала сына. Он постепенно отходил и так жалостно, как бы осуждающе, взглянул на меня, что я, а вслед за мною и он — обое громко разревелись.
Как сели тогда полудновать с мужем, кусок хлеба становился поперек горла. Долго после этого не могла осушить глаза, все плакала.
Так и тянули две лямки. Работа в поле, хлопоты дома… Забот полон рот и везде с малышом. Билась, как рыба об лед.
После паузы еле слышно зажурчали новые откровения «фельдшерицы”.
— И все-таки, ваша доля Лучше моей. У вас и дочери подрастают — полная семья. Петя зазнал горя и впереди его ждет счастье. Не зря говорят: полный колос гнется до земли, а пустой вверх торчит. Что из того, что мой Яшенька родился в белоснежной палате районной больницы? Растет он одиночкой, баловнем. Первый неслух на селе. Я даже завидую вдове Гридиной. Та родила Костю на водяной мельнице, пеленала его мешковиной, белой от пшеничной муки. Воздух мельницы был пропитан ароматом поля, мукою ядреного зерна нового урожая. Говорят, ребенок сразу бодро чхнул от мучной пыли. Роженица пряталась тогда за мельничными колесами от бандитов, которые грозились отомстить за Николая, соратника Котовского. Потом, через короткое время, она получила похоронную на мужа. Каково ей, вдове? А смотрите, какой сын растет. Правда, уж слишком самостоятелен бывает. Во всех мальчишеских проделках он первый. Плохого ничего не скажу, но, по-моему, рано в нем проявляется грань деда и прадеда. (Грань – обл. горячие угли, жар.) Сказывают, те не только воевали против турок-янычар, но прежде спалили усадьбу своего помещика и убежали в южные степи Украины. Вскоре объявились здесь, на Ягорлыке. Так что они из беглых казаков. — Она понизила голос.
— Скажу вам по секрету: ваш Петя то и дело заглядывает в рот Косте, хочет быть похожим на него. Об этом мне мой Яшенька рассказывал. Будьте осторожны. Многие на селе считают, что вдовин сын часто позволяет себе лишнее, что он не по годам развит. Совсем не то, что мальчик моего соседа Бойко. Годы идут, а тот и не растет, и с трудом слова произносит. О нем толкуют кругом невдатный, ні з носу вітру, ні с губи мови … Кто знает, что хуже, а что лучше… Горе та й годи. Моя бабка свое твердит: из горя и счастья куется доля.
— «Выходит, мой муж давно заглядывает в рот Робаку. Несамостоятелен, плохо,- подумала Петина мама. – Все же наверно, хорошо, что сын не повторяет отца”.
— Потерпим — увидим, — вздохнула она. — Каждой матери хочется, чтоб ее сын был не хуже людских детей.
— «Да. Значит, самые трудные, критические моменты в моей жизни уже позади, — соображал Петя, боясь на печи шевельнуть головой. А ухо — что? Пустяк. Можно обойтись и без него. Могло быть хуже. Кстати, я уже не чувствую, есть ли у меня ухо — перестало болеть». Чтоб проверить свое самочувствие, мальчик повернулся набок.
— Проснулся. И не стонет. Слава святому угоднику. Идет на поправку услыхал Петя голос матери.
Истекала неделя пребывания разведчиков в обороне.
Ночью прошел дождь. Под ногами чавкала желтая глинистая жижа. После каждого выстрела, взрыва, от стенок отваливались комья земли и с шуршанием и бульканьем падали на дно.
Обмундирование, обувь — мокрые, хоть выжимай. Холодно. Утренний туман прятался в низине. Из-за серо-белых туч выглянуло яркое солнце. Бойцы подставляли под горячие лучи свои влажные спины — сушились. С выцветших, пропитанных потом, а местами и кровью, заскорузлых гимнастерок струился пар.
Чапурин увлекся просушкой. Вылез из окопа, растянулся на бруствере, снял с забинтованной головы пилотку и, меняя положение тела, поворачивал к солнцу поочередно то-правый,
то левый бок.
— Федот, опусти ниже свою марлевую голову, накличешь беду со стороны фрица, — предупреждал Самохин. — Да и перегревать мыслительный аппарат не стоит. Он лучше работает, когда холодный.
Пользуясь затишьем, траншея оживилась.
— Тоже мне курортник выискался. Смотри, как бы не получил солнечный или еще какой-нибудь другой удар… — вбивал Моторный обухом топора ряд березовых кольев на дне траншеи — делал приступок, чтоб не мокнуть по колено в воде.
— Молчи, Фофан, в землю вкопан,- огрызнулся боец.
— Чапурин, вынь-ка из вещмешка комсоставскую гимнастерку. Что светишь телешом? Придет старшина, задаст тебе, — усердствовал Самохин.
— А ну, тебя, — сердито ковырнул Чапурин землю лопатой с бруствера. Затем опомнился и вновь стал насыпать перед собою запретный бугорок — не знал, что через пять минут он ему не потребуется. — Не вожусь я с тряпьем…
— Не ври. Ты и на фашистские танки кидался с бутылками в руках, не расставаясь со своей торбой на горбу…
— Хитрюга, Федот. Набитый ветошью сидор выставлял противнику, как ложную мишень, — вставил Левадный.
— Верно, хлопцы, могу подтвердить то, что видел, — воодушевился Самохин поддержкой товарища. — Когда у вас закончились бутылки с зажигательной смесью, а фашистские танки все наступали, Чапурин достал из своего загашника резервную — умудрился же Плюшкин и в смертельной обстановке спрятать ценность! — броском на жалюзи поджег фашистскую крейсерскую машину и — драпака через поляну, к нам. За ним — группа штабных писарей, посыльных. Гитлеровские экипажи, наверное, подумали, что истребители танков меняют позицию и давай разворачиваться обратно, на ходу ведя по ним огонь. Тут нашему Федоту и попало… Вижу, что-то как жахнет по его горбу… Кругом разлетелся ворох тряпья, а ему хоть бы хны. Знай, продолжает газовать на третьей скорости…
— Что вспоминать? Пропала новенькая шерстяная гимнастерочка, ни разу не надеванная, и еще кое-что… сожалел Чапурин.
— Не жалей. Будь доволен — своим плюшкинским скарбом ты не за дорогую цену выменял у фрица жизнь, — тоном изречения истины произнес Самохин. Считая, что пауза возникла для осмысливания сказанного, он критически посмотрел в прицел своего ДТ. — Чапурин — травленый охотник, знает, как обманывать зверя.
— На вашу сторону я перебежал и по другой причине — торопился спасти Мотылькова и Бабака. Сгорели бы растяпы, если бы опоздал.
— Да, воспламенились дураки от своих же бутылок.
— Бабак — дурак от большого ума. Хотел стеной пламени оградить себя от вражеского танка, — кряхтел Моторный, вырывая из почвы разветвленный корень.
— Мотыльков, наоборот, рвался первым зажечь танковый факел и убежать от броневой лавины героем, — уточнил сосед, помогая лопатой вывернуть цепкий корень.
— Одного поля ягоды. Теперь, небось, в медсанбате прохлаждаются, тянут канитель – пренебрежительно, со злом бросил Самохин.
Продолжительное молчание нарушил с болью в голосе Моторный:
— Кого страшно жалко, так это нашего именинника Трояна. Что с ним? Где он? Разрешили бы нам вылазку в Яремов лес, — и он срезал лопатой острый угол окопной стенки, глина которой заблестела янтарным лаком.
— Там фрицы кишмя кишат. Боюсь, что мы тогда слышали трагический конец его песни, — повернул Самохин голову набок, как бы заранее ожидая возражений.
— Я надеюсь на терпение и выносливость Петра… — издали прозвучал голос Гридина, которому явно недоставало обычной твердости, уверенности.
Моторный встал ногами на скрипучий приступок и, рассматривая предполье, растягивал слова:
— Кто его знает?.. Бойко отыскался… Троян пофартовее. Он из тех, кто из вареного яйца цыпленка высидит.
За изгибом траншеи послышался шум голосов, плеск воды.
— Что там за галдеж? Чапурин, тебе сверху виднее, вмешайся, — насторожился Самохин, поднимаясь на носки.
— Пехота… С «максимом”, ящиками, катушками…
В траншее показался сержант в каске, вымазанный глиной, с трофейным автоматом на груди. Не глядя на разведчиков, прощупывал быстрыми глазами окопные ниши, маскировку брустверов:
— Кто здесь главный? Собирайсь!.. Старшина Кирьяков с майором ждут вас на НП. Ослобоняй жилплощадь…
Он резкими движениями вырвал с желтого холмика и выбросил в сторону сухие маскировочные ветви и разровнял его лопатой.
— Клятвин, тащи сюда пулемет. Остальное — сам знаешь… — бросил сержант через плечо, продолжая хозяйничать в траншее.
— Вы, ребята, потише – фашист рядом… — недовольствовал Чапурин, ощупывая свои мокрые портянки, развешенные на березовых прутьях. — А то расшумелись, как в свой дом ворвались.
— Знамо… — по-хозяйски рассуждал сержант. — В родной дом пришли. Это вы, разведчики, — интеллигенция, любите все потише, да крадучись. Клятвин! — крикнул он и, заметно окая, приказал: — Чтоб через три минуты был мне огонек вон по тем каскам, что шастают за стеной хмеля. Видать, фрицы еще до сих пор хмельные после ночной кровавой бани, которую им задал Метлин. В утренних солнечных лучах не могут сориентироваться, куда занесли ноги… Отрезви их навечно. Довольно бандитам поганить наш украинский хмель. Он нам еще пригодится варить пиво в честь нашей победы.
— Слушаюсь! — бойко ответил пулеметчик и подчеркнуто вежливо обратился к Чапурину: Местечко… Площадочку уступай, дорогуша.
— Осторожней и аккуратней. С такого пива, как бы ни было дива.
— Будет. Сейчас увидите.
Чапурин неторопливо собирал невесть откуда появившиеся у него какие-то сумки, коробки, тряпки, противогаз и про себя бубнил:
— Ладно… Пехтура (пехота) действует поемши, а у меня с утра маковой росинки во рту не бывало…
— Давай, братцы, быстрее собирайся, да ходу отсюда, пока не поздно, — торопил Самохин. — Этот бригадир спозаранку начинает разворачиваться, как в своей огородной бригаде.
Не успели разведчики уйти, как в траншее закипела новая жизнь.
Тон задал «максим» со стороны. Свежей, блестевшей утренним глянцем рощи эхо стало отражать короткие очереди, гулкие залпы винтовочных выстрелов. На плантации хмеля что-то загорелось. В дыму кишел муравейник вражеских солдат. В лесу ударили орудия. Из-за ряда жердей, увитых гирляндами листьев хмеля, выскочили перепуганные лошади, запряженные в высокую, груженную чем-то повозку. Они неудержимо мчались на левый фланг обороны.
— Ну, вот, с утра пораньше и добровольная сдача в плен. Стрелкачи (стрелки) неплохо начинают свои дела, — сразу изменил свое мнение Чапурин о прибывшей смене. — А кто-то говорил, что не будет дива…
— Были б у нас колеса, мы не такого чосу задали бы, — вздохнул Моторный.
На опушке леса встретил разведчиков старшина Кирьяков — чисто выбритый, со свежей марлевой повязкой на левой руке, и неизменно улыбающимися глазами и чуть припухшими от бессонных ночей веками.
Послышалось знакомое выстукивание пальцами о планшетку «Марша танкистов”:
— Друзья, мы вновь становимся разведчиками. Нам предстоит дневной отдых, а ночью — боевое задание. Сейчас встретимся с командиром, майором Родиным. Затем — мытье, завтрак…
— Не лучше ли начать с последнего? — вопросом предложил Чапурин, и сразу, встретив выразительный взгляд старшины, сник.
Разведчики взобрались по скользкой лесной дороге на возвышенность. В кустах увидели несколько замаскированных машин. Над зарослями орешника вился легкий, по-домашнему вкусный дымок. Пахло гречневой кашей и чем-то жареным. В тени высокого раскидистого дуба белела армейская палатка, у широко открытого входа стоял часовой.
Навстречу разведчикам вышел майор-танкист, невысокого роста, плотный, подвижный, маленькая щеточка усов придавала ему сходство с молодым Ворошиловым. Выслушал рапорт Кирьякова, поздоровался и велел посадить бойцов на траве, около палатки.
— Прежде всего, — начал «Ворошилов», его умные, черные глаза внимательно стали прощупывать лица каждого разведчика, словно узнавая своих знакомых, — еще раз благодарю вас за отличные действия во время контрудара по врагу в районе Житомирского шоссе…
Его мужественное лицо приняло строгое выражение, брови сошлись к переносице, глаза как-то с прискорбием сощурились:
— Очень жаль, что в этих боях мы потеряли немало наших лучших танкистов… Старший лейтенант… Политрук… Среди без вести пропавших значится разведчик красноармеец Троян… Майор тряхнул головой, и его лицо преобразилось — стало глубоко заинтересованным: — Каково ваше мнение о боях за выход к шоссе?
Несколько секунд длилось молчание. Все лесные звуки утонули в грохоте артиллерийской канонады.
— Красноармеец Самохин. Разрешите сказать, товарищ майор?
— Говорите, — взглядом поощрил он бойца, как человека, мысли которого важны и ценны для командования.
— Мы плохо информированы о событиях на других участках фронта. Московские известия доходят до нас от случая к случаю… С учетом этого пробела у меня сложилось следующее мнение… У гитлеровцев много техники, снарядов. Но их можно бить. Эх, если бы у нас были танки. Мы сейчас действовали бы совсем не так, как в первый день войны…
— … А самолеты… — добавил кто-то.
— Самолеты не так важно. Бывает нелетная погода, ночь… На танках же мы гвоздили бы врага и ночью, и в любую погоду… — перехватил нить разговора Чапурин.
— Фашисты нахальны. Уверовали в свою безнаказанность. Вслед за прорывом к шоссе надо было бы их повсеместно истреблять. Каждый уцелевший бандит заказал бы десятому, — высказался Гридин.
— Фрицы самоуверенно прут, потому что их много…
— Фашист — суеверный. Не переносит лица красноармейца. Как увидит его близко, со штыком, убегает…
— Без техники он слабак…
— Раньше мы смутно представляли себе войну. Теперь пелена спала с глаз…
Непринужденная беседа продолжалась минут сорок.
Майор взглянул на часы:
— Правильно. Врага можно и нужно бить… И это следует делать с большим умением, искусством, чем мы делали до сих пор… Гитлеровская армия довольно сильна. Она рвется к Киеву. Наш контрудар задержал на время фашистское наступление. Гитлеровское командование часть сил повернет на север, против нас, чтоб уничтожить руку, которая заносит ему кинжал в бок… Наша поспешно занятая оборона оказалась стойкой. И дожди помогли. Вражеская техника засела в болотистых местах… Следовательно, мы с вами выполняем очень важные задачи, хотя и действуем не в полную меру своих сил, без танков…
Майор замолчал, после чего с особой выразительностью заключил:
— Эти бои являются вестниками будущих наших побед. Вы сейчас отогреетесь, отдохнете, а вечером отправитесь выполнять новую боевую задачу. Желаю удачи.
Воздух потряс залп артиллерийской батареи. Он прозвучал, как символ будущих успехов и побед, о которых говорил командир.
Лицо майора выражало твердую волю, надежду, силу. Он простился за руку с каждым бойцом, направился к полуторке и тут же уехал.
В сознании разведчиков возросло понимание важности выполняемых задач.
После умывания они сели за столик, сбитый из грубо струганных сосновых досок, под тенью кряжистого дуба.
Бойцы с приятным удивлением убеждались в существовании не в воображении, а наяву различных кушаний в мисках, тарелках, а питье в стаканах, а от увиденного на поварском подносе у них глаза разбежались. Мать честная, как в ресторане, из двух блюд и всякое такое-эдакое!.. — воскликнул Чапурин, демонстративно разоружаясь — снял сумку с гранатами, противогаз и вместе с винтовкой положил у ствола дерева, — и, вооружаясь вилкой, ножом.
Они впервые в дни войны ели в спокойной обстановке, не торопясь, за столом.
Моторный выразительно поднял вверх белый кусок хлеба, намазанного маслом:
— Хлопцы, это же по танковой норме!.. Чует мое сердце, что мы приближаемся к рычагам…
— Мой желудок чувствует то же самое … — еле повернул языком во рту Чапурин.
И еще один сюрприз: повар поднес разведчикам по стакану вина, цвета рубина.
— Осилите? – остановился он возле Чапурина.
— Да, ты, парень, в своем ли уме? – возмутился боец нелепостью вопроса.
– Только кретин откажется от такого причастия.
— Как так? Это в армии запрещается… Спиртное… — вырвалось у Гридина.
Старшина игриво подмигнул:
— Троян недавно откровенничал предо мною при вашем молчаливом одобрении, что, мол, солнечный напиток не относится к забулдыжным спиртным, что однажды, Первого мая… Я те дам…
Белобородов ахнул:
— Братцы! Оказывается, на свете есть и сладкий чай, и белый хлеб, и стаканы, и даже вино… Никогда в жизни не пивал красненького. По случаю такого неожиданного открытия, разрешите причаститься…
Чапурин пригубил стакан:
— Церковное – для младенцев и беззубых баб, нам бы градусов на девяносто!..
— Не охаивай в глазах северного человека дар южной природы. Ответил бы тебе на это Петро. Где он сейчас?.. — задумался на минутку Гридин.
Кирьяков со своеобразной вкрадчивой улыбкой взял в руки стакан, осмотрел его содержимое напротив солнца и изменил выражение лица так, будто собирался отдать приказ:
— За кровавую тризну над врагом!(Выпьем за мужество в боях всех наших людей!)
Бойцы ответили возгласами одобрения.
После завтрака — отдых. Сон так сковал разведчиков, что они проспали обед и с трудом встали к ужину, что совпадало со временем выхода на задание.
Утром в природе забурлила жизнь.
Всюду слышались различные голоса птиц: беззаботное посвистывание, щебетание во ржи; веселые, звонкие напевы в кустах, в синеющей дали леса; тонкие, переливчатые трели в ясно-голубом небе…
Будоражил послегрозовой воздух — прохладный, бодрый, богатый озоном.
В ярких лучах утреннего солнца спокойно и величаво катили волны светло-золотые хлеба. Местами на их пути чернели рваные углубления в земле — следы взрывов снарядов, мин – точь-в-точь раны на живом теле. Но они, казалось, не влияли на привычный ритм живого волнения обильно-урожайного хлебного массива.
Возле скопления нескольких воронок лежали двое.
Один — в грязно-зеленом обмундировании — уродливо скрутился в обнимку с кустом поваленного чертополоха. На землистом, бескровном лице, искаженном судорогой страха, кишели муравьи. Открытый оловянный глаз забрызган грязью. Рядом валялся в засохшей крови лоскут мундира и погон со знаками различия обер-лейтенанта гитлеровской армии.
Второй лежал лицом вниз. Правая рука сжимала винтовку. В пальцах левой — пучок золотистых колосьев. В позе было что-то трогательно-символичное. Широко раскинутыми руками он как бы старался обнять, защитить от опасности землю, хлеба, все созданное человеком. Правая половина лица вдавилась в мягкий влажный грунт. Из-под широкого чистого лба выглядывал светло-голубой цветок «василька». В том месте, где губы и нос касались чернозема, еле заметно поднимался сизо-прозрачный, пар.
Это был красноармеец Троян.
В его просыпавшемся сознании сверкали кровавые зарницы. На фоне сырого мрака блуждали какие-то тени, землю и небо неистово кромсали громоподобные взрывы. В мозгу возникали какие-то образы; они проносились, сталкивались, взрывались, уничтожали друг друга. Голова гудела и будто раскалывалась на части. В ней мелькнуло тревожное опасение: «Лишь бы не попасть в таком беспомощном состоянии во вражеские лапы… Надо все вытерпеть… Только, что слышался голос матери, которая славила господа за то, что я иду на поправку. Хотя бы…”
Судорожно дернулось налито болью тело. И тут же мозг осветила мысль: «Переживаю, чувствую, думаю. Значит, живу…» И голова, светлея, закружилась — нет, не от физических травм, а от осознаваемого счастья, что судьба опять начинает улыбаться.
Он шевельнул онемевшими членами. В ушах — болезненный звон. Резкие боли в правой ноге и левой руке. С огромным усилием повернулся на спину. Сначала открылся один глаз. На блестящем радужном райке заиграл жизнью светло-голубой зрачок. Затем оба глаза расширились навстречу теплым лучам утреннего солнца. Во рту ощущалось что-то постороннее, лишнее, на зубах скрипел песок. Пошевелил шершавым языком, стал отплевываться. Вдохнул оздоровляющий запах влажной земли, свежей зелени, цветов.
«Выходит, самые резкие зигзаги в моей жизни, начиная от рождения, судьба устраивает на хлебном поле. Второй раз во рту очутилась плодородная почва, будто я непосредственно питаюсь земными соками. Четвертый раз выживаю на богатырской груди земли матери. Очевидно, в ней мое тело черпает жизненные силы».
Он слегка жмурился — ослепила бесконечная глубина небесной лазури, на которой не было ни единого облачка. Над головой склонились и, как живые, закачались, больше, туго набитые колоски ржи. На концах тонких усиков висели крупные капли росы, искрившиеся в лучах дневного светила. Меня поднимает солнце — источник жизни на земле, — прикусил он нижнюю губу. – Следовательно, замолчи, глупая боль… Надо жить!..
До слуха долетела орудийная стрельба. Качнулась земля. Где-то недалеко оглушительно взорвал утреннюю тишину тяжелый снаряд. Эхо отразилось в долине нескончаемыми отголосками и, удаляясь, покатилось вдоль речки. В ушах оно продолжало долго-долго звучать.
Превозмогая боль, Троян взвелся на здоровом локте и увидел рядом окоченевший труп гитлеровца. «Тупой возмутитель красоты солнечного утра, осквернитель нашей природы, наверное, в последнюю минуту жизни каялся, осуждал себя за то, что ринулся на восток с разбоем. Что ж, сеял смерть, от своего же снаряда и погиб. Теперь кайся не кайся…” — думал боец.
Яркий июльский день разгорался. Он будил в сердце воина чувство оптимизма, стремление к жизнедеятельности. Троян отвернулся от трупа, стараясь словами юмора скрасить свои тяжелые дела:
— Хто вмер, той каеться, хто живий, той чваниться.
Осмотрел свою больную ногу. Выше колена, сквозь разорванные шаровары, чернела запекшаяся кровь. Зажав в зубах подол гимнастерки, здоровой рукой оторвал от нее узкие полосы и кое-как замотал ими рану. Таким же способом перевязал кисть левой руки. Голова и плечо, чем-то сильно ушибленные, тупо ныли. Повреждения костей не ощущалось. От потери крови и контузии чувствовалась во всем организме слабость. Тело леденело от мокрого обмундирования и сырой земли. Начался лихорадочный озноб. Троян подтянул себя к склону на почве, образованное взрывом снаряда, расположился на нем так, чтоб больше воспринимать солнечных лучей.
На юге активизировалась ружейно-пулеметная стрельба. Он вслушивался и мрачнел — пальба заглушала пение птиц, стрекотание кузнечиков и приближалась. «Попасть в лапы фашистов? Никогда!” — мысленно отрезал себе боец. Взял в здоровую руку винтовку и сориентировался уползать в сторону, противоположную огневому бою. Собрался с силами, попробовал сдвинуться с места. От жутких болей в глазах потемнело. Застонал, даже вскрикнул чуть слышно. В дальних уголках мозга успокаивало: «Ничего страшного… Раз болит, значит, живое… Могло быть хуже…»
Самоиспытания показали, что локоть правой руки и колено левой ноги являются надежными и почти безболезненными двигательными рычагами. На них и сосредоточил нагрузку. Осторожно отталкиваясь от мягкой почвы, медленно стал отползать скопление воронок. Выходя на свое направление, уткнулся носом в труп фашиста. Задумался. Недалекие автоматные очереди подстегнули работу мысли. «А что если гитлеровцы обгонят меня? Тогда я окажусь в окружении… Может, для перехода линии Фронта мне потребуется замаскироваться, чтоб не выделяться, как белая ворона. В таком случае не лишним будет прихватить…» — и он снял с гитлеровского офицера мундир, разыскал в грязи фуражку, погон с лоскутом ткани, все это стянул ремнем и пристегнул к ложе винтовки. Все эти движения сопровождались невыносимыми болями. Наконец, страшное место осталось позади — он со стонами, сопением ужом вгрызался в хлебный массив.
Обмундирование, и без того мокрое и грязное, от соприкосновения с обильной росой и влажной землей стало неприятно скользким, грубым, тяжелым. Оно сковывало движение, не грело. Хотелось снять гимнастерку, просушить ее, согреть на солнце ушибленные места, раны. Но в ушах неумолчно стоял ненавистный, подстегивающий треск вражеского оружия.
В голове стучало: «Чем дальше уползаешь от стрельбы, тем вероятнее, что окажешься в безопасности”. И он с нечеловеческими усилиями упорно и настойчиво устремлялся подальше от зловещих выстрелов.
Благодатные солнечные лучи грели правый бок, а, казалось, что больше нуждался в тепле левый, который все сильнее мерз и нестерпимо болел. Троян остановился, на время подставив солнцу больные места. Тепло облегчало. Создавалось впечатление, что если позволить себе принять длительную солнечную ванну, то можно было бы совсем ожить, окрепнуть. Вскоре от разогретого мокрого обмундирования стали исходить и неприятно кислые испарения. К ним прибавился препротивный чужой дух, как бы подкрепляемый недалекими автоматными очередями. Он торопливо тронулся вперед, а «дух» — за ним. Потом догадался, что чужое зловоние распространялось от мундира, привязанного к ложе.
Так, боец, борясь с противоречивыми желаниями, страхом, мало-помалу уходил все дальше в хлебное море.
Временами чудилось, что сзади кто-то подкрадывался. Останавливался, настороженно поднимая голову. Кругом — не души. Только в районе речки скользили какие-то тени, белели дымки выстрелов, разрывов снарядов. Ложился. Возобновляя движение, одновременно стремился более чутко прислушиваться. Оказалось, что сзади собственные ноги шевелили стебли ржи да привязанный к винтовке узелок подпрыгивал, чем и создавалась ложная иллюзия приближения кого-то.
Время текло вяло, тягуче медленно. Солнце, хотя и щедро грело, но казалось, долго не могло оторваться от земли.
Трояна стали беспокоить новые подозрения. Слышалось, будто рядом кто-то вздыхал. И он весь превратился вслух. Стоило немалых усилий приподняться и — насколько глаз хватал, плавно волновалось колосистое море. Оно от порывов ветра шелестело, что напоминало приглушенные вздохи.
Метр за метром невероятно тяжелого пути, отмеченного в рыхлом грунте отпечатками локтя и колена, уплывали назад. Густые стебли буйных хлебов представлялись обессиленному человеку непроходимым лесом. Он настолько ослаб, что от намерения раздвинуть тонкие ржаные соломинки, чтоб протиснуть между ними свое непослушное и непомерно тяжелое тело, в воображении рисовалась стена из толстых деревьев.
Солнце поднялось над степью, начало припекать. Становилось жарко. От обмундирования парило. Оно стало жестким, как высушенная кожа-сырец, и издавало отвратительный запах, который никак не гармонировал с ароматами трав и цветов, спелых хлебов, подсыхавшей земли и другими послегрозовыми испарениями. Соленый пот жег раны.
Трояна разморило от зноя. И он соблазнился: решил, будь, что будет отдохнуть. Заодно хотелось высушить одежду. Для этого лег навзничь — это стоило огромного труда, — раскинул в стороны руки и ноги, подставив солнечным лучам те части тела, которые во время переползания соприкасались с росистой растительностью, мокрой землей. Только сделал глубокий вздох облегчения, как услыхал шевеление ржи — будто кто-то приближался к голове. Встрепенулся. Схватился за винтовку. Вдруг около правого уха что-то упало на мягкую землю. «Конец…» — пал духом боец и приблизил к своему горлу штык. Тут же раздался гулкий звук, похожий на удар палкой о подушку. Рожь зашелестела, что-то часто и мягко залопотало по земле, удаляясь. Несомненно, кто-то пустился наутек. Он перевернул свое больное тело снова на живот и подполз в направлении странного шума. Сквозь густые ржаные стебли заметил на земле серый шарик, который слабо ворочался, дрожал. Присмотрелся и впервые улыбнулся: «Стало быть, есть еще на свете такое существо, которое боится и меня, беспомощного, — вспомнил рассказ политрука Зорина и приободрился. — Выходит, не так уж я слаб. Ладно, не стану сгонять с насиженного теплого гнездышка пугливого зайчонка. Жаль, что мать к нему не подошла, струсила, заметив меня, и дала стрекача. Наверняка, намеревалась покормить дитя. Теперь возникает проблема: вернется ли она к крошке? Ведь, у них, зайцев, особые порядки: зайчиха кормит не свое дите, а какое ей попадется на пути. Вот так незадача!.. Наверное, перетрусившая мать подумала, что у гнезда малыша спряталась засада и не решится вернуться. Не завидую детям, матери которых вечно находятся в бегах. Единственное, чем можно помочь голодному зайчонку, это быстрее отползти от него. Возможно, другая кормилица набредет на заячью колыбельку…
В заключение своего мысленного монолога Троян обрел себя: «И смех, и грех: пугливого зайца испугался. Приготовился умереть… Вот так храбрый воин! Надо серьезно учиться у Кости, воспитывать у себя волю. А ну-ка, тряпка, сожмись пружиной!» — приказал он себе.
Троян пожалел заячье дите и двинулся дальше сторонкой, озираясь на пугливо трепетавший серый комочек. Его удивляло очень ненадежное укрытие малыша.
Изнемогая от жары, голода, жажды, Троян двигался все дальше и дальше. Ружейно-пулеметная стрельба сзади и слева не утихала, а будто час-от-часу приближалась. «Что-то похоже на прочесывание местности… Каждый метр не прощупают… Нельзя поддаваться унынию… » — думал, решал он. Сжал зубы, напрягся. Голова стала невыносимо тяжелой, закружилась. «Где почерпнуть силы, чтоб не упасть в обморок?» стучало в висках.
Как-то случайно во рту оказался шершавый хлебный колосок. Напряг усилия выплюнуть — не смог. Заершенный злак скользил под язык и — далее, норовил попасть в горло. Что за наказание? Не хватало подавиться хлебом. В самом деле, внешняя форма колоска такова, что он может двигаться по слизистым оболочкам только в одном направлении. Тревога!
И тут же на выручку пришла новая мысль… Ухватился за нее, как утопающий за спасательный круг. Сразу же стал осуществлять внезапно возникшую идею: достал пальцами здоровой руки изо рта колосок, растеребил его на ладони, сдул полову и увидел чистые янтарные хлебные зерна. Высыпал обратно в рот. Пожевал. Неожиданный дар природы оказался мягким, ароматным и необыкновенно вкусным. «О, найден источник силы… Жить можно!» — несказанно обрадовался боец активно занялся «обмолотом» хлеба. Утолив голод, полз дальше с думой о воде. Впереди мерещились арбузы. Может, мать Петра Сокола тоже разбросала весной на пашне арбузные семена…
Настроение омрачал свист пуль над головой, тревожные шумы, крики. К счастью, наступили сумерки, которые быстро погасли, уступив темной южной ночи. Но, оказалось, и под звездным небом покоя не было. Слева и справа, почти кругом, ввысь впивались бледные ракеты, разноцветные огненные строчки. То там, то сям захлебывались нервной трескотней автоматы, пулеметы. А охробревшие сверчки, кузнечики отвечали им неумолимым стрекотанием. Троян настойчиво уползал в сырую ночь. Наступил такой момент, когда казалось, что силы совсем иссякли. Дальнейшие шевеления конечностями сопровождались страшными болями. Все тело ныло, саднило, Мучила жажда. Наконец, он в изнеможении растянулся на влажном травянистом ковре. В покое члены стали деревенеть, неметь и он уснул.
Троян не сознавал, что очутился на твердой почве, покрытой густым низкорослым подорожником.
— Внимание! Вижу… типичного фашиста.
Разведчики кинулись на землю и сразу отползли в кюветы. Залегли с оружием наизготовку, всматриваясь в неясные очертания придорожных насаждений.
— Ничего не вижу. Ну и ночка… Вам не померещилось?
— Никак нет, товарищ старшина. Вон, стоит под тополем, в каске, автомат направлен поперек дороги.
— Этот «фашист» еще более опрометчив, чем мы с вами… — почему-то с интонацией юмора сожалел старшина Кирьяков.
В душе он начинал раскаиваться, что прислушался к доводам Левадного и Гридина и согласился завернуть на огонек в деревню. Они успешно выполнили задание майора Родина: достигли ночью Житомирского шоссе, с ходу уничтожили большую машину с гитлеровцами, захватили оружие, документы, отсиделись днем в массиве ржи и с наступлением сумерек взяли курс к своим. В пути у Левадного возникла идея посетить родное село. Свет в трех километрах левее маршрута соблазнил и Гридина.
Если не найдем там Трояна, то хотя бы попросим земляков Левадного поискать нашего боевого товарища в районе Яремового леса… — обосновывал он свое мнение.
— Добро. Только не спать, а действовать энергично, я те дам… — согласился старшина.
И теперь доклад Левадного о замеченном подозрительном субъекте у дороги подтвердил опасения Кирьякова.
— Да… Безграмотен враг в военном деле… — с усмешкой продолжал старшина Кирьяков. — Выставился на фоне светлого массива, в то время как через дорогу — картофельное поле, которое в безлунную ночь, — чернее сажи. Второе, хотя «он» и в своем тылу, но какой смысл ночью так беспечно преграждать путь автоматом? Не вернее ли было бы просматривать дорожное полотно из какого-то секрета?
— Это вовсе не вражеский автоматчик, а какое-то привидение, — вставил Чапурин,
— Мало ясности. Как проверить?
— Бросить в «него» камнем…
— Я свисну, — вызвался Левадный.
На провокационные проделки разведчиков «автоматчик» не реагировал.
Наконец, подошли к нему и убедились, что-то был обыкновенный куст шиповника. Действительно, ночью все непонятное кажется фантастическим.
Пошли дальше. Дорога приближалась к селу. Посланный впереди Левадного Чапурин поднял вверх руку:
— Т-ш-ш… На окраине села что-то похоже на засаду. У меня верный глаз.
Справа, на обочине проселка слабо матово отсвечивали две солдатские каски. Напротив, возле укрытия, согнулась фигура вражеского офицера. Высокая тулья головного убора выделялась над придорожным кустом. Гитлеровца выдавал еле приметный блеск козырька фуражки и плохо замаскированный огонек фонарика. Чудилось, будто офицер склонился над картой и что-то высвечивал — свет слегка дрожал. За его спиной, на фоне звездного неба, обрисовывались контуры танка с короткой пушкой.
— Ни дать ни взять — засада, — шептал Кирьяков. — Каково ваше мнение, товарищ Гридин?
— Игра нашего уставшего воображения. Надо скорее идти, а то с появлением месяца будет труднее… — торопливо ответил боец.
— Все же, товарищ Левадный, сбегайте и проверьте, что там, на подступах к вашему селу, — приказал старшина.
Разведчик скрылся в темноте. Через десять минут все увидели знак:
Путь свободен.
Бойцы подошли к Левадному. «Касками» оказались камни-валуны, «свет фонарика», «отблески» — не что иное, как светящиеся червячки возле старого трухлявого пня; «офицер» — куст бузины.
— В это время должно быть всякому ясно, что по ночам сверкают гнилушки, жучки фосфорическим светом, который у нас называют мышиным огнем, — упрекал неизвестно кого Гридин.
— … Или — Ивановыми червячками, которые остались после ночи Ивана Купала, — добавил Левадный.
— Да, вторая бессонная ночь дает себя знать… Люди насмотрелись в темени до чертиков в глазах», — думал Кирьяков и — вслух:
— Изучение всех этих ночных видений помогает нам тренировать зрение, слух, наблюдательность. Конечно, возбужденное и перенапряженное воображение может рисовать и небылицы. Разведчик должен научиться отличать кажущееся от реального. Светлячки — не страшно. Вон, смотрите, чтоб не обжечься об тот светляк, — Кирьяков показал на отсветы какого-то огня за окраинными крышами деревенских хат.
Перед входом в село, бойцы остановились у «танка”, то есть, возле арбы, высоко нагруженной сеном. Сверху поклажи лежало толстое бревно, затянутое веревками, которое выглядело, как пушка.
— От того, что «танк” превратился в крестьянскую телегу, мои опасения не рассеялись, — значительно высказался Кирьяков. — Думаю, что это не обычное колхозное сено.
— Верно,- поддержал Левадный. — Нашим колхозникам сейчас не до заготовок кормов. В селе орудуют другие «заготовители».
Взошел месяц. Тусклое сияние разогнало мглу. Через дорогу легли отчетливые тени от ближайшей хаты, ясеней, изгороди. Вдоль улицы контрастно высвечивали месячным блеском пирамида тополей, кусты сирени.
Видимость в окружности улучшилась. Стало так светло, что Гридин мог рассматривать в руках мельчайшие остинки на выдернутом из арбы колоске овса. Лепестки сплющенной головки василька казались живыми. В свежем, призрачном воздухе веяло запахами степи и близкого жилья. Слух ловил ночные шорохи, шепоты. Ночь стояла сказочная.
— Братцы, внимание! — возбужденно, с придыханием сообщил Чапурин. — Мой нос уловил ароматы жареной курицы.
Многие с шумом втягивали носами в себя воздух, перепроверяя остроту чапуринского обоняния.
— Справди, пахнет курятиной, — подтвердил Левадный. — Одно только неясно: мои земляки в такое время кур не жарят.
— Не иначе, как фрицы пируют в селе. Это их лакомство.
— А наше дело – укорот дать басурманам, — вскинул Чапурин автомат.
— Точно, — согласился Левадный. — У нас обычно баловали куриной лапкой гостей в большие праздники. А так, наш брат предпочитает свинину во всех видах. А фрицы, слыхал, гоняются за куркой, как оглашенные.
— Следовательно, полагаете, что здесь фашист пленен украинской курицей? — значительно спросил Кирьяков. — Что ж, нам не помешает «язык». С чего начнем?
— Разрешите, я выясню обстановку в крайней хате? — вызвался Лавандный.
— А к себе домой боитесь вести?
— Что я дурной, чтоб боялся? Моя хибара в центре, возле крамницы.
— Добро. Пойдемте со мною. Самохин и Гридин, следуйте за нами в двадцати метрах. Когда мы войдем во двор, вы караульте окна хаты, прячась за тыном. Остальным не терять нас из виду, опираясь на «танк” — арбу.
В месячных лучах интригующе белели стены крестьянского жилища, обрамленные тенью соломенной стрехи. Загадочно темнели окна, двери. Бойцы двинулись, не спуская с них глаз.
Кирьяков остановился в тени дерева. Месяц светил из-за высокого ясеня. Под влиянием лунного сияния воздух казался кисейно — материальным, а затемненный палисадник — залитым чернилами. В окружности все наслаждалось дремотой.
Разведчики неслышно скользили через пепельно-серую полосу дороги. Замерли под тыном. Во дворе что-то тяжело вздыхало, стонало. Раздавались звуки, похожие на жвачку. Легкий ветерок дохнул кисловатым запахом хлеба. На углу роскошные подсолнухи одобрительно кивали головами.
— Корова… — наклонился Левадный к уху старшины, сгорбился и чуть ли не на четвереньках двинулся к калитке. Раздался неуместный скрип. В тени сарая затрепыхались куры. Разведчик притаился за кустом любистка.
— Парень у себя дома, а крадется, как тать… — шептал Самохин.
На фоне темного прямоугольника дверей выросла еще более темная фигура бойца. Слышалось легкое покачивание клямки. Мягко отлипла дверь, и в проеме выросла женская фигура в клетчатом платке. Левадный дал знак рукой. Рядом с ним появился старшина.
Левадный начал разговор на родном языке со своей односельчанкой. Та заикалась от восторга, удивления:
— Никогда не думала, что у дядька Опанаса вырос такой ладный парубок… Твоих сейчас нет дома — спрятались, боятся, что хрицы будут пытаты за сына — червоноармийця… Здесь допоздна гавкали бандиты — не могли найти двух здоровых мужиков для отправки из села подвод с овсом и сеном. Выручил местный немец — колонист Тряпке — со своим сыном угнал с полчаса тому назад фуражный обоз. Одна арба с сеном осталась. Ихняя команда из десяти человек сейчас пьянствует в доме этого своего единокровного собрата. Вечером все ловили кур по селу. И у меня поймали пять хохлаток и собаку пристрелили… — женщина тяжела вздохнула: — Вас заметила в темноте. Узнала, что наши возвращаются. Мы дни и ночи выглядываем на дорогу, ждем… Хлеба, зреют, мы не знаем, что с ними делать, — если вернется Красная Армия, то надо их сберечь, а если задержатся, то будем уничтожать, чтоб врагу не досталось. Селяны спрашивают: когда же покажутся червоноармейцы на машинах? Уходя, обещали скоро приехать. Иные поговаривают: что их «скоро» похоже на еврейский «зараз» — есть тут у нас такой портной… Почему вы пешком и крадучись?..
Короткие расспросы убедили старшину, что в селе нет никаких следов Трояна. В заключение он тоном старого знакомого — доверительно:
— Не переживайте, землячка, приедем на машинах, только не сегодня. Расскажите, как незаметно подойти к дому немца-колониста?
— Сейчас я вас проведу… — она скрылась за дверью и через минуту появилась, одетая во всем темном.
Разведчики вышли с женщиной к арбе с сеном, а оттуда, задворками направились к Тряпке. В селе кое-где с тревожным лаем просыпались собаки, словно что-то бдительно охраняли. Перекликались и затихали.
Бойцы остановились под тенью высоких лип.
— Вон виднеется красная черепичная крыша. Это и есть осиное гнездо, — показала женщина.
— Мне здесь все знакомо, не знал только этой кружной стежки… — как бы оправдывался Левадный.
— Интересно… — медленно тянул Кирьяков. — Где тот светляк, который виднелся с поля? Все утонуло во мраке.
— А жареным крепко потягивает, — чмокнул губами Чапурин.
— Не уехали ли они?.. — сомневался кто-то.
— Нет. Поснули от пьянки и галдежа, — уверяла женщина. — Тряпкины девчата убежали, бог знает куда… Мне позвольте вернуться?
— Да, да, вы свое дело сделали, спасибо. Запомните наш уговор: ищите следы советского бойца, а о нас никому ни слова.
— Что вы? Боже упаси. Хай вам щастыть… На все добре, — простилась женщина и неслышно скрылась за толстыми стволами деревьев.
Разведчики до боли в глазах рассматривали добротный каменный дом, над крышей которого, в созвездии Рыб краснел кровавым глазом Марс. Свежело. По спине пробегали морозные волны. Кто-то старался бодриться.
— Не все. Светляк потух. «Завоеватели» дрыхнут…
— Не все, — осторожно перебил Кирьяков — Вон, между фронтоном погреба и левым углом дома темнеет силуэт, похожий на «автоматчика” у дороги.
— Этот живой, — добавил Левадный. — Блеснули каска, оружие… Внимание, зверь издалека чует опасность.
Они выждали несколько напряженных минут. Смутно видимая тень солдата двинулась к светлому углу дома. Лунный отблеск подтвердил догадку.
— Теперь все ясно… — развивал план действий Кирьяков.
— Время терять не будем. Я с Левадным, Гридиным и Самохиным через сад двинемся к дому. Остальные в тени переулка достигнут ворот. Мы снимем часового. Вторая группа под нашим прикрытием заберется в дом и оттуда вытащит «языка», чином покрупнее того, что стоит на часах.
Разведчики приступили к делу.
В острый момент произошло непредвиденное.
В тот миг, когда Самохин вскочил на спину часового, невесть откуда выбежала овчарке, которая с рычанием начала рвать бойца.
— У-у! Потайная фашистская тварь… — кинулся Левадный на нее. Она ускользнула от бойца. Старшина потребовал от Чапурина уничтожить овчарку. Левадный помог Самохину освободиться от объятий вражеского часового. Кирьяков и Гридин ударили из автоматов по гитлеровцам, которые выскакивали из дома через тыльное окно. И тотчас же монотонное стрекотание сверчков сменилось тревожным повсеместным лаем деревенских собак.
Чапурин прибежал к крыльцу и, к удивлению товарищей, затеял игру в прятки с овчаркой. Та с лаем бросалась то в одну сторону, то в другую. И Чапурин, как маятник, бегал перед ней.
— Тю, дуралей… — выругался Левадный. — Не танцуй перед геббельсом, а бей… — и выстрелом из винтовки заткнул глотку горластой. Затем он прыгнул на крыльцо, дернул за ручку двери — на запоре. Ударами приклада успел выбить только одну доску. Изнутри дома брызнули в лицо Левадному пули и осколки дверной древесины. Разведчик схватился за грудь и повалился на землю.
Белобородов кинулся к товарищу. Перевернул его на спину. Припал ухом к груди. Щеку словно ужалила теплая, липкая кровь, которая пропиталась сквозь гимнастерку. Дыхание со зловещим клокотанием затихло. В остекленелых глазах отражались мертвенно-бледные отблески стрельбы.
Чапурин втащил на крыльцо огромный камень с выдолбленной срединой, — своеобразное корыто, в которое наливалась вода для домашней птицы, — и вместе с Моторным раскачали его до того, что затем одним ударом протаранили дверь. Оба ввалились в сени. Следом — разведчики. Несколько гулких выстрелов и огонь из окон прекратился.
Один автомат и две винтовки огрызались из огорода и сада.
Легко раненый в плечо Белобородов и Чапурин зашли через соседнюю усадьбу в тыл фашистам. Это и предопределило исход боя в пользу советских бойцов.
Стрельба стихла. Только во всем селе распространялся разноголосый собачий концерт.
Дом оказался заваленным жаренными и сырыми, недавно ощипанными курами, утками, гусями, индюшками.
— Товарищ старшина, разрешите взять с собой немного еды? — обратился с просьбой Чапурин.
— Не за этим добром мы пришли… Живого ”гуся” не взяли, боевого товарища потеряли,- необычно мрачным тоном отозвался Кирьяков. — Ищите документы, карты…
Чапурин с несвойственной ему разворотливостью шарил во всех уголках. На печке наткнулся на что-то мягкое, дрожащее. Навострил ухо, шмыгнул носом и радостно вскрикнул. Остро — направленный луч трофейного фонарика подтвердил данные слуха и обоняния. И — возглас:
— Товарищ старшина, разрешите также прихватить с собою живого гитлеровского офицера!
Бойцы встрепенулись. На стенах запрыгали световые зайчики. Затем они соединились в одной точке, в которой испуганно моргала глазами сонная физиономия. Фашист дрожал, пытаясь невнятным пьяным бормотанием возражать. Его голова и мундир облеплены перьем. На пол скатилась фуражка с высокой тульей. Из-за спины гитлеровца вынырнуло широко улыбавшееся лицо Чапурина. В одной руке он держал офицерский кожаный планшет с картами, документами, другой бесцеремонно толкал в бок свою живую находку.
— Удача, — нахлобучил Кирьянов фуражку на белую от пуха голову офицера, — Этого «гуся» надо доставить в штаб в полной форме. Переведете ему, Гридин, что если он захватит с собой побольше документов, оружия, то это ему зачтется.
Разведчик выполнил приказание.
— Товарищ старшина, разрешите вздрючить на горб бандита кое-что из продовольствия? Пусть несет… — осторожно попросил Чапурин.
— Немножко… — безразлично согласился Кирьяков.
На востоке загоралась заря. Ночь уходила. Время торопило.
Разведчики забрали павшего Левадного и быстро скрылись за липовой аллеей. Лес был далеко. Решили тело товарища похоронить в хлебах. Моторный, Гридин и Чапурин вырыли штыками могилу — нишу под заросшей разнотравьем межой. Завернутого в плащ палатку Левадного опустили под густое сплетение корней, как в склеп и сбоку засыпали землей.
Не довелось тебе побывать в родном доме… Пусть твоя родная земля будет тебе, наш боевой друг и товарищ, легким пухом, — скорбно произнес старшина Кирьяков.
Бойцы, понурив головы, застыли в минутном молчании над свежей могилой, отдали честь, последний долг, и ушли.
Предутренний ветерок обдувал разгоряченные лица, шелестел хлебами. Разведчики спешили в сумерках пройти светлое поле. Они уклонялись все больше влево, — подальше от темного лесного массива, вдоль которого проходила хорошо наезженная полевая дорога. Моторному почудился где-то вблизи треск мотоциклов.
— Не отвлекаться, а быстрее шагать, чтоб достичь рощи, от которой путь к нашим мы хорошо знаем, — требовал Кирьяков.
Серело. И лица бойцов были серы от усталости и перенапряжения. Кирьяков велел перейти на бег.
Рощи все не было видать. Полю с его волнистыми хлебами не было конца. Учащенное дыхание бойцов выражало и торопливость и волнение. Моторный и Чапурин отставали.
— Механики — водители задыхаются. Перейти на форсированный шаг, — разрешил Кирьяков и оглянулся назад: — Пусть теперь ищут ветра в поле.
Оказалась, что в поле был ни один ветер.
Впереди, в хлебком море, стал вырастать зеленый островок. Но это не была долгожданная роща. Все же было решено, не миновать одинокий оазис на однообразной местности. Быстро приближались круглые, шарообразные деревья, которые сразу почему-то вызвали подозрение.
Разведчики остановились. Старшина Кирьяков снял трофейный автомат. В тот же миг над степью прозвучал громкий выстрел. Все интуитивно залегли. Кто-то грузно свалился с болезненным вскриком и храпом.
Он проснулся на жесткой травянистой постели
Потянулся в болезненной истоме и сразу раны дали о себе знать — вскрикнул от нестерпимых болей. Сон — полу обморок улетучился. Тело пронизывал до костей холод от сырой земли. Повернулся набок, и будто стало теплее — согревал бесчисленными огнями звездный небесный полог.
Мучило неведение. Под изможденным, болезненным телом не стало мягкой, пушистой пашни. Ее сменила невысокая мокрая травка, которая каким-то чудом росла на твердой, словно каменной почве. Вытянул вперед здоровую руку — пусто, нет соломенного «леса». Всмотрелся перед собой: в призрачном месячном сиянии темнели кусты незнакомой растительности. Двинулся к ней и вскрикнул от болей. Приходилось то и дело останавливаться, слушать, отдыхать.
Острое обоняние уловило знакомые с детства запахи: горьковатый — полыни; луковый, приторно-резкий — конопли; вкусно — пряный — укропа… Па пути движения уткнулся головой в высокий росистый куст. Сорвал мягкие листочки, размял между пальцами — в нос ударил резкий запах кумарина. Понятно — буркун или донник. Еще несколько отталкивающих движений конечностями и голова оказалась в тени роскошных лопухов, а рука обожглась о ветви крапивы.
”Все это признаки близости человеческого жилья, — определил Троян. — Но почему такая могильная тишина? Интересно, что здесь произошло? Все живое вымерло или угнано?”
Сквозь постоянный гул в голове смутно улавливались какие-то шорохи, что-то похожее на таинственный шепот. На фоне тихого ночного бреда выделялись лай собак, пение петуха. «Не пойму: признаки села — перед глазами, а звуки еле слышны, как будто за тридевять земель. Одно из двух: или я потерял слух, или то, что ощущаю, обоняю, существует только в моем воображении», — недоумевал он.
За стеной крапивы что-то упало. Кто-то швырнул камнем? Троян замер, насторожился. Ждал терпеливо, долго. И дождался. Где-то вверху послышался тихий шелест листьев и тут же — падение чего-то веского. Боец не вытерпел, любопытство взяло верх. Осторожно раздвинул заросли крапивы и, несмотря на жаление рук, лица, двинулся в направлении таинственных звуков. В пути задел ногой за какую-то дребезжавшую жестяную посудину. Испугался. Переждал немного. Несколько болезненных усилий ногой, рукой и очутился в саду.
В месячном сиянии заблестели перед носом светлые шарики. Еще ближе — земля усеяна яблоками. Поднял голову — и на дереве отливали матовым блеском такие же плоды. «Теперь ясно, кто швырялся «камнями»… Изнываю от жажды, а рядом яблоки сами чуть ли не в рот падают», — сделал он для себя открытие и принялся грызть все, что на ощупь хватала рука. Со временем стал различать и невкусные плоды — мягкие, вялые, сморщенные словно печеные, гнилые. Начал ощупью выбирать твердые. Наконец, разобрался, яблоки — недозрелые, сильно кислые и умерил аппетит.
Светало. Троян осмотрелся и понял, что очутился на месте давно заброшенного хутора, где не осталось ни одного строения, кроме развалин каменного арочного входа в погреб. Перед ним лежал зеленый ковер мелколистного подорожника с вытянутыми вверх тонкими голубоватыми шомполами. Далее, возвышались сиренево-малиновые метлы конского щавеля.
Пунцовые головки клевера выглядывали из белых зарослей кашки. Поле вокруг колосилось овсом и рожью. В запущенном садике сохранилось несколько деревьев яблонь и вишен. Вишневые плоды начинали краснеть и казались вкуснее яблок.
Скоро бойцу надоели фрукты. Рот сводила сильная оскомина. Опять — хлебный массив, «обмолот», наслаждение злачными зернами. По возвращении к погребу встала проблема об укрытии.
Как показали дальнейшие события, новая забота не была излишней.
С восходом солнца сад огласился — как это ни показалось бойцу странным и неприятным — отнюдь не птичьим гомоном, а грохотом мин. Трава почернела от комлев земли, гари и побелела от сбитых взрывными волнами яблок.
Трояну некуда было деваться, кроме развалин погреба, и он торопливо сполз по замусоренным каменным ступенькам в вонючую яму, заполоненную выкорчеванными деревьями, обломками каких-то дерево — земляных стен, соломой, тряпьем, дохлыми крысами, ржавой водой. Боец пристроился в уголке, под прикрытием беспорядочно нагроможденных бревен, досок, хвороста.
В течение дня обстрел повторялся несколько раз. Земля вздрагивала от взрывов. Троян спрятал офицерский мундир под хламом, взял в руку винтовку и приготовился к наихудшему.
Его бросало то в жар, то в холод. Повысилась температура тела. Раны нестерпимо ныли, гноились. Только с наступлением сумерек удалось выползти наружу.
Прежде всего, насытил себя хлебными зернами, затем — фруктами. Молодой организм стоически боролся против общей слабости, воспалительного процесса.
Троян стал вспоминать, что говорили старики в его селе о целебных травах. В пылавшей жаром голове смутно проскальзывали рекомендации народных лекарей о выжимках соков из трав, о травяных пластырях на воспаленные места… Конкретных названий лечебных растений на ум не приходило. Не стерлись, однако, в памяти крылатые слова деда Гриши: «В природе все травушки — муравушки лечебны… Что видишь в поле, то и собирай. Знающий человек подскажет, что от какого недуга…»
Троян так и поступил. Нарвал большие пучки полыни, буркуну, маку, горицвета, подорожника, крапивы, лопухов и много других сорняков. Сел возле своего убежища, напротив месяца и стал советоваться с ним, что делать с собранным зельем. Вспомнил, что мать как-то приготовила из крапивы очень вкусный борщ. «Что ж, если этот сорняк, потребляемый внутрь, не вредил человеку, то может сойти за наружное средство», — решил боец и начал выдавливать крапивный сок на раны.
Душистый кумариновый запах буркуна вызвал в памяти образ деда Гриши, окутанного дымом из своей закопченной трубки. Старик, казалось, был пропитан этой сорной травой. Все на селе знали, что дед не скупился примешивать в табак буркун, который, по словам знатоков, имел целебные свойства. Не думаю, чтоб пожилому человеку было все равно, что курить, лишь бы, как говорят, дымить. Старик не только не отравился, но никогда не болел. Испробую и я…” — решил боец. Надергал рукой из многоцветных колосообразных гроздей буркуна кучу желтеньких лепестков, размял и посыпал ими раны. Так он обильно напитал соками, присыпал измельченными цветочными лепестками все больные места. Сверху наложил листья подорожника, обмотал лопухом и перевязал тряпками.
Порядочно натрудившись с лечебными процедурами, Троян от усталости свалился на траву и блаженно отдыхал. Над ним сверкали переливчатым блеском жемчужные звезды. Резко очерченный месяц сиял так близко над головой, что, казалось, можно было его рукой достать. Сад, яблони с плодами представлялись дальше ночного светила. «Наедине с тобой, дружок, я остался… — тревожно думал Троян и тут же стремился успокоить себя: — Отрадно, что ты участливо рассматриваешь мое горе…”
Месячные лучи придавали всем видимым на земле предметам приятные, мягкие тона. «Это тот самый месяц, который был свидетелем встреч с Верой. Тогда ты казался далеким, безразличным. Почему?.. Молчишь… Но смотришь прямо и открыто, на тебе видны мельчайшие детали. А сколько осталось неясностей в наших отношениях с Верой?..» — заныла старая незарубцевавшаяся душевная рана.
Легкие дыхания ветра волнами доносили ароматы полей. Троян глубоко дышал и с приятным удивлением ощущал, как травяные повязки оттягивали боль из ран. Он как бы физически чувствовал нежные облегчающие подергивания в больных местах. Тело наполнялось успокаивающей истомой.
В его воображении отчетливо предстал образ многострадальной матери. Не знает она, сирая, в каких условиях отмечает ее сын свое 21-летие. Как хотелось написать ей теплое задушевное письмецо! Из груди рвалась сердечная потребность сказать матери свое сыновнее спасибо за то, что она вскормила, вспоила его и так крепко поставила на ноги, что никакой враг не может свалить. Не знает страдалица-старушка, что ее дите, защищая родную землю, не раз уже падал на нее и даже лицом вниз, точно так же, как на заре своей жизни, в кукурузном поле, — но каждый раз мать — земля оживляла, будто вдыхала в него новые жизненные силы. Вот и сейчас, он ощущает, как сказочно быстро крепнет и растет в нем уверенность в окончательном выздоровлении, вера в то, что придет время, когда, обнимая, мать воскликнет:
— Ненько, та нема ж на світі кращого раю, як у нашому краю! Ему чудился в тихом шелесте хлебов, в тревожном безмолвии ночи ее голос.
Незаметно подкрался сон. Смежились глаза, закрыв красочный калейдоскоп жизненных воспоминаний, переживаний, впечатлений.
Через какое-то время больное, изможденное тело начало что-то подбрасывать. В голове лениво зарождались понятие страха и смутные предохранительные меры. На помощь пришел слух — почудились радостные, приветственные возгласы друзей. Вот они раздаются все ближе и ближе. Превозмогая страшные боли, он двинулся навстречу спасительным голосам. Пока взбирался на самую высокую яблоню, чтоб лучше рассмотреть приближение долгожданной выручки, как знакомые возгласы заглушили артиллерийская канонада и автоматная трескотня. Со скрежетом зубов — он упрекнул себя в детском безрассудстве, ибо понял, что мнимое приближение друзей — плод болезненно -сонного воображения. Встряхнул головой. Выполз на порог, протер сонные глаза и стремился вникнуть, что происходило. Слышно было, как утренний свежий воздух рассекали со свистом пули. В волнах хлебов, как привидения, тонули и вновь появлялись серые вражеские каски. Нет, это не сон. Надо принимать меры.
Троян схватил винтовку, прижался к развалинам погреба и изготовился дорого оплатить врагу за свою жизнь. И сразу это благородное намерение показалось нереальным, он помертвел от страха, а в мозгу примирительная мысль: «Здесь моя могила зарастет лечебными травушками-муравушками, и никто не узнает, что они будут питаться и соками смоченной кровью волынской земли». И тут же — возражение: «Сожмись в комок; пока на тебя никто не нападет, ты не обнаружен. Стихия может пронестись мимо. Надо проявить терпение, выдержку и разумно выбрать выгодное место и время для сведения счетов с ненавистным врагом. Сползай вниз и набирайся сил…» Он так и поступил.
Наверху слышались шум, крики, бесшабашная пальба. Возле погреба с топотом проносилось много солдат. Вспышка мысли о наступлении бесславного, глупого конца бросила в жар. Вновь ощупал на груди узелок волынской земли, взятой из-под тела Зорина. Светлый образ освежил туманные, спутанные мысли. В голове оформлялось требование: «Не допустить ни при каких обстоятельствах посрамления доброго имени героя земли русской, драться до последней капли крови”. Сознание готовности хотя бы в какой-то мере отплатить врагам за кровь боевых друзей, прибавило сил. Терпение, выдержка, всосанные с молоком матери, брали верх. Успокоился. В нем даже заговорил природный юмор: «Или дождик или снег, или будет или нет…”
Топот над головой затих. Вопросительные крики. Боец замер. Автоматный треск. Пули с визгом отрикошетировали от каменных стенок погреба. В лицо сыпануло осколками дерева, камня, пылью. Такого варианта гибели Троян не предусматривал. Рванулся к выходу, но отколотый пулями камень больно ударил в лоб. Боец скрипнул зубами. Застонал. Топот сапог удалялся.
«Неужели закончилась проческа? Выглянуть? Нет, выдержка… Не время рваться навстречу врагу… Окрепнешь, тогда догонишь…» — говорил он себе почти во весь голос, забыв о соблюдении осторожности.
В течение нескольких страшных минут струны его морального духа издавали колебания всей гаммы чувств — от безысходности, отчаяния до уверенности в свою счастливую звезду.
Когда все стихло, он вылез наружу. Издали слабо доносилась ружейно-пулеметная стрельба. Расстояние до того места, где стабилизировалась перестрелка, не превышало пяти — шести километров. «Надо быстрее лечиться”, — решил Троян и уполз к зелени. Приглянулся кустик с толстым стеблем, белыми шапочками мелких цветов с фиолетовым оттенком и двоякоперистыми листьями. От растений исходил приятный, бальзамический запах. «Не воняет, — значит, целебно”, — сходу определил боец. Тут же выжал из стебля сок на рану. Это был тысячелистник.
Троян не жалел препаратов степной аптеки. Уже на второй день заметил, что раны начинают заживать, а самочувствие заметно улучшалось. Молодость брала свое.
На пятый день Троян начал ходить. Разыскал в мусоре какие-то черепки. Собрал дождевую воду. Впервые умыл лицо.
По мере выздоровления становилось тоскливо и скучно. Ночью долго сидел у погреба. О многом думал. Спать совсем не хотелось. Очистил кирпичом, найденную в пилотке ржавую иголку. Надергал ниток из рваного подола гимнастерки. Заштопал дыры. Починил мундир фашистского офицера.
И опять нечего делать. От порывов ветра буйно зашелестели деревья. Небо стало тревожным — звезды то и дело закрывались облаками. Ранее спокойный, неподвижный месяц, до которого, казалось, можно было рукой подать, пришел в движение, кинулся наперегонки с тучами. «Луна… — вырвалось у него почему-то женское имя. – Какая ты непостоянная… Подстать моей доле…» — и он долго не отрывал глаз от ночного светила, делясь с ним своими сокровенными думами.
В тот вечер тихий шелест хлебов навеял особо чувствительные, тревожно-возвышенные романтические грезы. Ему казалось, что он уже десятки лет оторван от мира. Пред его мысленным взором возникли образ Веры, картины неповторимых, смутно осознанных школьных событий…
«Вера мучит, беда учит”.
Первая половина фразы записана в его старом, замусоленном блокноте ученическими чернилами, правильным каллиграфическим почерком, а вторая наспех дописана трофейной авторучкой.
Так родился новый афоризм. Ему предшествовали детские и юношеские увлечения, переживания, противоречия.
Итак, об одном из них…
Они были одноклассниками. Троян не помнил, как, из-за чего все началось. Просто в какой-то обычный, будничный день он почувствовал неловкость оттого, что их глаза стали встречаться чаще обычного. Общепринятого обмена взглядами, как со всеми школьниками, почему-то было мало. Появился какой-то внутренний, неизъяснимый интерес, не глазеть в ее сторону стоило усилий.
Черные угольки Вериных очей приобрели с какого-то времени новое, противоречивое свойство. Они начали излучать теплый свет и в то же время прикрывались холодным, влажным блеском, который будто служил запретной, стыдливо-притягательной завесой. И то, и другое вызывали повышенное любопытство, неудержимое влечение. Однако, он первый отводил глаза, краснея.
Троян стал искать внеочередных встреч с Верой. Вместе с тем укорял себя за то, что допускал нечто недозволенное, предосудительное и тут же ловил себя на мысли, что все его передвижения во время перемен и даже повороты головы на уроках делались во имя того, чтоб лишний раз тайком удостовериться, что необыкновенные очи Веры действительно излучали загадочный свет.
Вера, единственная дочь у материально хорошо обеспеченных родителей, слыла в школе, как прилежная ученица, избалованная и с прихотями. На уроках отличалась среди своих сверстниц незаурядной сообразительностью, находчивостью, во время перерывов — резвостью, беззаботной веселостью.
Он все чаще стал оборачиваться на звонкий, самоуверенный голосок.
Вера, как правило, первая изъявляла желание отвечать на сложные, замысловатые вопросы учителя. Его невольный взгляд долго провожал стройную фигурку, с толстой и длинной косой на спине, когда та первая, выполнив все задачи по арифметике, покидала класс. Звонок и — он мчался к ней, с ходу расспрашивая о сокращении какого-то многоэтажного уравнения, о проверке ответа такой-то задачи. В общих разговорах на школьные темы Троян чувствовал себя с Верой просто и хорошо. С окончанием «официальной части» ему становилось неловко — смущался, краснел, под воздействием ее таинственных лучистых угольков опускал голову.
Вера исподволь входила в его душу.
— Перестань, Петро, теряться в обществе этой зазнайки, — злился Гридин. Раньше ты говорил, что Вера на голову выше своих подруг. Вчера восхищался, что она смело и очень оригинально упростила решение задачи, над которой мы бились до самого звонка…
— Ты не ответил на мой упрек. А я тебе скажу: нет ничего удивительного. Ее отец — грамотный, всю жизнь на счетах щелкает, помогает ей. Мать в ней души не чает, не заставляет за холодную воду браться. Как сыр в масле катается. Я не в восхищении от таких…
— Не заперечую, але вона мае мухи в нос!… — соглашался и все же настаивал друг на своем. При этом глаза так и косились в группу школьниц, притягиваемые черной, гладко причесанной головкой.
Шутники-одноклассники подтрунивали над Трояном. Это вынуждало его стараться не показывать вида, избегать слишком приметных, гласных встреч с Верой. Оказалось, что и намеренное шараханье от нее при народе также становилось слишком заметным и истолковывалось опять-таки не в его пользу.
— Ага, не бывает дыма без огня, не зря говорят… Почему, как провинившийся, обходишь Веру? — зубоскалил сосед с задней парты.
— Б самом деле, Петро, что с тобой? Ты, словно в чем-то виноватый, трепещешь перед этой егозой… — дружески выговаривал Гридин. —
— Ей этого и надо. Дома родители не надышатся над ней, одиночкой, в школе учителя хвалят… Прояви больше гордости, самостоятельности. Ничего в ней нет особенного.
Краснея до корней волос, он не находил чем возразить.
В самом деле, Вера не блистала особенной красотой среди своих сверстниц — в классе были выше всяких похвал другие красавицы. Правда, Вера выделялась добротностью и опрятностью своих одежд, что скорее было результатом забот матери, чем ее. Бедно одетые подружки тайно завидовали ей и украдкой засматривались на маменькину баловницу.
Троян выслушивал дружеские замечания, соглашался, но не мог справиться со своей мягкостью и, как говорил Гридин, повышенной впечатлительностью. «Подумаешь, какая объявилась выскочка… — порой старался он настроить себя на критический лад. — Пользуется скромностью и простотой других и возвышается…» И как только встречался с ней, так критический настрой летел вверх тормашками. Вновь черные очи преследовали парня, притягивали к себе, сильнее магнита.
Он и она все чаще обменивались взглядами, и, казалось, передавали друг другу тайну, содержания которой и сами не знали.
Троян сделал для себя открытие, что глаза у людей далеко не одинаковы. Есть пустые, бесцветные, водянистые, которые решительно ничего не выражают. Встречаются злые, жадные, отталкивающие… А вот Верины — загадочные, непонятные — неизменно вызывали трепетное волнение в груди. Почему? И Троян кинулся к учебникам, энциклопедии. Еще раз проштудировал строение глаза, процессы, происходящие в нем. Все выглядело весьма прозаично, по-научному сухо: через отверстие в радужной оболочке — зрачок — лучи света входят в глаз и, преломляясь в водянистой влаге, хрусталике и стекловидном теле, сходятся на сетчатке, давая на ней изображение видимого предмета. Вот и вся премудрость. И никаких указаний на разновидности глаз, ни слова о тех, которые обладают гипнотизирующими или магическими свойствами.
«Значит, в природе есть неразгаданные тайны, — рассуждал он. — А, возможно, глаза Веры — исключение… Вообще, она во всем не похожа на других”. Догадываясь о том, что, если бы подобные мысли были высказаны друзьям, те засмеяли бы его. А раз так, то решил перебороть себя и избегать встреч с Верой. Так, до окончания школы они и не переговорили наедине между собой. На многолюдном выпускном вечере оба, молча, взаимно сочувствующими взглядами условились встретиться, но ничего не вышло. На второй или третий день Вера уехала куда-то далеко, к родственникам, а он убыл в Одессу, поступать учиться.
Время летело незаметно. В течение двух каникул Троян заработал в порту денег на желтые модельные полуботинки, шерстяные брюки и тельняшку. Оделся и приехал в родное село, всего на несколько дней. И на второй день умчался к Вере.
В сельском клубе танцы затянулись допоздна. У всех на виду он не стал секретничать с Верой.
На выходе, в толкотне, решился подойти к ней и предложить себя в провожатые. Она остановилась, будто в изумлении. Ее надменные, пушистые брови вскочили вверх, а в притворно-строгих глазах сверкнул знакомый, игривый огонек: мол, наконец-то, а я думала, что ты забыл меня.
— Мой путь — напрямик, через молодой парк и угол кладбища, — свысока ответила Вера. — Если ты не боишься, пойдем.
— Постараюсь… — не мог скрыть он своей радости.
За воротами клуба они растаяли в темени ночи. Дул сильный ветер. По бледному небу неслись лохматые облака. Временами из-за них выскакивал месяц и мрак в узкой улочке, которой они шли, отступал. Обое молчали. Создавалось впечатление, что в процессе ходьбы он и она торопились выполнить какую-то срочную работу, после которой должно было наступить облегчение. Не снизился темп молчаливого движения и аллеей молодого парка. Над головами шелестела листва. Слева чернела каменная стена, за которой простиралось старое кладбище. В перспективе аллеи замаячила группа сельских парней. Они пели. Ветер доносил обрывки печального рассказа о Гале, которая не послушала свою маму и уехала с казаками. Вера, не желая встретиться с песенниками, предложила:
— Перелезем через мур, — она показала рукой на высокий каменный забор, — срежем угол кладбища и рядом — моя хата. Так ближе…
Он сразу же вскочил на ступеньку перелаза, подал ей руку. На узкой кладке они, раскачиваясь, с трудом удерживали равновесие. Ветер трепал ветвями деревьев, хлопал Вериным платьем, мотал концом ее длинной косы. Пришлось, наконец, несогласованно, вразнобой, спрыгнуть на землю.
— Сядем здесь, на возвышении, — кивнул головой Троян в сторону груды камней. — Отсюда красивый вид на сонное село.
— Хорошо, если ты не боишься, — согласилась она и тут же почему-то добавила: — А не лучше ли разместиться обоим на том массивном верхняке? — вопросом предложила она, увлекая парня за руку к большому и широкому, как стол, камню, ладно подогнанному каменотесами наверху кладки.
Троян с повышенной готовностью помог своей спутнице залезть и удобно сесть на гладком возвышении. Уступая больше места ей, сам умудрился примоститься на косом уголке плохо обработанного ноздреватого плитняка. Опустил ноги вниз и, чтоб не упасть, крепко схватился руками за шершавые каменные выступы.
Вера повернула к нему лицо, молчаливо выжидая начала беседы.
— Ты не раз сегодня упоминала о моей какой-то боязни… — услыхал он свой нетвердый голос. При этом пальцы рук стали неистово впиваться в ракушечную породу камня, будто с целью удержаться во время предстоящей встряски.
— Нет, я ничего… Просто знаю, что в школе ты не отличался храбростью. Может, теперь изменился…
Разговор не клеился. Слева, в зарослях кустов сирени, шиповника, акации, мрачно чернели надгробные кресты, памятники. Справа, за ровными рядами молодых, кучерявых деревьев, раздавалась удалая песня.
— Выделяется голос Фадея, — как бы ответила Вера на молчаливый, вопрос Трояна. — Ты раньше тоже увлекался пением. Давно не слыхала…
— Теперь не пою, негде. Правда, когда волнуюсь, переживаю…
— Как бы тебя толкнуть на переживания?
В тоне вопроса слышалась издевательская нотка. Троян, отложив ответ на более подходящее время, ограничился общим замечанием:
— Так, без причины, я не любитель горланить.
— А кто тебе сказал, что хлопцы поют без причины?
— Возможно… Бывают причины и причинки…
Он сожалел, что ответил глупо, с претензией на заумность.
На его душе лежала какая-то тревожная тяжесть. Чувствовался тупик, а слов для выхода из него не было.
Между облаками образовался большой просвет, в который беспокойно взглянул на землю ущербный месяц. Не надолго. Сразу он заметался в рваных, дымных клубах. Кое-где холодно мерцали одинокие звезды.
Парень снизу вверх смотрел на девушку. Ему казалось, что характер ее профиля удивительно точно гармонировал с видом неспокойного неба. Его качнуло назад — благо своевременно впился пальцами в камень и поэтому не свалился на землю. Вера резко обернулась к нему. В это время месяц скатился в большое, расплывчатое облако, из-за которого светил то ярко, то мрачно. В месячной мгле сверкали странно противоречивым блеском угольки очей девушки. На ее лице мелькали выражения грусти и радости, простодушия и высокомерия, близости и отчужденности. Было оно и насмешливым и задумчивым и будто говорило: «Правда, я тебя и в темноте освещаю? Неужели ты, с такой поэтически — впечатлительной душой этого не замечаешь и не чувствуешь? А другие замечают и не могут удержаться, чтоб не высказать…” Его глаза выдали: «Все понимаю, а сказать не умею. Боюсь, что слова не выразят того, что есть на сердце…” Это безмолвное объяснение чувствительно тронуло ее. Она съежилась, как от холода, прильнув к плечу парня. Недалеко от его щеки ощущалось горячее, пьянящее дыхание. Несколько неловких минут, и профиль Веры вновь стал искать встречи с месячными лучами.
«Темна, непонятна, неуравновешенна, как эта ночь…” — продолжал он царапать пальцами шершавый камень.
— Какое сумбурное, неспокойное небо… Ветер все усиливается. Не иначе, как нарвет дождя… — рассеянно расшифровывала она причудливые завитушки на краю облака, возле месяца. — Мокрая дорога тебе стелиться. Бабушка говорит, что дождь в дорогу — к счастью.
— Я не боюсь дождя, слякоти… — искал он в глазах Веры блеска школьного времени. Но они изменились, сверкали каким-то новым, еще более непонятным и потому привлекательным огнем. — Пешком дойду до станции, хотя ты считаешь меня трусом. Бабушкино предсказание — суеверие… — путался он в словах, как в вязкой тине. Сознавал, что и на этот раз говорил не то, что требовала душа.
Вера начала кутаться косынкой, как от холода:
— Знобит, от камней, наверное… Другой раз они так нагреваются за день, что и ночью дышат теплом. Пойдем домой…
Троян не нашелся, что ответить. Лицо его пылало жаром в беспокойном лунном сиянии. А ненавистные пальцы все не отрывались от злополучного камня… Наконец, с усилием и стоном спрыгнул на землю. Стоял перед Верой, как отуманенный, не зная, куда деть расцарапанные до крови руки. На лицо девушки упала тень от тучки, набежавшей на месяц. Но ее очи, будто аккумулировав в себя месячный свет в течение всего вечера, продолжали блестеть и излучать тот неизъяснимый огонь, от которого сердце парня выскакивало из груди.
Девушка медленно слезла на мягкую травку и стала водить по ней носком своей туфельки. Запахло чебрецом.
Среди могил чернели огромные каменные кресты. Некоторые из них наклонились от своей тяжести. «Видно, раньше сильные люди жили, раз могли ворочать без техники такие огромные глыбы — пришла на ум Трояну отвлеченная мысль. — А я на пути к Вере не могу, сдвинуть камушка».
По темной кладбищенской зелени вилась узкая стежка. Вера первой ступила на нее. Троян вытер платочком искалеченные пальцы и несмело взял девушку под руку. Шли не в ногу. Он строил в голове фразы, которыми собирался наладить тот важный разговор, ради которого встретился с Верой. Местом продолжения встречи предполагался Верин палисадник. А, возможно, она ведет его в свою хату?
За деревьями показалась белая стена. У калитки они остановилась. Месяц выглянул из облаков. Стало светло. Из-за мура осуждающе покачивали головами крупные подсолнухи. Оттуда же доносился запах душистого табака, метеол, укропа. Троян открыл рот…
— Вера, пора домой! — перебил голос матери.
— Прощай, поэт… — тихо наклонила девушка свое лицо к уху ошеломленного парня. Кольца ее волос, с каким-то особым, приятно — неповторимым запахом чуть коснулись его щеки. Он, остолбенев, затаил дыхание. Сердце в смятении сжалось. Когда очнулся, перед ним не было никого.
Ветер неистовствовал, ерошил волосы, пузырем надувал рубашку.
С тяжелым чувством зашагал он прочь. Взглянув на небо, подумал: — «Пожалуй, Вера не ближе от меня, чем звезда небесная».
Дома до утра не мог уснуть. Щека горела от прикосновения Вериных волос.
… В течение почти всего дня Троян нет-нет, да и касался здоровой рукой щеки, ужаленной крапивой. Под пальцами ощущались волдыри. «Ничего, пройдет…» — успокаивал он себя, прислушиваясь к стрельбе, которая доносилась с юго-запада. В той стороне с утра не было спокойно. Он встревожился. Выбрался на окраину сада, облюбовал дерево, с которого намеревался понаблюдать за местностью, как внимание отвлек пчелиный рой, садившийся на ближайшей яблоневой ветви. И его так увлекло сосредоточивание пчел в одном месте, музыкальное жужжание, что он забыл, где находился. В минуты самозабвения враги могли бы не только выследить разведчика, но и легко схватить его. Между тем дружная пчелиная семья провела несколько беспокойных часов в саду и улетела на северо-восток.
Впечатлительного Трояна захлестнули новые переживания. Столь странное посещение: заброшенного в степи зеленого островка роем пчел он склонен был: рассматривать, как что-то символически обнадеживающее. И тут же вздрогнул от мысли: вырваться из вражеского окружения, по-видимому, не легче, чем взнестись следом за пчелиным роем. И его охватила детски-наивная тоска: был бы он хотя бы маленькой пчелкой в том большом рое…
И только ночью, когда его встряхнула недалекая бешеная перестрелка, он схватился, за винтовку и взобрался на яблоню. Кроме нескольких трассирующих пуль, прочертивших небо на горизонте, ничего не увидел.
Под утро все затихло. Только левее, в направлении шоссе, слышался треск мотоциклов. «Должно, каратели уехали из деревни, — предполагал боец. — А не новые прибывают?..»
Троян слез с дерева на землю. Хотелось спать, но, обеспокоенный неясными событиями, счел нужным бодрствовать, не отрывая глаз от мрачного горизонта, где таилась какая-то драма.
Повышенное чувство настороженности не обмануло.
В предрассветной туманной дымке показалась группа людей. Все необыкновенно рослые и, казалось, шли строем. Направление — прямо к нему. «Неужели какая-то собака пронюхала мой след и донесла врагу? А может, вчера, когда я встречал и провожал пчелиный рой?..» — вскинул он винтовку. Сам слился с толстым стволом старой вишни и приспособился с упора о сучок к ведению огня.
Неизвестные остановились. Среди размытых молочной дымкой неясных фигур отчетливо выделялась фуражка гитлеровского офицера. У другого верзилы, рядом, блеснул на груди знакомый вражеский автомат.
«Все понятно. Меня выследили, и они действуют наверняка, с раннего утра. Офицер отдает приказание… Итак, для начала лишу бандитов их командира», — молнией пронеслось в голове Трояна решение.
Он старательно вывел мушку к нижней части груди офицера и плавно спустил курок.
Позднее в его блокноте было записано: «Наверняка только обухом бьют, да и то промах дают».
В одном месте оторвались, в другом нарвались…
— Не все, только он… — толкнул Кирьяков пленного в бок.
Тот всхрапнул, захлебываясь, вытянул ноги и замер.
Подполз Гридин. Перевернул врага на спину. Осмотрел.
— Убит, — объявил он, извлекая из нагрудного кармана гитлеровского офицера пробитую пулей пачку фотокарточек.
Разведчики отползли метра два назад и расположились вдоль межи, приноравливаясь вести огонь с естественного рубежа.
— Слабак ариец. Раз кашлянул, брыкнулся и — дух вон, широко раскинул ноги Чапурин во ржи, наводя ствол винтовки к подножью дальнего подозрительного дерева. Справа он разместил гранаты, слева два трофейных автомата.
— Наш Федот поднимает хвост трубой, прикрываясь межевой насыпью, — поддал Самохин. — Забыл, что пять минут назад пулю могло снести ветром на полметра влево, и вместо гитлеровца сам гавкнул бы на том свете.
— Видно, пуля не дура, раз виноватого нашла. Меня обдало холодным ветерком от нее, я шагал бок обок со старшиной, — заискивающе обернул лицо Чапурин в сторону Кирьякова.
— Ко-ро-че, — прервал старшина так растянуто, длинно, по слогам, что у него хватило бы времени и воздуха в легких произнести три таких слова. Скороговоркой добавил: — Надо обратиться за разъяснениями к стрелку. Гридин, спросите, кто там прячется среди деревьев.
— По-немецки или по-русски?
— Заговорите от имени убитого на его языке.
Гридин, смягчая поднебное «Я», четко выговорил немецкие слова:
— Эй, кто там стреляет без предупреждения? Спрашивает обер-лейтенант Вилли.
Пауза, и — насмешливый ответ:
— Костя, не ломай язык. Ваш Вилли, если б уцелел, то не поручал бы тебе говорить. Могло быть хуже…
У Гридина от волнения дух захватило.
— Троян!.. Петро!.. Неужели это ты? — рванулся он вперед.
Кирьяков энергичным движением руки удержал бойца на месте:
— Спокойнее. Никому не высовываться. Слишком бурно проявляете свои земляческие чувства, я те дам… Мне не нравиться голос Трояна. Как бы, действительно, не произошло нечто худшее…
— Верно, голос будто вымученный, вынужденный, хотя, несомненно, знакомый… Нет ли за его спиной врага?.. — сомневался Самохин.
— Петро, если тебе ничто не угрожает, докажи, что обращаешься к нам по своей воле… — с трудом подбирал слова Гридин.
— Я впервые в своем убежище вслух заговорил и тоже сомневаюсь: во сне ли это или наяву? Ежели вы не призраки, то я в своем уме…
— Мы — реальные люди, выполняем очередную боевую задачу.
— Виноват, перед вами друзья, — стрельнул сдуру. Только сейчас разобрался: моей целью оказался ваш «язык». Иду к вам с повинной…
От темной гряды вишен отделилась серая фигурка бойца, в пилотке, с винтовкой в правой руке. Казалось, шел охотник, которого так вымотали бесплодные хождения по лесам и полям, что к исходу дня его с трудом несли ноги.
— Ты один? — допытывался Гридин, все еще ощущая на своем плече торможение рукой Кирьякова.
На небритом, исхудалом лице бойца, с впалыми глазами, выпуклым, загорелым лбом и почерневшими губами, расцвела знакомая тихая улыбка:
— Был до последней минуты одинок, как щербатый месяц на небе в бурю. Теперь, когда вы появились, вновь чувствую себя членом вашего созвездия Малого Воза… Надеюсь, что он, наконец, вывезет меня из одиночного заточения. Какое счастье, что вы так кучно взошли на горизонте!
— Ты все тот же поэт, Петро… Извини, брат, что мы соблюдаем предосторожности. Сам знаешь — в тылу врага…
— Чудаки, поднимайтесь. Здесь, в окружности, никого нет. У меня было время все изучить до капельки… Перестраховщики вы эдакие, залегли…
— Заляжешь… Когда на глазах из сумеречной дали один выстрел и наповал… — поднялся Гридин и кинулся навстречу другу.
Они по-братски обнялись.
Все разведчики вскочили, как на пружинах, и двинулись к сослуживцу. Горячо здоровались, обнимались, воочию убеждаясь в том, что перед ними стаял ни кто иной, как их славный боевой товарищ.
— Осторожно братцы! У меня только дух здоровый, а ноги и руки поранены, — обеспокоился Гридин, — И где ты столько времени укрывался, лечился?..
— Под темными лесами, под грозовыми облаками, средь тучных хлебов, среди травушки-муравушки, под ясным месяцем, под красным солнышком. Все было, но могло быть и хуже…
— Точно! Петро остался тем же… Сказано: суженого — ряженого и на коне не объедешь. А я все не мог взять в толк, почему моя левая гусеница всю дорогу тянула к этому садочку?.. — вставил в тон другу Моторный.
Вмешался Кирьяков:
— Друзья, все это распрекрасно. Но не забывайте, что мы в соседней деревне оставили свои четкие автографы. С минуты на минуту можно ждать погони. Нельзя торчать здесь, на виду. В вашем оазисе, Троян, можно временно укрыться?
— Гитлеровцы надежно его обработали артиллерией и минометами, затем прочесали огнем стрелкового оружия, заследили своими сапожищами и оставили в покое. До сих пор я там прятался. Пойдемте.
— Чапурин и Моторный, — распорядился старшина, — заберите с собой труп пленного. Как «язык”, он представляет для нас не больше ценности, чем дырка от бублика. Но чтоб успешнее оторваться от возможного преследования, надо его спрятать где-либо.
Бойцы выполнили приказание, по своей инициативе сняв с убитого офицерский мундир. Троян на ходу кратко рассказал о том, что с ним произошло.
— Молодец, Петро. Не раз висел на волоске от сотен смертей и победил, — восхищался Кирьяков.
— Да, бывали моменты, когда, как выражалась моя мама, оставалось три чисници до смерти, но мне как-то удавалось отрываться от нее, щербатой. Заранее не имел никакого плана. Всему беда учила…
— Такая твоя доля, — произнес Моторный, тоном, будто сказанное полностью объясняло все события.
Друзья расположились на подорожниковом ковре возле развалин погреба. Чапурин угощал Трояна жареной курицей, белым хлебом. Незаметно потчевание товарища вылилось в завтрак для всех — бойцы за ночь здорово проголодались.
Троян ел медленно, чувствуя, как тело наливалось энергией, бодростью, но вовсе не от вкусной пищи — радостные улыбки боевых друзей, их согретые братским участием горячие взгляды, буквально воскрешали его, до неузнаваемости искалеченного, истощенного.
Если бы кто-либо проследил изменение выражения лица Трояна в течение последних пятнадцати — двадцати минут, то увидел бы интереснейшие преобразования.
В самом деле, когда боец заметил в хлебах группу вооруженных людей во главе с гитлеровским офицером, его лицо пожелтело, наподобие цвета перезревших колосьев, сделалось заостренно колючим. В момент нажима пальца на спусковой крючок, упавшая на лоб прядь волос — светлых ржаных остьев с проседью, — придала складкам кожи на лбу оттенок увядания. Встреча с друзьями вызвала разительные перемены. Подобно тому как, если бы в природе, вслед за летом опять началась весна, так и зрелые черты лица воина внезапно расцвели буйной детской беззаботностью. Его сердце учащенно забилось, в глазах зарябило, словно от пестроты весенних цветов, зелени. Голова, как от ароматов роскошного цветения природы, опьянела.
Разведчики ободряли своего товарища, шутили, смеялись.
Старшина Кирьяков широко улыбался:
— Не лежит у вас, товарищ Троян, душа к «языкам”. Одного не уберегли от артобстрела, второго нечаянно ухлопали из винтовки. И на этот раз возвращаемся из успешной вылазки без живого экземпляра «сверхчеловека».
— Так на роду написано у этих окаянных «недочеловеков», — вставил Моторный.
— Нам от этого не легче. В штабе потребуются живые комментарии представителя гитлеровской армии к захваченным документам, — добавил Самохин.
— Не отчаивайтесь, еще не все потеряно… Я, кажется, слышу зловещие звуки, — сообщил Гридин со своего поста наблюдения. — В районе деревин возобновились стрельба, крики…
— Вернемся, — похрабрел Чапурин после сытного завтрака.
— Нет назад нам не рука… Надо сейчас точно сориентироваться и без промедления выступить к своим, озабоченно заговорил старшина Кирьяков. Он встал заправил на себе обмундирование, подтянул снаряжение и распорядился: — Все, ребятки, собирайтесь в дорогу. Наша задача — избежать соприкосновения с противником. Нас не отягощают боеприпасы — израсходованы — и обременяют документы и образцы вражеского оружия.
— Боюсь, товарищ старшина, что мы не успеем… оторваться… — сухо доложил Гридин. — По нашему следу спешат «гости”. В открытой степи нам невыгодно встречаться с ними.
Кирьянов подошел к разведчику — наблюдателю, вслушался в дальний шум и, оборачиваясь к людям, стал выбивать пальцами на целлулоиде планшетки «Трех танкистов”:
— Да, они уже вышли из деревни… Нам не успеть уйти. Встречи не миновать. Лучшей крепости, чем оазис Трояна вблизи не сыскать. Приготовиться к круговой обороне!
Разведчики начали спешно орудовать штыками, собирать камни, кирпичи — создавали примитивные ячейки.
Враг не дал возможности мало-мальски укрепиться. Удар пришлось отражать, опираясь на остатки развалин хуторских построек.
В течение дня бойцы отбивали наскоки взвода фашистских солдат, вооруженных преимущественно винтовками.
Перед заходом солнца наступила пауза. В магазинах стрелкового оружия осталось от трех до десяти патронов. Надо было дотянуть до темна.
— Они ушли!
— В самом деле… — вытянулся старшина Кирьяков во весь рост на своем НП. Среди хлебов мелькали полусогнутые спины гитлеровских солдат, удаляясь на запад, в сторону деревни. — Всегда вы, товарищ Троян сообщаете приятные вести. Вишь, как улепетывают к Тряпке, на курятину…
— Выходит, отступают? — обрадовался Моторный.
— Наоборот, мне кажется, что наступают… — сухо, в тоне возражения отозвался Гридин с развалины погреба.
К нему подбежал старшина Кирьяков, взобрался на камни и, вглядываясь на юго-восток, подтвердил:
— Да, пять мотоциклов, подкрепление. Торопятся засветло разделаться с нашим оазисом… Надо воспользоваться рассогласованностью по времени убытия одних и прибытия других… Чапурин, далеко отсюда спрятан труп обер-лейтенанта? Его форма одежды ввела в заблуждение Трояна… Почему бы ей с таким же успехом не взбаламутить новичков — фашистов?..
— Товарищ старшина, — дисциплинированно вытянулся Чапурин. — Я заранее ощипал «гуся”… — и он развернул перед Кирьяковым офицерский мундир, весь в пухе и перьях.
— Мой чище и уже выветрился… — снял Троян с яблони зеленый узелок и подал старшине.
— Догадливы, запасливы и молодцы… Вытряхните оба от пыли и мусора… — и старшина Кирьяков заговорщически моргнул Гридину левым глазом.
Тот понял. Сразу выхватил из рук Трояна рваную и во многих местах кое-как зашитую тужурку и стал лихорадочно надевать ее поверх своей гимнастерки, с отвращением вороча нос.
— Не к твоей шее, Костя, этот воротник шили… — приговаривал Троян, разглаживая погоны на плечах друга.
— Хватит, Чапурин, выщипывать с моего камуфляжа пушинки — они помогут нам разнести в пух и прах мотоциклетную команду… — не терпелось старшине Кирьякову. Изложив план действий, он спросил: — Теперь всем ясно, что у нас нет другого выхода?
— Понятно. Чтоб окончательно оторваться от противника, надо сначала сблизиться, — за всех ответил Гридин.
Разведчики заняли указанные старшиной места в засаде.
Вражеские мотоциклы приблизились к развалинам хутора. Остановились в двухстах метрах. Раздалась автоматная очередь.
На камнях погреба вырос силуэт гитлеровского офицера.
— Прекратить пальбу! Надо не опаздывать. Заявились к шапочному разбору… — сердито взмахнул он рукой и спрыгнул на землю со словами: — Кранке бегом, в деревню, передай заместителю Вилли, чтоб немедленно прислал сюда машину… Тут чертова прорва этого скарба… Шмольтке, не спи, стоя, подай сверток обер-лейтенанту… Это для генерала…
Из уст Гридина лились, как из рога изобилия, рубленые, отрывистые фразы. Разведчик при этом пользовался данными из захваченных документов и показаний пленного.
С первого мотоцикла поднялся гитлеровец в фуражке. Косые лучи заходящего солнца, блеснув красным светом в его очках, спрятались за низкой над горизонтом тучей. Это был, видно, старший команды. Он разглядывал на фоне пурпурно-мрачных красок заката высокую фигуру офицера, который поднял на плечо длинный предмет, обвернутый какой-то тканью, перенес его к дороге и аккуратно опустил на кучу темных прямоугольников, кубиков, и сам присел, что-то перекладывая.
Это переодетый старшина Кирьяков набросил на бревно плащ-палатку и продемонстрировал переноску «ценного груза”. Он не торопил события, искося оценивая взглядом, что развязка еще не назрела.
Нервный голос Гридина требовал, угрожая:
— Аккуратнее, болваны!.. Бери чистыми руками… Не сломать, а то от генерала Мюллера достанется…
Это заинтриговало старшего команды, и он рванулся вперед.
При выезде на площадку подорожника скрипнули тормоза в сопровождении сомневающегося возгласа:
— Что тут за раскопки? Краузе, это ты?..
— Ого! Ты здорово перетрусил. Надень еще одни очки… — осторожно принял Гридин из рук обер-лейтенанта, то есть старшины Кирьякова, пустую цинковую коробку и, как стеклянную, положил на охапку сена. Вновь склонился к яме, откуда чьи-то руки подали белый куль странной формы. Со стороны невозможно было распознать, что, то была красноармейская нательная рубашка, набитая соломой.
Некоторые гитлеровцы слезли с задних машин и робко приближались к своему командиру, который словно прирос к коляске. Видно было, как он снял очки, протер. Наконец, казалось, фашист прозрел: сквозь вырезанные полумесяцами увеличительные стекла разглядел свою смерть. Рывком вскинул голову вверх, широко открыл рот, видимо, с намерением дать команду и исправить допущенную роковую оплошность, но не успел вымолвить и полслова.
Неминуемое свершилось молниеносно.
— Ай-ай-ай! Свою смерть не узнаешь, — взмахнул Гридин рукой. Это русские!.. Назад!.. – успел сорваться чей-то гнусавый, дребезжащий дискант.
Развалины и кусты заброшенного хутора ощетинились огненными кинжалами. Вслед за коротким огневым ударом бойцы дерзко ринулись к мотоциклам. Многие обалдевшие от неожиданности фашисты выпустили из рук оружие, заслоняясь ладонями с растопыренными пальцами, словно они были бронированными и обладали способностью остановить ливень свинца и удары вороненых штыков.
Гитлеровский офицер согнулся, будто что-то доставая со дна коляски мотоцикла, и больше не выпрямился.
Кирьяков метнул две гранаты вслед за теми, которые бросились врассыпную назад.
Неожиданный удар в упор огнем и штыком произвел дикое замешательство среди врагов. Бой вспыхнул и разгорелся с таким эффектом, с каким воспламеняется облитая бензином куча соломы от брошенной на нее горящей спички.
В быстротечной схватке советские бойцы истребили большую часть гитлеровского подразделения. Мотоциклы оказались выведенными из строя пули продырявили колеса, бачки с горючим… Уцелевшие фашисты разбегались по хлебному полю. Разведчики, забрав офицерскую полевую сумку, несколько автоматов со снаряженными магазинами, покинули свой оазис.
Тем временем со стороны деревни пустились им вдогонку более двадцати вражеских солдат.
Гридин освободился от роли привередливого фашистского офицера, схватил Трояна в охапку, перекинул его на свои плечи и кинулся бежать в направлении рощи — месту давно желанного укрытия. Перед его глазами, на краю неба, синела лесная полоса, похожая на туманную крышу, которая свисала над светло-золотистой стеной хлебного массива. Следом бежали остальные разведчики. Все поочередно останавливались, оборачивались назад и расчетливо, экономно отстреливались.
Всем маневрам, передвижениям задавал тон старшина Кирьяков. Его статная, подвижная фигура носилась в хлебах, подобно метеору в созвездии сверкавшего огнями охранения.
— Автоматы – на одиночные!.. – требовал он экономить патроны. Бойцы, кто с колена, кто, стоя, с поворотом назад, разили врагов красными ножевыми вспышками и, прикрывая своего командира и Гридина с ношей, отходили к роще.
Вражеская пальба вдогонку с каждой минутой ослабевала. Все же одна пуля ужалила старшину Кирьякова, засев в левом плече.
— Не беда… Из такого змеиного роя вырваться всего лишь с одним укусом — победа. Больше газу, механики-водители. Улепетывай — впереди вас ждут танки… — выкрикивал старшина, расстегивая здоровой рукой офицерский мундир. — Принимай, Чапурин, маскировку, больше не пригодится…
Моторный, умеряя бег, дышал неравномерно, как плохо отрегулированный двигатель:
— Хорошо растревожили зверинец. В темноте друг друга перестреляют…
— И верно — нас пули не настигают, а у них трескотня не прекращается. Не иначе, как обнаружили новых подозрительных Краузе… — прерывчато сопел Чапурин под тяжестью двух вещмешков и четырех автоматов.
Старшина Кирьяков на ходу спрашивал:
— Как наш везучий именинник чувствует себя?
— Уже не едет, а сам шагает, — ответил Гридин, поддерживая за локоть Трояна.
Довольно быть именинником. Пора браться за дела, — разговорился Троян. — Слишком долго я засиделся на одном месте, будто конь на привязи…
С шутками, прибаутками они вступили в ночную черноту рощи. Под ногами застучала твердая дорога, которая должна была вывести через жиденькие перелески в большой смешанный лес, к палатке майора Родина. Старшина Кирьяков распорядился сделать привал. Были поправлены бинты на ранах и — снова в путь.
Вершины деревьев постепенно светлели. Согласно расчетам старшины, должно было начинаться расположение своих войск. Настроение у всех стало бодрым… Укатанный лесной проселок обступали высокие сосны, изредка ели. Зеленели также дуб, береза, граб. Дорога сворачивала влево. Старшина остановился, сориентировался, и решил не делать круг, в обход низменности, а двинуться напрямик.
Все обрадовались сокращенному варианту пути.
Полчаса ходьбы среди густых зарослей травы и лес стал заметно меняться. Начались ольха, верба, мелкие кустарники. Под ногами ощущалась мягкая, влажная почва.
— Мне не очень нравиться срезать навпростець… — как бы про себя сказал Моторный. — Пахнет болотом. Тут можно забуксовать и сесть на днище…
— Зато мы почти у цели, и тишина кругом… — возражал Чапурин.
Как бы в опровержение сказанному, впереди раздался шум, что-то с треском упало. Все остановились.
— Рухнуло срубленное дерево, — тихо определил Белобородов.
— Кто-то делает завал. Гридин, снимите с головы офицерскую фуражку, иначе какой-нибудь новый Троян собьет ее снайперским выстрелом. Спрятать трофейное оружие. Пошли, — распоряжался старшина.
Они неуклонно выдерживали свое направление.
Через несколько десятков метров путь преградила крупная свежее сваленная осина.
— Загадка, — почесал затылок старшина Кирьяков.
— Уверен, что срубили дерево не наши красноармейцы, — определил Самохин.
— А кто?
— Вон кто… — показал Троян на кучу крупных щепок, на которые все устремили взоры, будто ожидая от них ответа.
Рядом белел свежий пень, срезанный на конус.
— Я в лесу вырос, а такой странной рубки деревьев не видывал, — недоумевал Белобородов, сопровождая слова выразительным качанием головы.
— Я сразу сказал, что это не русская работа. Рубщики только что скрылись. Наверняка не спускают нас с прицелов, — нагнетал напряженность Самохин. Последние слова вынудили и самого пригнуться.
Чапурин, как бы, придавленный тяжестью грузов, тоже опустился на корточки.
Разведчики переглядывались.
Кирьяков обратил внимание на спокойную, ироническую улыбку Трояна:
— Вы давеча сделали ударение на «кто». Что имелось в виду?
— Левадный мне рассказывал, что на его родине, в лесах обитает один из интереснейших зверей — бобер. Это его работа.
— Неужели? Каким инструментом? — удивился Белобородов.
Троян в двух-трех словах раскрыл суть дела.
— Скажи, пожалуйста, даже бобры выступили против захватчиков — строят завалы… — восхищался Чапурин.
— В таком случае жить можно, — сказал Кирьяков. — Сначала минуем бобровые владения, потом обговорим их повадки. Механики, — газу…
Тропинка вывела через высокие травы к заболоченной речке.
— Положение не безвыходное. Форсируем водную преграду, не намочив обмундирование… — начал Троян приводить любопытные подробности из жизни бобров, выходя на гать из хвороста, которая пересекала речку в узком месте. — Под нашими ногами та березовая гребля, которую мы не нашли на речке Тня. Это сооружение из ветвей осины и березы. Бобровая работа. На топографических картах этой переправы нет…
Разведчики благополучно прошли через шаткое сооружение и стали подниматься в сосновый лес.
Майора Родина не оказалось на месте. Переехал на новый НП. Лейтенант штаба, выслушав доклад о результатах разведки, разрешил бойцам отдыхать, а старшину сам перевязал и увез с документами, образцами оружия и военного имущества, захваченных у врага, к майору Родину.
Кирьяков успел обернуться назад с мотоцикла, показав свою ослепительную улыбку:
— До встре-чи!
Слова прозвучали как-то слишком подчеркнуто, прощально.
Гридин, не задумываясь, повторил их с неожиданным прибавлением.
— Не забывайте нас, дорогой Дмитрий Иванович!
— Рубашка-мужик, хотя немножко и с закавыками… Ни в грош не ставит свою жизнь. Весь, без остатка, для других… — аттестовал кто-то про себя Кирьякова.
Мотоцикл, немного побуксовав на мокрой траве, резко сорвался с места и умчался прямолинейной просекой, окутываясь дымом.
После семичасового отдыха, бойцы не успели оглядеться, как согласно распоряжению лейтенанта, заступили в наряд. Пришлось вспомнить забытые за время войны армейские порядки несения караульной службы. Самохин охранял штабную палатку, Гридин — склад ГСМ, Троян убыл в медсанбат.
Неожиданно, ночью дежурный объявил тревогу.
Прибыли транспортные машины. Разведчики сдали свои посты, погрузили все имущество, бывшее у них под охраной, получили на трое суток сухой паек и в соответствии с распоряжением лейтенанта, отправились на передовую.
Противник свирепствовал артиллерийским и минометным огнем.
Отделение разведчиков во главе с вновь назначенным командиром рядовым Гридиным сменило в траншеях стрелков, которые срочно куда-то уехали.
В ушах каждого звучал требовательный голос лейтенанта:
— Фашистские захватчики рвутся к Киеву. Наша часть срочно уходит на новое направление. Нам приказано занять хорошо оборудованные и обжитые окопы и беспокоящим огнем, кочуя среди огневых точек, на широком участке, дезориентировать противника, не дать ему возможности догадаться, что у нас началась перегруппировка. Удерживать занимаемый рубеж до особого распоряжения.
— Ничего не понимаю… Столько пролито крови, чтоб войти в соприкосновение с врагом, всадить ему в бок такой чувствительный клинок и вдруг основные наши силы опять отрываются… — недоумевал Чапурин.
— Приказ есть приказ, — ответил Гридин таким тоном, будто дал исчерпывающее разъяснение происходящему.
Они заняли опустевшие стрелковые ячейки и организовали демонстрацию огня.
Когда в лесу стихло, все советские войска убыли, поздно вечером тихо спустился в окоп с палочкой Троян.
— Нет, я не дезертир, — успокоил он Гридина. — Отпросился… Медикам и без меня тошно — тяжело раненых, послеоперационных не на чем эвакуировать. Всем горячий привет от старшины Кирьякова. Его увезли в госпиталь для извлечения пули из плеча, которая давала о себе знать — начало температурить. От майора Родина — пакет…
Гридин вскрыл конверт. Прочел бумажку и объявил:
— Продолжать для видимости активно стрелять на всем участке… Покинуть окопы ровно через двое суток… Выступить по маршруту: Антоновка…- и он назвал ряд пунктов. — Конечная точка — Коростень.
— Странно, почему наш путь лежит на север? — спросил Самохин.
— Наверное, потому, что вблизи нет другой железнодорожной станции… Точно. Ура!.. Махнем на погрузку в эшелон за получением танков, — прогнозировал Чапурин.
Никто не возразил. В груди каждого вновь затеплилась давняя мечта.
Разведчики в течение двух суток бегали в траншеях до упаду, ползали в высокой траве между далеко разбросанными огневыми точками. Израсходовали много ящиков боеприпасов.
В сумерках тихого июльского вечера они незаметно оставила оборону, и двинулись по своему маршруту.
І з піснею на Коростень,
Там, де Щорсів штаб…
— в темпе марша запел Троян.
— Я говорил, что малина не опадет… Даром спешили…
— Гляди, ребята, наш Федот с утра пораньше уже что-то жует, а на заре еле вползал в свою ячейку, без задних ног… — сладко зевал и с кряхтением потягивался Самохин.
Слева и справа от него выглядывали из окопов, с осыпавшимися как в пустыне, песчаными краями, каски, пилотки, танкошлемы.
Чапурин вышел из кустов малинника и, сутулясь, медленно брел по зыбучему склону вспаханной снарядами возвышенности. Выбирал из пилотки ягоды и искусно бросал в рот, как семечки.
— Совсем не тот вкус, — кисло скривился он и сплюнул.
Друзья подшучивали:
— Чем не рад, Федот? Вишь, еще застал лакомство местной природы, не опала зрелая ягодка…
— А как он усердно рвался сюда! На подъемах, разбитых участках дорог — везде держал третью скорость, разлюли малина…
Так было до Коростеня, а как миновали железнодорожную станцию и свернули на юго-восток, Федот уменьшил газ.
— Ясно… Потому что разговоры о получении новой техники опять повисли в воздухе.
— Зато узнал, что на севере Украины есть такое сладкое географическое название, как Малин. Это в его окрестностях Федот нарвал полную пилотку малины. Небось, уже напросился в ближайшей хате на угощение и заедает ягодками…
— А ну, вас… — отмахнулся Чапурин и — про себя: — Ем, как свое тело…
— Не теряй, Федот, попусту времени. Лезь в свой окоп. Изучай, присматривайся к новой местности и представляй себе, что выглядываешь из башни нового танка… — говорил Самохин, сгребая лопаткой песок на свой бруствер. Наклонился и взял рукой какую-то широкую тесьму. Дернул ее и тут же отшатнулся назад. Это оказалась обмотка, которая при извлечении из почвы потянула за собою ногу в ботинке. Боец торопливо засыпал песком злосчастный предмет, неожиданно объявив: — Схожу и я прогуляться в малинник.
Чапурин и Самохин не обмолвились и словом, что в действительности волновало их в кустах малины. Они старались общими разговорами подавить в себе неуемное горькое горе — там, у первого малинового кустика желтела свежая могила боевого товарища.
Разведчики тяжело просыпались после короткой и бурной событиями ночи. Они жмурились перед первыми яркими лучами утреннего солнца, обозревая юго-западные склоны возвышенности, изрытой снарядами, авиабомбами. Окопы белели гребнями сыпучего песка и уходили вдаль, теряясь на равнине, среди массива таких же белых, пересохших хлебов.
Глубокие конусообразные ямы во многих местах прерывали оборонительные линии. Из полу засыпанных стрелковых ячеек торчали части разбитого оружия, виднелись лоскутья военного имущества, блестели на солнце то покореженный пулеметный магазин, то снятый красноармейский котелок, то продырявленный и развороченный осколками кухонный бачок, из которого вывалилась почерневшая каша, облепленная муравьями, мухами.
Песчаную почву на безымянном холме, будто кто-то перемешал гигантской лопатой вместе с неубранным урожаем колосистых хлебов. Изуродованные ржаные стебли выглядывали из почвы, как поломанные ноги крупных кузнечиков.
Казалось, вся природа вокруг прекратила свою жизнедеятельность. Только дальние кустарники темнели запыленной, чахлой зеленью.
Щуплый боец, в выцветшей на солнце гимнастерке, с васильковыми добрыми глазами, лежа на бруствере своего окопа, силился обосновать мысль о том, что в истерзанной осколками и пулями увядшей растительности жизнь все-таки не полностью истреблена. И в ней проявлялся односторонний характер, чувствовался дух времени. Перед его глазами, в опаленном огнем кустарнике, со скрученными листьями, что-то осторожно попискивало. Все виденное и слышимое казалось необычным. На нем лежала печать тяжких драматических событий. Вот, возле кучки камней, в блеклой траве, зашуршала ящерица, похожая на крадущегося лазутчика. Пресмыкающееся спугнуло зеленого кузнечика, который благодаря своей естественной маскировке, под цвет растений, не был виден до тех пор, пока не очутился на красной макушке цветка дикого клевера. Кузнечик, словно проснулся, и звонко застрекотал. Создавалось впечатление, что он старательно пилил что-то металлическое: ни дать ни взять Моторный отрезал ножовкой заусеницу от оси опорного катка, искореженного осколками снаряда. Где-то рядом отозвался собрат кузнечика, стрекотание которого напоминало отдаленный рокот мотора. В колючих ветвях шиповника какое-то насекомое застрочило, точно вражеский автоматчик. Возле уха пронеслась оса — точь-в-точь вражеская пуля, даже обдало лицо легкой прохладной волной воздуха. Басом прозвучал овод, напомнивший звук фашистского бомбардировщика. С искалеченных, как буреломом, стеблей пырея слетело пестрое «солнышко”; уселось на кончике ствола винтовки, по-видимому, не понравился горячий металл, или запах пороха, выпустило свои желтые крылышки и улетело прочь.
Боец осмотрел свой сектор обстрела, поводил стволом оружия влево, вправо. Небольшие кустики растительности в его поле зрения показались внушительными сучьями — мешали прицеливаться. Он срезал лопаткой спутанные стебли пырея, сизый куст полыни, отчего распространился резкий горьковатый запах, напоминавший развалины хуторка в степи, дом, выгон. Красноармеец коснулся бессмертника, который, как видно, накануне, вечером, был смят и вдавлен в почву каким-то широким колесом, и с утра пытался выпрямиться, влекомый к солнцу своими невянущими ветками с лимонно-желтыми цветочками. Боец улыбнулся и не стал рубить растение, наклонил кустистый стебелек в сторону, слегка прижав комом земли. Выздоравливай и живи на этом мертвом поле, коль имя дали тебе бессмертник, — шевельнул он потресканными губами.
Красноармеец смежил глаза и в воображении замелькали картины последних событий. … Из Коростеня разведчики выехали на юго-восток таким же порядком, как две недели назад к шоссе Новоград-Волынский — Житомир.
Вновь произошли встречи со многими сослуживцами, земляками.
— Чтоб выпустить железнодорожные эшелоны из Коростеня на юго-восток, надо выбить противника из станции Малин…
Эти слова командира, подобно взрыву тяжелого снаряда разнесли вдребезги мечты танкистов о поездке за получением новых танков.
Троян ощутил на своей спине сползание ручейков пота. Он вздрогнул — мгновенно очутился в состоянии, когда двигался по росистой траве по-пластунски в разведку.
Гридин машинально вытер холодный пот со лба, соленые капли которого также слепили глаза, мешали надежно заткнуть кляпом рот «языку», как это бывало однажды ночью…
Под Малин они прибыли в разгар боев.
Противник, захватив железнодорожную станцию, не давал возможности приблизиться к ней беспрерывными авианалетами, артобстрелами.
Пешие танкисты заняли исходные позиции ночью. С ходу начали окапываться на юго-западных склонах небольшой возвышенности. Приказ требовал: подготовиться и совместно с пехотой решительным ударом выбить немецко-фашистских захватчиков из станции Малин.
Беспрерывный вражеский артиллерийско-минометный огонь мешал прибытию советских подразделений, сосредоточению и ведению инженерных работ на подступах к станции. Среди танкистов еще до выхода в заданный район были жертвы.
Разведчики приняли участие в подготовке данных для нанесения контрудара по врагу.
Они успешно выполнили ночное задание во вражеском расположении и скрытно пересекли хорошо накатанную дорогу, которая соединяла станцию с вновь создаваемым гитлеровцами складом боеприпасов. Обошли стороной новые позиции тяжелых минометов противника. Командир разведотделения Гридин тщательно заносил на схему все разведданные. Бойцы тем временем отдыхали в глубокой канаве.
К Гридину подполз щупленький красноармеец в длинной, как халат шерстяной гимнастерке.
— Товарищ Костя, — послышался над ухом хрипловатый фальцет в тоне компромисса между официальным докладом и фамильярностью, — я имею вам сказать два слова. Первое, спасибо, что вы не помните зла за прошлое… Мы случайно встретилась тогда, на гражданке, на узкой дорожке… Докладываю, что ваша Надя — чистый ангел. Она на второй день, после того памятного вечера, у закрытых ворот, при всем честном народе нашего двора шлепнула своей ручкой по моей недостойной харе. Будучи человеком, сугубо справедливым, я низко ей поклонился — в знак благодарности за науку… — Марек вытянул руку в сторону и нащупал в канаве плечо Трояна. — Петро, и тебя касается, слушай мое второе слово, — хотя тот лежал рядом и все слышал без приглашения. — Помогите мне, земляки, на обратном пути хотя бы в маленькой мере отплатить фашистским гадам за ноги Коськи, который так и остался во Владимире-Волынском — ох, там, тот компот творился! Хочу отомстить также за смерть Медведева, моряка, всех наших… Что я имею в виду? Вот что… Помните то место, где мы перевалили через железнодорожную насыпь? Справа есть сад, в нем я заметил палатку. Вы будете проползать мимо, а я немного отстану. Когда увижу ваши головы на полотне железной дороги, забросаю вражескую палатку гранатами и догоню вас …
— Это не входит в нашу задачу, — сухо буркнул Гридин. – Когда разведчик отклоняется в сторону от намеченного маршрута, он как улитка оставляет во вражеском расположении очень заметный след.
— Почему, Костя? Не отвергай с порога интересную мысль, — вмешался Троян.
— Добро, — подумав, согласился командир отделения. — Когда будем проходить мимо сада, я на месте решу, как быть.
Двигаясь назад, разведчики заметили в лунном сиянии, среди фруктовых деревьев, светлый конус палатки. Возле нее мелькала тень часового, в каске, с автоматом на груди. Гридин не мог устоять перед соблазном захватить «языка». Поэтому удовлетворил просьбу Марека и Белобородова бесшумно напасть на гитлеровца. Сам взял на себя задачу прикрывать их действия. Трояну со стальными бойцами приказал уползать к насыпи, залечь перед ней и чтоб не допустить перекрытия врагом выхода к своим, ждать прибытия тех, кто остался сзади.
Так и поступили.
— Товарищ Костя, — с хрипотцой прорывался компромиссный фальцет над ухом командира отделения. — Я делаю правый поворот. Все, вас понял, сделаю шито-крыто…
Действия по захвату «языка» начались. И «шито-крыто» не получилось…
Гридин с винтовкой наизготовку, не спускал глаз с вражеского часового. Его сразу удивило, что тот ушел необычно далеко, в сторону от охраняемого объекта — палатки. Остановился. Снял автомат. «Неужели фашист обнаружил разведчиков и что-то замышляет против них? Медлит, прислушивается…» — терялся в догадках Гридин. Тем временем гитлеровец продолжал удивлять все сильнее. Повесил свое оружие на сук дерева, расстегнул штаны и сел. Гридин сгорал от нетерпения. Ему так и хотелось самому броситься вперед и воспользоваться оплошностью врага. «Куда пропали разведчики? Почему медлят?..» — спрашивал он себя.
Наконец, в месячном свете вросли две тени. Одна сверкнула штыком перед носом занятого своим делом гитлеровца. Вторая сняла с дерева вражеский автомат. Бывший часовой в каске поднялся со вздетыми кверху руками. Сделал несколько неуверенных шагов вперед, в направлении к отступавшему назад штыку и навстречу стволу бывшего своего автомата, направленного второй тенью под козырек каски. Штык исчез. Один из разведчиков подошел к солдату, который не опускал рук, ощупал его кругом, повернул назад. Сделав шагов, пять, оба остановились, наклонились к земле, будто что-то ища. Послышался крик. Из палатки выскочили гитлеровцы. Сад огласился истерическими возгласами, стрельбой. После взрывов двух гранат палатка исчезла вместе с развеявшимся дымом. Вражеские тени метнулись вглубь сада. Гридин бросился к разведчикам. Увидел троих: двое бежали ровно, а третий падал, отчаянно упирался, кричал.
Командир отделения подскочил на помощь.
Морщась от страшного зловония, Гридин заткнул рот пленного своим носовым платком. Тот затих — смирился со своим пленением.
В дымной месячной мгле люди бежали к железнодорожной насыпи. Каждый будто прощупывал впереди себя путь двумя-тремя своими тенями, которые лучеобразно расходились от ног, быстро перемещались, покачиваясь — следствие появления над головами нескольких вражеских ракет. В бегущих, казалось, впивались с разных сторон огненные строчки пуль.
Вот тени достигли насыпи, переломились на ней и начали прятаться в низине, на противоположной стороне. Одна из них остановилась на рельсах, качнулась влево, вправо, ослепив ближние вражеские вспышки взрывами гранат. Затем выпрямилась и, как бы ни спеша, двинулась в полный рост, в след за группой.
Когда голова замыкавшей тени уже достигла маскировочных веток на бруствере своих окопов, вся фигура вздрогнула, закачалась, согнулась и присела. Еще раз поднялась, шагнула с насыпи, перешла на бег и тут же упала.
…На увядшие ветви малинника беспомощно свалилось тонкое, как молодой малиновый побег, тело бойца. Его предсмертный голос заглушили громкие шуршания — в окоп тяжело сползали двое — и возгласы:
— О майн гот… Кранк…
— У-у!.. Ирод фашистский… Саданул больно по идолам…
Кто-то осветил обоих, оказалось, что возбужденные слова принадлежали раненым в последнюю минуту – «языку» с бульдожьим, чем-то вымазанным лицом и красному взбудораженному Мареку.
Еще не стихла перестрелка, а Гридин уже докладывал командиру о результатах разведки, поддерживая пленного с забинтованной головой.
Через полчаса командир разведывательного отделения нашел своих товарищей на опушке малинового кустарника. Чернела свежая яма. Рядом бойцы печально смотрели на бескровное лицо Белобородова, залитое бледным лунным сиянием. В уголках рта застыли выразительные складки — неповторимо своеобразная улыбка.
— Как жаль такого славного парня. Маленький, шустрый, в любую дырку мог пролезть… А улыбочка? Уменьшилась наша семья… Быстро истек кровью… Лучше б меня, медведя, задело, из моей системы не скоро вышла б кровь — цедилась бы не менее трех дней… — сокрушался Чапурин.
На краю ржаного поля, в тени кустарника, вырос холмик.
В головах похороненного разведчика оказались яблоня — дичка и кустистая малина. Гридин прикрепил к яблоневому стволику пятиконечную звезду, вырезанную из консервной банки, фанерную табличку со скорбной надписью (демографические данные, дата смерти бойца) и, задержав взгляд на мелких и зеленых плодах яблони, рдяных гроздьях малины, с трудом превозмогая тошнотворный привкус во рту.
Это неприятное ощущение началось еще вчера, в дыму и пыли бомбежек, артобстрелов, при виде обилия крови, и не проходило всю ночь. Иногда тошнота доходила до рвоты. Кто-то посоветовал: мол, затянись махорочной цигаркой раза два, три и все пройдет. Пробовал — не помогло.
И тут он запустил руку в густые, и колючие ветви малинника. Выбрал несколько гроздей нежной ягоды. Стал жевать и от неожиданности отпрянул от куста, морщась: сочная и спелая малина казалась не слаще полыни.
— Что невкусно лакомство? — приблизился к нему Троян.
— Удивляюсь, Петро: то, что раньше было сладким, теперь стало горьким.
— Да, Костя, нынче горькое лето.
Друзья направились к носилкам, на которых лежал боец с забинтованными ногами. Сели возле него.
— Ой, спасибочко, землячки. И почему я раньше не узнал вас так близко?.. Я доложу вам за то, как мы брали с покойным Сашкой Белобородовым фрица. Только заранее уговор: пусть этот шухер останется промежду нами. Дело было так…
— Когда фашистский часовой сел справлять свой стыд, мы подползли к нему с двух сторон. По моей команде, одновременно, я за автомат – цап, а Сашка ему штыком к горлу — штрык. Мною было сказано фашисту на его языке три слова: «Молчание — получишь жизнь». И он, паскуда, согласился, молчал. Почему мы не кинулись на него вязать, затыкать рот тряпкой? Потому, что не хотели вывозиться в арийском дерьме. Черт меня дернул сработать культурно…
— Во время выгрузки его карманов, падлюка брезгливо ворочал носом, давая понять, что от меня воняет, «Ах, так, — вспылил я, — загадил нашу землю, да еще и привередничаешь, корчишь из себя черт знает что?! Сворачивай назад. У нас, на Молдаванке, каждая собачка-дворняжка знает, что после испражнений положено лапками старательно засылать свое «золото». Или, когда бывает, неопытная кошка напачкает в неположенном месте, хозяйка берет ее за шкирку и тычет мордой в пачкотню до крови». Фриц понял наши культурные порядки и не возразил. Я снял с него каску — она ему была уже без надобности, — взял чистоплюя за гриву и харей стал тыкать в его гадость.
На худом лице Гридина проползла скупая ухмылка. Для него это тоже, что для Самохина или Трояна взяться за бока от смеха. — Но, видать, я маленько переборщил, — продолжал моряк, — мой культурный фрицик заорал. Мы с опозданием убедились, что мое перевоспитание помогает горбатому так, как мертвому кадило. И начался шухер. Я его — в ухо. Он еще пуще орать. Перепоручил добычу Сашке, а сам, в нарушение вашего приказа, разнес гранатами фашистскую палатку вместе с ее сонными фрицами.
— В пути к насыпи я так разозлился на своего вонючего «языка», что брезговал прикасаться к нему. Планировал за железной дорогой допросить «завоевателя» вместе с вами и окончательно вынуть из него фашистскую душонку. Но в последний момент перестрелки меня ранило…
— Вот главное, что я хотел сказать… Кругом виноват — зашухерил всю нашу малину… Но не будем за это громко говорить. Дело не исправишь. Сашу из гроба не вернешь. Моя песенка спета — я пойду за Коськой… А вам для будущего надо знать всю правду за мой промах. Основное — никогда не пытайтесь перевоспитывать фашистов. Самое правильное было бы — всех их к ногтю и баста! А для этого, Костя, дарю тебе оружие-люкс, которым я не сумел воспользоваться. В головах мои сапоги, вынь из внутреннего чехла голенища серебряную рукоятку…
Гридин осторожно достал загадочный предмет. На ладони сверкнул как змея, маленький, изящный кортик, с рукояткой, украшенной драгоценными камнями.
— Что, убедился, Костя? Взял в руки — маешь вещь… Советую впредь «разговаривать» с фашистами только этим длинным, тонким дамасским язычком…
Когда Марека унесли санитары, Гридин, глядя на своих товарищей, впервые в жизни закурил. Задохнулся, завелся кашлем, но продолжал неистово втягивать в себя едкий махорочный дым. Голова закружилась, в глазах потемнело. Закачался, как пьяный, но узнав от связного о вызове к командиру, твердо зашагал на НП по рыхлому, увлажненному росою, песке.
Новые хозяева с утра дали о себе знать.
На опушке малинника звонко опробовал свой металлический голос танковый «дегтярев». В центре возвышенности бойко заявил о своем появлении «максим» — отрывистым покряхтыванием будто прочищал от песка и пыли свое стальное горло. На левом фланге, из хлебов, отозвался автомат — точно сердитый перепел. В ближайшем тылу взвизгнул какой-то изношенный стартер, сообщив плавное, с нарастанием, дыхание мотору. За ним мощно вздохнули несколько пушек, отчего земля так вздрогнула, словно на нее сбросили какую-то тяжелую ношу. Над возвышенностью незримо прошелестели снаряды. За темно-синей железнодорожной посадкой они с раскатистым треском взорвались. На западном небосклоне показался рой белых дымков. Это захлопали зенитки — будто косари проворно клепали свои косы.
Сторона противника, как обычно, обозначилась дымками, загрохотала разнокалиберной пальбой.
На оголенной возвышенности, среди хлебов, взметнулись в чистое небо черные фонтаны взрывов. Напротив танкистов — разведчиков вражеские снаряды со зловещим шипением впивались в почву, вспучивали ее и многие будто задыхались в ней, умолкая. Бойцы притихли в ожидании оглушительного грохота, дождя осколков, облаков пыли. Но в ушах долго звенело напряженно — тревожное гудение.
— Что за черт?.. — ругнулся Чапурин. – С перепугу выронил ножик и не могу найти. Почему гитлеровские поросята зарылись в земле, дышат паром и не взрываются? — показал он на холмики перед бруствером, с которых, как с живых, ручейками стекал песок и струился дымок.
Моторный дернул коллегу за гимнастерку вниз:
— Опять засматриваешься на штучки… Эти с замедленным действием, как бы ни шарахнули. Снаряды не бывают с твоим характером, у них детонатор срабатывает мгновенно.
Моторный хитровато посмотрел на всклокоченную шевелюру товарища, забитую соломой, колосками и отпарировал:
— Боюсь зажигательного — заденет твою голову, вспыхнешь, и мне достанется.
— Сейчас авиабомбы присыпят песочком все легковоспламеняющиеся вещи, а вот ты…
— Будя, механики, оба заводитесь с полоборота. Я считаю, что фашист долбанул по советским танковым подразделениям, согласно своей инструкции, бронебойными снарядами, — подвел итог спору Самохин. Кто-то сенсационно объявил:
— Хлопцы, погляди, будто Филипп из конопли — гульк и заявилось ясно солнышко…
— Ах, это Бабак… Кому с утра пораньше кланяешься своей пустой головой? — перенес Чапурин огонь на вновь прибывшего в окопы.
— Не пустой, а голой, стриженой. В медсанбате была такая парикмахерша, что ты ежедневно ходил бы к ней стричься. И я вовсе не кланяюсь, а выполняю приказ начальства — не демаскирую светлыми предметами наши позиции.
— Все выходит по науке, правильно, — иронически согласился Самохин. — Что-то не видно твоего дружка, Мотылькова, не пал ли он смертью храбрых?
— Он порядочный проныра и вовсе не мой друг, — сделал обиженный вид Бабак.
— Вас обоих надо бы распатронить за слишком ушлые дела… — погрозил пальцем Чапурин.
— На фронте случаются разные дела… — в тоне возражения начал Троян. — Когда я вчера ходил за кашей, узнал интересную новость — бомбежка помешала рассказать вам. Наши Мотыльков и Бабенко совершили в тылу героический подвиг.
— Ну?.. А мы склоняли их на все лады… — не вытерпел кто-то.
— Да… Говорят, они как-то сумели ночью, световыми сигналами заманить севернее Малина гитлеровский транспортный самолет, который сбросил в наше расположение массу продовольствия, боеприпасов, бензина … Все это предназначалось какому-то фашистскому десанту. После того, когда самолет разгрузился, его сбили — ни то Мотыльков и Бабенко, не то зенитчики. Пока идет спор. Во всякой случае, командование представило отличившихся танкистов к правительственным наградам. Так, что скоро у нас появятся первые орденоносцы.
Бойцы бурно реагировали на невероятное известие:
— Такое наговорил, что и собака с маслом не съест. Такого быть не может…
— А хоть бы и произошел случайный эпизод, то это не значит, что у командования нет других дел, как наградные составлять… Кирьяков, Медведев, Левадный, Белобородов больше сделали и то не отмечены…
— Действия старшины Кирьякова и других товарищей сплошь окружали неудачи, а эпизод с самолетом сверкнул чистой удачей…
— По-твоему, законно, что никто среди нас не отмечен.
— Неправда, нас неоднократно поощряли. Сколько раз начальники благодарили за образцовое выполнение заданий, даже вином угощали…
— Верно. И все это по горячим следам… Поэтому, осталось в памяти на всю жизнь. Награда дается малоизвестным людям, а Кирьякова и так все знают…
Гридин и Троян потянулись за кисетами с махоркой — Малин заставил их курить по-настоящему. Втянулись как-то случайно, несознательно, а чтоб бросить — не было толчка извне. Наоборот, Бабенко помог — принес в окопы махорку вместе с обедом и стал раздавать пачками, всем, без нормы. Объяснял, что из-за потери связи воинская часть длительное время не состояла на плановом довольствии, а теперь получено всего много и приказано обеспечить в первую очередь людей переднего края.
Троян утопил в песке толстый окурок и принялся записывать что-то в своем замусоленном блокноте.
Гридин сидел на краю окопа, продолжал безо всякого аппетита сосать свою неумело скрученную из газеты цигарку, смотрел в сторону невидимой в зелени железнодорожной станции и думал о той, как ему казалось, случайности, которая задержала танкистов под злополучным Малином. Из Коростеня у всех было настроение отправиться железной дорогой за танками. Случилось непредвиденное: враг в районе Малина перерезал железнодорожную линию. Что ж, логично: надо сначала расчистить путь для воинского эшелона…» — успокаивал себя боец.
Все, что Гридин наблюдал в последние дни на фронте, с чем он сталкивался, мало увязывалось с его привычными представлениями, убеждениями. Больше всего не укладывалось в голове то, что под угрозой оказался Киев. Не хотелось этому верить. Ему казалось, что от такого известия попахивает провокационным душком. Боец, боясь, пасть духом, мобилизовывал на помощь всю свою волю. Перед ним вставали образы отца, Дорофеева… Они и в невозможных ситуациях находили единственно возможные выходы. Эти светлые личности озаряли ясную перспективу в смутной действительности, не позволяли тускнеть радужным надеждам, которые теплились в голове, душе юноши.
Раздумья Гридина нарушил гул, который поднялся одновременно, как по тревоге, в стане противника. Вражеская артиллерия загрохотала залпами.
— Неприятна эта музыка на голодный желудок, — отозвался Чапурин. — Что-то сегодня наши хозяйственники мешкают с завтраком.
— Вон, везут… — глазами показал Самохин на юго-западную часть неба.
В чистой лазури, низко над горизонтом, вырастали черные точки. Мало-помалу, они начинали поблескивать на солнце. Воздух колебался от тяжелого, прерывчатого гудения.
— У-у-у!.. У-у-у!.. Везу-у-у!.. Везу-у-у!.. — передразнивал Самохин.
— Прямо сюда прет нечистая сила. С утра не дает вздохнуть свежим воздухом… Не успели окопы расчистить… — сетовал Чапурин.
— Много летит? — спросил кто-то.
— Ни много ни мало — по одному на брата…
Вражеские бомбардировщики привычно начали разворачиваться против солнца и друг за другом ринулись в пике. Земля застонала, заходила под ногами. Воздух всколыхнули душераздирающие взрывы. Больно ударило в барабанные перепонки. Над окопами поднялись тучи пыли. Одновременно затявкали мины, с треском рвались снаряды. Кругом тяжело шлепались осколки, сыпался песок.
Как только исчезли из виду бомбардировщики, в небе застрекотал фашистский разведчик. Затем с металлическим визгом и пулеметной трескотней носились «мессершмидты». И вновь — бомбовозы.
Группа вражеских самолетов развернулась над плантацией хмеля. Зеленый прямоугольник, огражденный высокими жердями, увитыми изящными гирляндами благоухающих цветущих растений, окутался дымом и пылью.
— Чем хмель ему помешал? — негодовал кто-то.
— Вчера там стояли наши кухни, — ответил чей-то свежий голос.
Все повернули головы в сторону нового человека. В ходе сообщения стряхивал с себя пыль Мотыльков, продолжая:
— На ОП артиллеристов есть завтрак. Я доставил с помощью соседей. Пошлите кого-нибудь…
— Сам принес бы, раз стал хозяйственником, — поддел Самохин.
— Таковых, к вашему сведению, сейчас нет, — казенно-знающим тоном отрезал Мотыльков. — Весь личный состав штабов и тылов двинулся на передок, в окопы…
— Понятно — раз ты здесь, то ожидается что-то интересное…
Ходы сообщений заполнились разношерстными людьми, начиная от чистеньких писарей и кончая замасленными комбинезонами ремонтников. Отрывисто звучали команды, распоряжения.
Бойцы сводного подразделения усиления энергично и спешно заработали лопатами, штыками, кирками. И не напрасно: со стороны железнодорожной посадки выкатывались цепи вражеской пехоты.
Сосредоточенный огонь советской артиллерии рассеял еще на дальних подступах к переднему краю атакующего противника.
После очередной обработки позиций танкистов повторилась вражеская атака, и опять безуспешно. Наряду с бывшими экипажами боевых машин работники тылов и штабов показали себя в бою с наилучшей стороны.
Гитлеровцы целый день сыпали, как из бездонного мешка, снарядами, минами, бомбами. Но советские позиции оставались неприступными.
Землю окутала теплая августовская ночь. Утомленные воины отложили в сторону оружие и взялись за ложки, котелки. И вечерняя трапеза не обошлась без вмешательства незваных «гостей» — темные траншеи, хода сообщений щедро освещались ракетами.
— Возражать нечему — культура и забота о людях, которые изрядно потрудились — шутил кто-то — Фриц иллюминирует, не стреляет — просто курорт…
За передний край на ночь были выставлены усиленные секреты, наблюдатели. Командиры и политработники требовали, чтоб бойцы в окопах основательно отдохнули.
С рассветом заговорила советская артиллерия. Под ее звуки группа старших начальников, среди которых был и майор Родин, разъясняла бойцам в траншеях боевую задачу. Все узнали, что предстояло участвовать в нанесении мощного контрудара по врагу в целях облегчения участи Киева.
Враг познает под Малином, что война — вовсе не малина. Нам выпадает честь всадить кинжал под самые жабры фашистскому хищнику, который рвется к стольному граду древней Руси — Киеву… — звучал голос майора Родина. — Надо здесь так ударить, чтоб воодушевляющее эхо услыхали защитники столицы Советской Украины.
Быть в числе тех, кто отстоял Киев! Это окрылило каждого, кровь забурлила, чувство гордости вызвало новый прилив сил, энергии.
Способ действий, выраженный словом «ударить», был у всех на устах.
— Ударить» — это самый, действенный, сокровеннейший из всех глаголов… — восхищался Троян.
— Это — дело, я понимаю, разлюли малина! — воскликнул Чапурин.
Все воины несказанно обрадовались хорошей новости.
Бодрящая музыка артиллерийской канонады еще выше подняла настроение бойцов.
— Отродясь не слыхивал такой захватывающей симфонии! Какое богатство вариаций, тонов, полутонов, нюансов! — восторгался Самохин.
— Разве 22 июня, под Владимиром-Волынским мы слышали артподготовку? Со стороны Буга был внезапный бандитский истерический налет. С — поспешно занятых огневых позиций нашей артиллерии слышались не плановые выстрелы, а вынужденные… Теперь заранее организованные залпы диктуют: «Танцюй, враже, як пан каже»… — подпрыгивал чей-то танкошлем выше бруствера.
— Ого! Наша матушка-артиллерия гвоздит уже более часа: грохот, как в механической кузнице. Дух захватывает… Поглядите, все летит на станции вверх дном… — делился впечатлениями на ходу связной.
Действительно, над зелеными купами деревьев, в клубах дыма поднимались высоко в воздух куски шпал, рельсов, обломки каких-то машин.
— Такие тяжести может ворочать только мощная, дальнобойная артиллерия — комментировал Самохин. — Взглянули бы, но все это фомы неверующие… Выходит, есть у Красной Армии огневая сила!
Наконец, на склонах высоты прокатилось красноармейское «Ура!»
Закурилась пыль под ногами сотен людей. Живой поток быстро смывал, очищал израненную землю. Вот низина — ничейная полоса. Первые кустики придорожных насаждений. Крутой подъем на железнодорожную насыпь. Под ногами — развороченное снарядами дорожное полотно, искореженные рельсы, расщепленные шпалы, разбитые ящики, россыпи гильз, патронов, грязно-зеленые трупы врагов. И только на спуске в картофельное поле бойцы увидели живых гитлеровцев. За пожухлыми ветками маскировки, среди желтых холмиков земли мелькнули темные каски, и сразу, в упор — ружейно-пулеметные выстрелы.
Среди атакующих, даже если бы кто-либо вздумал остановиться, то не смог бы — все неслись единой, монолитной волной. Перед их глазами — ясно видимые цели, плохо замаскированные огневые точки.
Гридин во главе разведотделения мчался на левый угол поля, где белел частокол увядших берез. Разведчик знал — там огневые позиции минометов. Они проскочили ломаную цепочку стрелковых ячеек, над которыми кое-где взвивались ни то дымки, ни то пыль. И только когда стал замедляться бег, участилось дыхание, слух улавливал повизгивание пуль. Колени начали подкашиваться. Но цель впереди тянула к себе, как магнитом. Кое-кто путался в ботве, падал. Гридин метнул гранату. Вслед за ним энергично взмахнули руками и другие. ”Лимонки” разнесли в нескольких местах маскировочные щиты…
Бойцы не успели опомниться, как очутились на огневых позициях минометов.
Несколько чужих, истерических воплей и Гридин объявил:
— Готово! Занять круговую оборону. Помочь огнем сводной роте.
Вскоре он заметил двух бегущих к ним бойцов. Переднего узнал.
— Бойко, где ты взялся? Куда тебя несет?
Черномазый связист поднял с земли желтый телефонный провод, второй рукой указывая на дальнюю грибообразную рощу:
— Там — наблюдатель… Я сниму, пусть Мотыльков не мешает, — и он кивнул назад, на своего напарника.
— Уже не боишься кабеля?
— Так это же не наш… Он выведет на важную цель…
— Мотыльков успел затесаться в связисты — симфония! — удивлялся Самохин.
— Бойко, не будь индивидуалистом, действуй на пару… — выговорил Гридин и, заметив на подходе бойцов сводной роты, добавил:
— Мы двинем туда же, обходным путем, поддержим огоньком…
Когда разведчики уже зацепились за крайние деревья рощи, земля встряхнулась от взрывов. За их спинами заклубились вихри песка, пыли. Оглянулись — там, где двигалась сводная рота, выросли черные высокие столбы земли. Слух поразил душераздирающий вой вражеских пикировщиков.
И только далеко за железной дорогой, наступающие столкнулись с непреодолимым заслоном вновь подброшенных гитлеровских войск.
Бой не прекращался и глубокой ночью. Танкисты, разведчики в пешем строю настойчиво рвались на выручку Киева.
Измученные многодневными, беспрерывными боями советские воины в своем стремлении вперед меньше всего опирались на расчетные данные о соотношении своих и фашистских сил. Они неслись на крыльях своего боевого духа.
Враг вынужден был перегруппировать свои части и соединения.
Днепр сурово хмурился, тревожно зыбился.
Из-за леса, на противоположном берегу, поднимался месяц. Поверхность реки в ровном лунном сиянии засверкала бесчисленными бликами.
Бойцы устало растянулись на краю высокой кручи. За спиной грохотала канонада, а перед глазами, далеко внизу, где спокойно катились темные волны, слышались всплески рыбы, мерцали круговые отблески.
Троян лежал на влажной траве, всматриваясь в прибрежный туманный мрак. На его душе было так же смутно, как и в речной, месячной мгле. Рядом — Гридин. Оба повернули головы направо. Там, вдали, над речным пространством, темнела длинная нить моста. Его средина, казалось, то и дело разрывалась — галлюцинации способствовала игра лунных отсветов в зеркале реки.
Путь бойцов лежал к переправе.
— Все… Эта река должна стать рубежом… — отрезал кто-то в темноте.
— Если из опыта прошлых рубежей, то мы от горя за речку — а оно стоит на берегу… — хрипел чей-то разбитый голос.
— Кто скажет, когда всему этому наступит конец?..
Пепельно-туманная темень молчала.
Никому не хотелось отвечать. Одни и те же слова набили оскомину.
Гридин, чтоб не вступать в неприятный разговор, встал и побрел вдоль берега, в направлении призрачного моста. Когда на нем стали различаться скользящие тени, боец сел на шершавый пень. Устремил невидящие глаза в реку, крепко зажав ладонями голову. Ему хотелось утишить шум беспокойных мыслей, которые все сильнее и сильнее бурлили в мозгу, подогреваемые нарастанием гула канонады. Неужели ненавистный грохот взбудоражит и тихие берега Славутича? Бойца не тянуло к мосту. Ноги сами как бы врастали в землю.
Троян, следуя берегом за другом детства, остановился возле огромного камня-валуна. Облокотился на него и залюбовался отражением ночного неба в реке. Его слух улавливал из-за ближних кустов обрывка фраз:
— Не будь похожим на того червяка, который залез в хрен и хвалится, что ему приятно… Открой свои глаза: нас угоняют за Днепр… Наше дело окончательно проиграно… — слышался заговорщический с придыханием тенорок.
— Ничего не будет. На Днепре остановка. Глянь, какая преграда, — отвечал сиплый, с брюзжанием голос.
— Будет. Попомни мое слово. Всем нам конец. Вон, взгляни — звезда упала. Еще чья-то жизнь угасла…
— Не базикай. То не звезда. Ты должен больше меня знать — в городе учился. Я волам хвосты крутил и то знаю, что в атмосферу влетает всякий космический мусор, который от трения воспламеняется и становится, виден с земли. Теперь, в начале августа, много сыплется таких «звезд»…
— Мне это известно… Не читай мне книжных истин… — ершился тенорок с придыханием. — Все осточертело. Хочется чего-то нового… Невольно лезет на ум сопоставление нашей катастрофы с катаклизмами во Вселенной…
— Что такое? Какой еще клизмы тебе захотелось?..
— Туман ты беспросветный. Не видишь, что наш строй рухнул? Кричали, шумели о пятилетках, о разгроме врага на его территории, о мировой революции… А на поверку вышел мировой скандал. Красная Армия разбита. Сколько грохотали под Калином, а что толку? Не дошли до Киева. Опять повернули на восход солнца.
— Да… Всего тебя, маменькиного сынка, закормленного сливками, надо просифонить клизмой, вплоть до мозгов, чтоб дурныци не молол…
— Если вдуматься, то так оно и должно быть, — продолжал тенорок, не слушая собеседника. — Во Вселенной совершаются не такие трагедии.
— Я изучал — не то, что ты… В глубинах космоса находится в постоянном движении сотни миллионов солнечных систем, подобных нашей. Многие из них взрываются. Гибнут целые миры, испепеляются высокоразвитые цивилизации. Наша Земля — песчинка… И никто не может дать гарантии, что и она в один прекрасный момент не может быть подхвачена космическим вихрем. Так, что наш разгром — ничто … Моя и твоя жизнь в этих процессах — пшик…
— Не тямлю, что из этой заумности следует…
— А то, что не нужно сознательно, заранее совать голову туда, куда не следует… Ты со своей трехлинейкой завтра, здесь, на Днепре нечего не изменишь… Все рассыплется. Народ разбежится по домам.
— Что? Да наших людей так же нельзя разъединить, как нельзя расплескать, раздробить воды Днепра на отдельные капли…
— Ты дуже грамотный, але не друкованый… Всяк знает даже из бабкиных сказок, что мы непобедимы… И, кроме того, наши братья по классу за рубежом не допустят, чтоб Гитлер победил.
— На свете нет братских чувств. Вон эмблема человечества, на месяце. Видишь, брат брата поднял на вилы. Так, что братоубийство…
— Доучился ты до ручки. Норовишь с неба звезды хватать, а под носом не видеть… Наверное, не своим умом дошел…
— Кое-что читал, запретного… Людей умных слушал и порешил: дальше Днепра не пойду. Вернусь домой… Родных повидаю, а то, кто знает?..
— Да… Грамотный, чистенький, а воняет от тебя, как от Берковых штанов…
— Это ты брось. Не сравнивай меня с мелким торгашом.
— Почему? Берко — бывший нэпман, имел брынзарню, при колхозах носил в бездонных карманах своих штанов селедку по селам, продавал и распространял слухи, что советский строй долго не продержится. Он весь так вонял нэпманской брынзой, селедкой и еще чем-то, что стал нарицательным типом среди селян. Помнишь, когда Берко достал тебе велосипед — это была первая машина на селе, — то ребятишки перестали с тобой играть. Все говорили, что от тебя воняло, как от Берковых штанов… Так, что ты — осколок мелкого торгаша, кулака…
— Ах, вон, какая ты тихоня!… Мешок с кукурузой, мамалыга…
— Не ерепенься, а то двину…
— Может, донесешь?.. Или завидуешь, что я побываю дома?
— Бесполезно спасать того, у кого не все дома…
— Ну — ну… А то расскажу твоим родным, каким ты стал…
— Я запрещаю заходить к моим родителям… И тебя знать не хочу…
Странный диалог перебил Моторный, который бежал вдоль берега, поднимал бойцов, звал всех к Гридину. Когда боец возвращался назад, Троян спросил:
— Не пропустил кого-либо спящего в кустах?
— Нет. На отшибе кимарили Бабак и Бойко — твои земляки. Вон, плетутся, как неживые.
— «О, ужас, какое открытие!.. — чуть не вскрикнул Троян. Ну, гнилые тирады избалованного маменькиного сынка Бабака не удивительны. А рассуждения Бойко — поразительны. Еще в школе учительница говорила о нем: «Не з губи мови, не в носу вітру». В бою под Малином и в эту трудную минуту он доказал обратное…”
Когда спорщики-земляки подошла к группе бойцов, Троян присоединился к ним и затеял отвлеченный разговор.
Разведчики подошли к мосту. У арки стоял часовой.
— Кому положено, уже на том берегу. Остальных приказано задерживать и — точка, — преградил боец винтовкой дорогу.
— Мы никуда не рвемся. Ищем своих… Где ваш начальник?
— Начальство мне не докладывает…
— Это еще, что за претензии к старшим? — внезапно выросла из-за перил моста фигура с котелком в руке и длинным удилищем. — Матюхин, почему на посту разговариваете с посторонними? Уши развесили…
— Я требовал… Разрешите положить их на землю?..
— Вас не спрашивают, что вы требовали… И не лезьте со своими дурацкими предложениями…
Троян узнал грозного человека. Молодцевато отдал ему честь.
Тот небрежно махнул рукой возле уха и отвернулся.
— Товарищ сержант, опять не узнаете? — вежливо напомнил Троян о себе.
Лицо, уши, вся неуклюжая фигура младшего командира в месячном сиянии приняли четко выраженные вопросительные формы.
«Бедняга, так и не освободился от неразрешенной вопросительности в своем облике”,- посочувствовал Троян и — громко:
— Мы — бывшие танкисты. Помните горынские леса, реку?..
— Полковой комиссар Дорофеев здесь? — горячо вмешался Гридин. Подошел к сержанту и — нетерпеливо: — Очень долго удивляетесь, дорогой наш боевой друг, не мучайте душу, где комиссар?
Наконец, брови сержанта опустилась, складки на лбу разгладились, фигура выпрямилась, потеряв признаки вопросительности. Уронив на землю котелок с рыбой, удилище, он бросился здороваться, обнимать танкистов.
— Как же иначе, братчики? Все здесь… И полковой комиссар живой. Сейчас он там, на передке, воюет… Какими судьбами вас опять занесло к нам?
— Гора с горой не сходятся…
— Не фрицам, а нам следует расширять жизненное пространство… В самом деле, мир оказался настолько тесен, что нам с вами никак не разойтись, везде встречаемся, — подхватил Самохин.
— Мы воюем рядом с вами… Правда, плохо бьем врага, иначе чаще встречались бы, обедами угощали бы друг друга… Ох, как подвело живот и во рту пересохло, — многозначительно обратился Чапурин к сержанту.
— Нынче не до чарки… — вздохнул сержант. — И без нее, горькой, ежедневно хлебаем такие ушаты горя, что в себя некогда придти. Кажется, никогда в здравом уме не бываешь. Подумать только — до Днепра дотопали… Ума не приложу, что будет дальше? — и на его лице, лбу вновь стала вырисовываться вопросительные закругления. И бледные уши напротив месяца засветились знаками вопроса.
Сержант скреб пятерней затылок:
— Этот мост — на стыке двух воинских частей. Пока начальники ушли разбираться, кому за него отвечать, я тут временно комендантом… — обернув голову к часовому, он повысил голос: — Матюхин, бегом в мою палатку. Тащи из нее все съестное сюда.
— Я на посту… — заикнулся боец.
— Я те дам… — повторил сержант выражение Кирьякова.
Матюхин со всех ног бросился выполнять приказание.
— Почему здесь никто не строит оборону? Где ваши бойцы? — заинтересовался Гридин.
— Наши — там, — показал сержант рукой на запад, где полыхали зарева и ни на минуту не прекращался гул боя. — И сдерживают врага, и контратакуют, и дороги перекрывают. Выполняют задачу: не допустить противника к мосту. Здесь некому рыть препятствия… Черт знает что…
— Давайте на подступах к мосту выроем ров. Где взять лопаты?
— Э, нет. Мне приказано всех танкистов переправлять через мост, на восточную сторону, вон в ту рощу — видите, справа огонек, костер, — сержант показал рукой на противоположный берег и с важностью добавил: — Сам полковой комиссар Дорофеев с каким-то майором Родиным час тому назад были здесь и справлялись, сколько, мол, прошло танкистов. Выходит, вы там, за рекой, очень кому-то нужны.
С именем комиссара и Родина в головах бойцов ассоциировались понятия наведения строгого воинского порядка, осуществления твердого руководства, укрепления уверенности и надежды на лучшее будущее.
— Что ж, если старшие начальники интересуются нами, проверяют, как мы собираемся в указанном районе, значит, медлить нельзя, надо двигаться, — рассуждал Гридин.
Прибежал Матюхин с термосом, котелками.
Сержант дружески предложил:
— Возьмите с собою ужин. Чем богаты, тем и рады… Ничего, берите с посудой. Потом сочтемся. И не мешкайте ни минуты. А то наш горячий сосед, с которым мы не можем разделить мост, быстро приберет вас к рукам и даст такое задание, что имей семь пядей во лбу, за ночь не выполните. Сидоркин; пропусти танкистов… Да, да, с нашим термосом… — горячо проявлял заботу он, тепло прощаясь за руку с каждым бойцом.
Троян, подправляя тесемки своего тяжелого вещмешка, оглядывался по сторонам:
— Ничего мы не оставили на этом, западном берегу Днепра?
— Надежду… – вздохнул Гридин. И тут же придал голосу бодрый тон: — … что мы еще сюда вернемся.
— А уносим с собою веру в победу над врагом, — просто, без иносказания добавил друг детства.
Гридин машинально отстегнул клапан гимнастерки, и тотчас же под влиянием искреннего оптимизма Трояна застегнул. «Не время», — решил он, и на сей раз замолчать злополучную открытку.
К танкистам присоединилась большая группа артиллеристов. Все вместе двинулись, через мост. Троян вспомнил о Бабаке и старался не спускать с него глаз.
Неожиданно за спиной взвилась в небо ракета. Люди смешались в сутолоке и Бабак потерялся. Сержант командовал: «Шире шаг!»
С высоты моста далеко виднелась серебристо-туманная гладь реки в темных таинственных берегах. Вдоль, по фарватеру, сверкал ярко-золотой месячный столб. Какой-то пароход, со странными, синими огнями, врезаясь в него, нарушил изящно-красивые линии. Много сияющих ослепительным блеском осколков рассыпалось на воде, и, колеблясь, роем окружили судно. Как бы далеко ни отскакивали некоторые из них, все же мгновенно возвращались на свои места, восстанавливая стройные линии волшебного лунного творения на реке. Троян отвлекся на мгновение от выразительного, как ему показалось, символического вида, и стал искать среди людей на мосту Бабака. Не обнаружив его, кинулся к Гридину с намерением доложить о дезертирстве земляка. В его голове на ходу складывалось убеждение: «Да, Бабак не из тех осколков, которые будучи рассеянными на Днепре, вновь собираются в монолитный золотой столб».
Темп марша был выше форсированного — почти рысистый.
Они шли днем и ночью, экипажами — по три танкиста в ряду. Напрямик срезали углы, закругления дорог. Экономя время, ели и пили на ходу. Жара, усталость валила с ног. С лиц пот градом катился, гимнастерки — хоть выжимай. Горящие глаза, глубоко запавшие в орбитах, не замечали перед собой ничего — они устремлены вдаль, и, казалось, видели где-то за лесами, деревнями нечто сверхъестественное, достижение которого являлось вопросом жизни или смерти.
Местные жителя в те дни провожали тоскливыми взглядами на восток немало военных. Но эта группа бойцов, в выцветшем, замусоленном обмундировании, в рваных, запыленных сапогах, с винтовками, пулеметами, вещмешками на плечах вызывала своим необычно поспешным бегством недоумение и даже страх.
— Отдохните трошки с нами, спокойненько выпейте молочка… Расскажите, что деется там, за Днепром… — просила молодая колхозница, выставив на скамейку возле своей хаты ведро молока и кружки.
— Некогда прохлаждаться, хозяюшка. Если можно, мы наполним свои посудинки… торопился Чапурин, вдруг став неузнаваемо равнодушным к еде, питью.
— О, господи, да что это творится?… — расширяла глаза старая женщина на просоленные потом гимнастерки красноармейцев. — Не иначе, как скаженая собака висит у вас на плечах, не в обиду будь сказано… — и спешила наполнить сметаной подставляемые бойцами кружки, крышки от котелков.
— В том-то и дело, что надо успеть, пока она казится… — вежливо отказывался Троян от узла с продуктами. — Другой раз, милая матушка, возьмем… Приберегите, до того часа, когда «…нажмут водители стартеры, и — по лесам…” — нараспев закончил он.
— «Гремя огнем, сверкая блеском стали…» — многообещающе подхватил Моторный, изобразил руками выжимание рычагов танка, поднялся со скамейки и запылил сельской улицей своими полуразваленными сапогами.
— Ого! Наш Иван зря жаловался, что у него танкистских качеств не больше, чем черного под ногтем, — радовался Троян.
— Не надо на радостях выбалтывать лишнее среди гражданского населения… — на ходу делал замечание Гридин.
Друзья отвечали:
— Слова из песни — не военная тайна…
— Трудно молчать — душа поет…
— Поскольку на всех перекрестках регулировщики выявляют нашего брата и направляют одной дорогой, и в медсанбате сестры, санитарки говорят о том, что товарищ Сталин приказал танкистов отправлять в тыл, то в этом уже нет тайны.
— А надо чтоб была, — возразил Гридин. Посудите сами, какой произведет эффект, здесь, на Днепре, перемена декораций: то сгорбленные под тяжестью грузов, оборванные экипажи боевых машин топали на восток, то вдруг в обратном направлении они примчатся на новеньких тридцатьчетверках. Момент внезапности на войне страшно много значит.
Танкисты неслись в вихре своего крылатого воображения, словно уже видя в мареве пыльной дороги легендарную лавину грозных советских танков. Их подстегивало сознание того, что советские стрелки за Днепром ждали броневую поддержку, считая не дни, а часы.
Троян обгонял товарищей, напевая:
— «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин…»
Будучи во власти фантастических мечтаний парень вовсе не представлял себе, какую реально уготовила ему судьба атаку на сердечном фронте, и как ни показалось бы странным, время начала этой своеобразной атаки определил ближайшей друг.
Гридин шагал вдвойне тяжелее других. Кроме боевой выкладки, его одолевала тяжесть тайны открытки, спрятанной в боковом кармане. В отличие от своих товарищей, он сдержанно реагировал на то, что танкисты третий раз с начала войны собираются к железнодорожной станции. Обеспокоенные взгляды, бросаемые на друга детства, выдавали бурю в его груди.
— Костя, я чувствую, что ты собираешься что-то мне сказать, простодушно заметил Троян, думая: «Опять начнет выговаривать за подлеца Бабака. Оно и правильно: я знал о намерении мерзавца, вовремя не предупредил командира, в толпе на мосту проворонил дезертира».
Гридин угадал мысли друга:
— Не думай, Петро, о шкуре Бабака. Мерзавец не стоит того, чтоб переживать о нем. Он жил без руля и ветрил… Меня мучает весть более серьезная… Рано или поздно ты о ней должен узнать…
Образ жизни Трояна был таков, что он не чувствовал за собой никакой вины. Услыхав, что промах с Бабаком не является причиной беспокойства Гридина, он испытал облегчение, но все же с изумлением поднял вопросительные глаза на друга.
Гридин прижал ладонью клапан своего гимнастерочного кармана, словно утишая болевое ощущение в груди, и стал что-то выискивать взглядом на небосклоне. Затем, обращаясь скорее к замеченной над горизонтом тучке, чем к товарищу, медленно начал:
— Слушай и крепись, друже… Когда мы ночью ездили во Владимир-Волынский за боеприпасами, я заходил в караульное помещение. Там, на столе, была груда писем. Я порылся в ней и нашел кое-что на твое имя. Не хотел в трудные дни отвлекать тебя. Но дальше уже не имею права замалчивать… — и, достав из кармана открытку, протянул ее со словами: — На, ознакомься.
Троян взял дрожащими руками сложенный вдвое коричневый листик, развернул, и в руках оказалось два лоскутка — открытка перетерлась на линии изгиба. Уже от ее вида у него в груди шевельнулось смутное предчувствие беды. Соединяя разорванные строчки, он с трудом разбирал слова знакомого почерка: «… сообщаю, чтоб ты больше не беспокоил мою жену Веру своими письмами и глупыми любовными стихами… Фадей».
Парень остановился. Прочел еще раз, но смысл не изменился. Качнулся назад, словно от удара в грудь. Еле удержался на ногах. Ему показалось, что весь мир для него померк. Лицо исказила судорога, как от мгновенной острой внутренней боли. Внутри будто оборвалась нить, которая связывала все его существо с чем-то святым, чистым, бесконечно дорогим. Весь задрожал, почувствовав себя в чадном бреду. Его состояние стало похожим на то, которое он перенес во время критического момента горячки в развалинах погреба. К горлу подступили спазмы. Глотательные движения, всхлипывания свидетельствовали о том, что он находился на грани рыдания.
Гридин не знал, с какой стороны подойти к своему несчастному товарищу.
— Вижу, Петро, — твое воображение рисует нечто ужасное. Может быть, все это и не так, — вмешался друг участливо и в то же время твердо.
— Конечно, то, что ты узнал, тебя отдалило от Веры. Но не исключено что то, чего ты не знаешь, вас сближает…
— Нет, это известие с первых рук. Почерк Фадея я отлично знаю… Но душа моя протестует. Такого вероломства не стерпеть… Я не хочу…
Он зажмурился, и сквозь розовые веки молниеносно замелькали незабываемые картины… Школа. Стыдливый обмен многозначительными взглядами с Верой. Кладбище. Бурная ночь с ущербным месяцем. Песня. Голос Фадея. Загадочное поведение Веры. Вон, оказывается, в чем дело… Казалось, за одну минуту он прожил десять лет. На фоне воспоминаний становились понятными и длительное молчание Веры и лаконичные строчки открытки.
И Троян вздохнул ни то с облегчением, не то с грустью. По своему обыкновению, он умел стойко выдерживать неожиданные удары судьбы. И на этот раз не дал волю слабостям. Сжался в комок. Поджал нижнюю губу и до боли прикусил ее. Потупил невидящие глаза. Дрогнул глухой голос:
— Да, не поталанило… Не придется больше воспевать ночку ”…зоряну, ясную…” Нет, оказывается в звездной россыпи моей зіроньки.
— Петро, нытье тебе не к лицу. Ты не раз меня учил, что не надо свое горе представлять большим, чем оно есть, в самом деле. Все это будничные невзгоды по сравнению с вечностью. Вера и раньше виляла хвостом. Не столько света, сколько видишь в окне, — говорил земляк.
— Чудак я… Наивно было ждать другого исхода. Мы друг другу ничего не обещали…
— И я с Надей не успел конкретно поговорить. Послушай, что она писала мне в последнем письме, — Гридин достал из кармана вчетверо сложенный листик бумаги, развернул и прочел: «…что до состояния моего сердца, то посоветуйся со своим сердцем — оно тебе скажет и о моем. Сердца умеют разговаривать на расстоянии языком судьбы, а не туманными словами…» Вот и пойми, Петро, — сказано в твоем духе. А в груди чувствовался комочек тоски. — «Терпение и все рассосется», — убеждал он себя и для отвлечения Троян поднял вверх голову и стал вслушиваться в серебристый голосок невидимого в вышине жаворонка. Перед его мысленным взором встал рассказ матери о драматических событиях в степи, картины недавних дней Ивана Купала, эпизоды борьбы в развалинах хутора. И он заключил:
— Все правильно. Спасибо тебе Вера, что ты помогла мне выжить в самые критические минуты. Я верил тебе и эта вера — псевдоним твоего неверного имени — помогла мне подняться на ноги. Ты спасла человека и сделала добро. Я убедился, что с верой нигде не пропадешь. Мне, однако, жаль тебя — тебе во стократ тяжелее, чем мне. Следовательно, Костя, мое горе — не безысходное… Бывает хуже…
В дальнейшем Гридин постепенно менял тему разговора, стараясь не бередить сердечную рану друга.
На маршруте танковых троек попадались: Остер, Козелец, Кобыжча, Носовка… Наконец, — Нежин.
Небольшой зеленый, чистый городок. У бойцов сердца замирали от волнения. Они как бы видели на тихих улицах, под тополями великого Гоголя. Нежин оставил в памяти воинов действительно очень нежные воспоминания. А Троян, словно вновь обрел себя.
Все началось с соломы.
Отведенные для танкистов товарные вагоны оборудовались в тупике железнодорожной станции для дальней езды. Создавался минимальный комфорт. Самохин высказал мысль накрыть жесткие нары чем-то мягким, показав рукой на ближайшее поле, скошенное комбайном.
Гридин и Троян отправились с группой бойцов за соломой.
На обратном пути Троян, замыкая своеобразный пеший соломенный обоз, отстал. Связка рассыпалась. Гридин вернулся и стал помогать другу собирать, и увязывать ношу.
— Ну, и жадный же ты, Петро, — шутя, укорял он товарища. — Загребаешь, сколько глаза видят.
— Не выдержало перевясло, как в той песне:
Ой, лопнув обруч коло барила,
Дівчина козака та й одурила.
Ой, думалося,
Передумалося.
Одур голову бере…
— Старое перевясло лопнуло, сделай новое… — подчеркнуто иносказательно советовал Гридин.
— Новое?… Это не просто… Ты справедливо обвинил меня в жадности. Так и хочется, Костя, увезти с украинской земли что-то неповторимо-нашенское, задушевно-самобытное…
Троян сколько ни возился со своим объемным, рассыпчатым ворохом соломы, не мог связать его воедино. Наконец, он швырнул в сторону обрывки старого перевясла, нарвал в высокой стерне травы, соединил ее с длинными пучками ржаных стеблей и, разгибая спину, начал скручивать новое перевясло, напевая:
Ой, лопнув обруч біля діжечкн,
Дівчата моі сироіжечки!…
— и осекся, как бы почувствовав на себе чей-то взгляд.
— А-а, попались на горячем!.. — поразил звонкий девичий голос, поддержанный дружным переливчатым смехом.
И Гридин поднялся со своей связки.
Перед ними, на полевой дороге стояла пестрая группа девушек с граблями и вилами на плечах.
— С песнями все увозите с собой, забираете даже отходы от комбайна, — выговаривала с напускным серьезным тоном стройная шатенка в сиреневом платье и соломенной шляпке.
Троян заметил, что выражение ее глаз противоречило сказанному.
В них светилась какая-то особенно теплая душевная ласковость. Это так поразило парня, что он невольно присел на свою охапку.
Невысокая, подвижная хохотунья, с веснушками на красивом личике и короткими льняными волосами демонстративно уселась на солому Гридина и со смехом, требовательно заявила:
— Мы вас арестуем и не выпустим.
— О, это было бы распрекрасно. Кое-кто, раненый, избежав гитлеровского плена, обрадовался бы такой неволе, — загадочно ответил Гридин.
— Я, если б захотела, отгадала бы, кого имеете в виду… Куда собираетесь мандровать с соломой? — поспешила шатенка вопросом скрыть невольно высказанную в первой фразе какую-то заинтересованность.
Троян, приняв обращение в свой адрес, ответил:
— Така наша доля: «того лама, того нагинае;
Мене котить, а де спинить,
I сама не знае…»
— Вы — поэт… Стихами говорите… — удивлялась шатенка, озарив парня из-под решетчатой тени соломенной шляпки пронизывающим светом карих глаз. Ее темные ресницы шевельнулись, пропустив нечто такое, от чего у Трояна прошли мурашки на спине.
И он стал оправдываться:
— Это не мои стихи… Шевченка… Я не виноват…
— Все равно. Две-три строчки прозвучали душевно — трогательно.
— И ваши слова, как песня… — вырвалось у Трояна и его лицо вспыхнуло костром. Многоточие – означало: «… как лучшая музыка западает в душу…»
Девушка начала без причины заправлять под соломенную шляпку прядь своих темно-русых волос. Щечки зарделись. А глаза выдавали бурю в груди: «И надо же… Какой хлопец уродился!.. Прост, как есть весь нараспашку. В голосе, смехе – чистосердечие, бескорыстие, отзывчивость. Ни тени рисовки, заигрывания, как у иных бывает.
Наступила пауза. Шатенка ушла в свои мысли, а степные птицы, будто выручая ее, в унисон прерванного разговора защебетали.
Вдруг на станции разразились протяжно-прерывистые гудки паровозов. Где-то вдали ударили зенитки. С запада нарастал тревожный гул. Ясное предвечернее небо как бы начало тускнеть.
Девушки испуганно встрепенулись, схватились кто за вилы, кто за грабли.
— Куда вы? Посидите. Не собираетесь ли с орудиями мирного труда ринуться в бой против фашистских бомбардировщиков? — останавливал Гридин.
— Ой, наши дорогие хлопчики! — стала серьезной хохотунья с веснушками. — Чтоб остановить эту черную хмару, мы не только готовы броситься против нее с вилами и граблями, но не побрезговали б вцепиться голыми руками, зубами в самую что, ни на есть противную гадину… Поверите ли, если б обстановка потребовала лишиться правой руки, лишь бы не пропустить врага за Днепр, я не поколебалась бы…
Трояну в тот миг пришли на ум ночные откровения Бабака, и он покраснел оттого, что в их среде был такой выродок, и склонился к своей вязанке.
— Не уходите от нас хоть трошечки — почти взмолилась белокурая.
Ее взгляд скользнул туда, где гудели вражеские самолеты, вокруг которых расцветали белые дымки, похожие на лопнувшие в печке крупные зерна кукурузы. Со щеки девушки скатилась слеза.
Троян поднял на плечи свою ношу и его глаза невольно встретились с задумчиво-грустным, глубоким взглядом из-под решетчатой тени соломенной шляпки. И в его груди стал таять ледок недоверия, обиды. Больше того: он с жалостью подумал о Вере, ее сверстницах, что теперь будет с ними?
— На все добре, девчата! — весело подмигнул он. – Не вешайте носа.
— До побачення, хлопці — вздохнула шатенка и наклонилась к уху подружки: — Що зі мною діеться? Вперше мені стало на серці і так хорошо, і так смутно…
Троян грустно — приветливо улыбнулся карим очам, декламируя Шевченка:
I то лихо —
Попереду знати
Що на світі зустрінеться…
Не знайте, дівчата!
Не питайте свою долю…
Само серце знае
Кого любить… нехай вяне…
— Хто ти такий, що так добре знаеш про долю? — сверкнула в тени соломенной шляпки глаза, как звездочки из-за решетки.
— Петро Троян… Може, колись, почуете…
— Ой, как интересно!.. Что-то от троянды, а мужское, мужественность…
— А я — Катя.
Он запнулся, чуть не упал — шел за Гридиным, а смотрел назад, продлевая действие того необыкновенного чувства, которое заполняло все существо.
В его ушах звучал до самой станции музыкальный голос шатенки Кати. Перед глазами так и стоял ее очаровательный образ.
Паровоз дернул вагоны вперед, потом толкнул назад и опять рванул с новой силой. Рывки отдавались в душе Трояна тупой болью, будто внутри встряхивалась какая-то незажившая рана.
Воинский эшелон отошел от станции Нежин.
Троян стоял у открытой двери и окидывал последним взглядом все то, что отходило назад.
Внимание привлек перрон, на котором сквозь вокзальную сутолоку пробиралась к колее группа девушек. Впереди выделялась стройная фигурка в сиреневом платье. Остановилась. Взобралась на какой-то ящик. Вверх поднялась соломенная шляпка и энергичными прощально — приветственными взмахами замелькала высоко над головами толпы.
Троян выхватил из нар пучок соломы — ничего другого светлого под руку не попалось — и, оживленно жестикулируя, отвечал девушке. Весь его вид, как бы говорил: «О, милое, мимолетное видение! Как, что я не спросил твоего адреса… Ты укрепила во мне веру в то, что я вернусь на Украину. Подтвердила слова друга о том, что свет не сошелся клином на одной заносчивой, скрытной Вере. Не прощай, а до свидания!»
Затухающие взмахи светлой шляпки постепенно растаяли. Здание вокзала растворилось в темно-зеленой роще. Скоро все городские строения утонули в зелени. Сизая вечерняя дымка подернула округлые остроконечные очертания деревьев, которые слились в огромный, сплошной сад. За ним скрылось солнце. Сгущались сумерки. На западном горизонте выделялось, росло и расширялось огненно-дымное облако, похожее на вулканическую лаву.
Багровая заря темнела. Запад заволакивался мраком.
В небе, над Нежином, вырисовывалась туча; возле нее затрепетала золотая звездочка.
«Неужели и ей, Кате, угрожает ночь фашистской оккупации?» — мелькнуло в его голове страшное опасение.
— Я вернусь до тебе, зіронько, — взмахнул Троян последний раз соломенным пучком, словно букетом цветов.
В душе исчезло ощущение пустоты. Он увозил с собой чудесный образ. Резкие потоки прохладного воздуха шевелили зажатый в руке своеобразный букет. Его цвет и, казалось, запах напоминали соломенную шляпку. Он прижал к груди злачные стебельки и, вдыхая нежный аромат хлебов, расчувствовался.
В теплушке мелодично зазвучал лирический тенор:
Повій, вітре, на Вкраіну,
Де покинув, я дівчину,
Де покинув карі очі, —
Повій, вітре, опівночі.
Разговоры, перешептывания на нарах затихли.
Слова и музыка известной украинской народной песни засверкали какими-то новыми, свежими гармоническими красками. Чувствовалось, что певец вдохновенно обобщал сугубо личные переживания и доводил их до глубокого понимания всеми слушателями.
Повій, вітре, тишком-нишком
Над румяним, білим личиком…
Грустно-задумчивая мелодия приобрела в заключение светло-радостное, оптимистическое звучание.
Троян переживал странное изменение в груди. Он будто видел в темноте изнуренное домашними заботами лицо матери, заплаканные глава женщины из села Соколов, грустно-задумчивый образ Кати. И в сознании бойца росло, укреплялось понятие долга, которое как бы врачевало душевные раны.
Поезд все увеличивал скорость. Вагон заполнило новое многоголосое пение. Колеса выстукивали на стыках рельсов аккомпанемент к припеву боевого марша:
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход…
Любимая песня рисовала в воображении танкистов захватывающую картину ближайшего будущего.