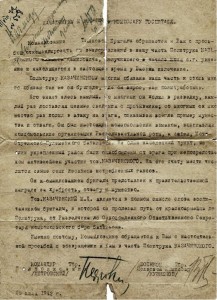Февраль 1942 г. — Февраль 1943 г.
Болота: Малуксинский мох, Соколиный мох, подступы к Мге, Мга-Кириши, разъезд Жарок, Шала, март 1942 г., дер. Дубовик, излучина реки Чагода, окрестности Шум, военный госпиталь в сосновом бору, Сирокасска,Оскуй, Березовик, Дубовик, правобережье реки Волхов, Кириши, 31 мая 1942 г. дер. Новинка, Плавницы, июнь 1942 г. юго-восточнее Киришей (хим.комбинат, восточный берег Волхова) Гридин – госпиталь 12 сентября 1942 г. ноябрь 1942 г. Шум, 12 января 1943 г. дер. Липки, 2 км. южнее Ладожского озера, станция Подгорная, Синявинские высоты, 18 января 1943 г. прорыв блокады Ленинграда.
Гридин подполз к небольшой прогалине, остановился и, приподнявшись на локтях над оледенелой глыбой торфа, стал всматриваться в ночную мглу. Что там за огонек? Будто заветная Утренняя звезда на горизонте. Звезда?! Какая звезда — там враг. Не ровен час — получишь порцию свинца между глаз.
Он замер, стараясь поглубже вдавить себя в неподатливый снег. Ему — сухопарому, невысокому — даже в тесном танке было достаточно просторно. А тут вдруг тело какое-то невероятно большое, неуклюжее, весь не укроешься в снегу.
Минута. Другая… Ближние пулеметы противника молчат. Гридин осторожно приподнял голову, смахнул с ресниц, с бровей колючие иглы инея. Глаза болели от напряжения, слезились. Но он все пытался рассмотреть огонек. И вдруг — сноп искр и осветительная ракета невдалеке. Теперь стали видны контуры островерхого блиндажа с трубой. Сидят там гады с удобствами возле печки, греются. Ну, что ж, это, пожалуй, к лучшему. Небось, разомлеют, зададут храпака, а мы подберемся и уж тогда погреемся!.. Только бы часового аккуратненько убрать. Старый ориентир вот-вот минуем. Значит, теперь островерхий блиндаж с трубой будет новым ориентиром.
Гридин еле заметно обернулся к обглоданной осколками и пулями березе, возвышавшейся среди покореженного боями редколесья. Мимо этого голого ствола должны были проползти разведчики.
Подступы к переднему краю перепаханы снарядами, минами. Но природа замаскировала местность под однотонный зимний цвет. Мохнатый иней побелил глыбы развороченной торфянистой почвы и оледенелые кочки, разбитые машины и обломки дзотов, глубокие колеи танков и осушительные канавы, окопы и воронки, сплетения колючей проволоки и останки тех, кто пытался преодолеть проволочные заграждения.
Над заснеженной равниной — мертвой, похожей на кладбище — потянулись огненные нити. Одни перекрещивались, другие гасли в небе, третьи терялись в бугорках и рытвинах предполья или рикошетировали ввысь. От выстрелов волнами перекатывалось эхо. Отзвуки близких очередей из пулемета медленно затихали.
Гридин забеспокоился: что-то долго не появлялись разведчики. Он передвинул автомат в положение наизготовку, и тут же заметил белый комок, который выкатился из-за ствола березы, промелькнул среди нагромождений сучьев, чахлых кустиков и слился с кочкой, похожей на гриб. Одновременно слева и справа от березы стали выползать другие разведчики, сливаясь со снегом белыми халатами и маскируясь около пней, бугорков.
Гридин выжидал, пока все бойцы выдвинутся на заданный рубеж.
Впереди, конечно, — сержант Троян, маскируется так, что и вблизи не увидишь. Впрочем, неудивительно. Каждая кочка ему здесь была знакома. Не раз уже он с отделением разведчиков пытался проскользнуть в расположение противника, но продвинуться дальше березы им не удавалось. И потом, когда прибыл мотострелковый батальон, бывалые бойцы под его, Гридина, командой тоже не могли добиться успеха. Будто срабатывала какая-то скрытая сигнализация — мгновенно каждый метр предполья простреливался перекрестным огнем. И вот командование, заранее обстоятельно изучив вражескую оборону, подступы к ней, послало на «невезучее” направление объединенную группу разведчиков-добровольцев.
Гридин переживал: справиться бы с заданием, очень нелегким заданием.
Гиблые здесь, на Левобережье Волхова, места. Леса, перелески, непроходимые топи. Обычно, свежая воронка — спасение, а здесь, наоборот. Сунешься в нее и ухнешь в дыру -трясину.
Бывает, танк, двигаясь по равнине, внезапно исчезнет — лед проломился и мгновенно засасывает в торфянистую жижу, танкисты выпрыгнуть не успевают. Вокруг снега и снега. Трудно определить, где под ними кончаются ответвления болота Малуксинский Мох, и где начинается Соколий Мох.
Тридцати пяти градусный февральский, мороз сорок второго. Ночная мгла промозглая, холодная. Ну, вот и осталась позади береза. Гридин вспоминает, как перед выходом на задание они, беседуя с Трояном, пришли к выводу, что судьба вылазки будет предрешена у злополучной обглоданной березы. Земляк тогда напирал на то, чтобы передвигаться только по-пластунски, что силы и время, затраченные вначале пути, потом окупятся, что все надо делать последовательно, терпеливо, намекал даже: не выпячивай свое «я». Что ж, друг Петя, правильно. И все же в ответе за выход группы в расположение противника я, Гридин. Вот и обязан выявить противотанковые орудия… Надо определить местонахождение вражеских огневых точек на главном направлении наступления танковой бригады; взорвать ближайшие блиндажи, дзоты. Пока что удалось пройти первый ориентир, и я уже наметил второй… — Гридин чертыхнулся, поймав себя на этом злополучном «я». А это всегда бесит Петра Трояна. Но это, же армия… Хотя, если честно признаться, то Петро в какой-то мере прав. Надо следить за собой.
И совсем неожиданно мелькнуло: Петр, очищая перед вылазкой свои карманы, сдавал все бумажки старшине на хранение. Задержав на миг в руках голубой конвертик, он кинул чуть-чуть озорной взгляд в его, Гридина, сторону. Гридин заметил этот взгляд, не догадываясь, что письмо без обратного адреса, переданное медсестрой Клавой, предназначено ему. Он не знал, что Троян побоялся недобрых вестей и поэтому намеревался отдать письмо после возвращения из разведки, зная о любви Кости Гридина к землячке Наденьке Дубровиной.
Уж не о своем ли замужестве сообщает она после столь долгого молчания? Плохая весть перед боем — нож в сердце. Вот Троян и решил до поры до времени не тревожить друга.
Убедившись, что разведчики миновали березу, Гридин снова повернулся к новому ориентиру. Там, за предпольем, в мутно-серой дымке, возвышалась железнодорожная насыпь. В намертво скованной морозом почве — огневые точки, блиндажи, ходы сообщения. Расчеты вражеских противотанковых орудий — в надежных норах, укрепленных бревнами, рельсами, бетоном. Откосы насыпи загромождены расщепленными досками, скрученными железными прутьями. Поработала советская артиллерия при попытке прорвать вражескую оборону.
В течение пяти месяцев танковая бригада вместе с другими войсками рвалась с Волхова к Ленинграду. Но желаемых результатов не дали, ни прощупывания противника, ни разведки боем, ни дерзкие атаки с ходу, с подготовкой в ограниченные сроки, ни обходные маневры. И вот решено снова все «переиграть на невезучем» направлении.
Гридин пробрался на кочковатую прогалину. Подполз к суковатой заиндевелой коряге, и поднялся, мало чем, отличаясь от нее — под просторным маскхалатом неуклюже бугрились сумки с гранатами, магазины к автомату.
Вблизи вспыхнула вражеская ракета. Гридин замер, слившись с корягой. Ракета погасла, и сразу же на правом фланге зажглась другая, сопровождаемая звонким стрекотанием пулеметов. Гитлеровцы наугад простреливали предполье — опасались ночных «гостей».
Гридин жестом подал разведчикам команду: «Вперед!»
Вот шевельнулась кочка и сразу силуэт, похожий на гриб, растаял в белесоватой мути. Наверное, Троян зарылся в толщу снега и тараном пробивался к цели.
Справа от того места, где исчез «гриб», задымило легкой снежной пылью — характерная «походка» бойца легкоатлета Владимира Аглушевича. Весельчак-белорус и тут, на виду у противника, вел себя как дома — будто заранее знал все кустики, ямки, бугорки, в которых искусно маскировался. Перед выдвижением на исходную он поспорил со своим лучшим другом сибиряком, спортсменом-лыжником Василием Смирновым. Аглушевич иронически ухмылялся, когда комиссар бригады разъяснял бойцам: «Смотрите вперед и назад. Осторожность — не трусость. Помните: на вооружении разведчика — два ушка на макушке и один язычок во рту. Это значит: на ухо давай двойную нагрузку, а языку дашь волю по возвращении с задания». Смирнов тогда съязвил: «Для тебя, улыба, говорится. Слушай, а не ухмыляйся». «Нет, серъезник, эти наставления больше для твоего характера. Привык в тайге на лыжах криком объявлять о себе…» Завязалась словесная перепалка обычная для обоих друзей: когда удобнее идти — по насту или по первому снегу, какой мороз лучше — сухой, сибирский или влажный, белорусский и волховский. Троян прервал спорщиков, сказав, что Смирнов, вероятно, шел в тайге на медведя без выкриков, и Аглушевич не очень шумел, выслеживая зайца, тетерева в белорусских лесах… И пора Смирнову уже привыкнуть к здешнему сырому, промозглому морозу.
Смирнов, двигаясь левее Трояна, заметно нервничал — пытался по насту ползти, но часто проваливался в сыпучий снежный песок, барахтался в нем, бормоча: «Эх, на лыжах бы…»
Слева, чуть поотстав, белой тенью скользил херсонский рыбак Степан Терновой. Ему не нравился ни наст, ни настыль, ни сыпучий, как соль, снег. Он с детства носился по степным и морским просторам, а здесь, среди болот и лесов, томился от бесконечных выжиданий, мер предосторожностей, однако всячески стремился приноравливаться — к трудным условиям боевой обстановки.
Проследив за движением остальных бойцов, Гридин убедился, что группа, как и задумано, пересекала поле углом вперед. Даже новички не нарушали установленный командиром порядок.
Так, метр за метром, они сближались с врагом. Гридин — в центре боевого порядка, — зарываясь нередко с головой в снеговую толщу, чувствовал, как ледяной песок сыпался за шею, набивался в рукава. На секунду он замер. Потом подполз к бойцу, обозначившим свежий бугорок заостренным кверху колышком.
— Мина?! — шепнул Гридин.
— Она… Аж в глазах потемнело.
— Бери правее вон того высокого пня… Но смотри — и там могут быть «сюрпризы».
Терновой, преодолев чахлый кустарник, загроможденный обломками сучьев, оказался на открытой поляне. Длинный и легкий он полз по твердой ледяной корке, только изредка проваливаясь. Следя за ведущим, разведчик часто замирал. И тогда особенно чувствовался мороз. Потерев щеки и нос, чтобы не обморозиться, Терновой не забывал проверить затвор винтовки: не забит ли крошками льда, не застыла ли смазка; и время от времени прятал оружие под мех полушубка.
Вот он услышал впереди шорох.
— Вася, говорил тебе, что настыль не выдерживает, — осуждающе засипел Аглушевич.
— Кем-то до меня сломан, — ответил провалившийся в траншею Смирнов. — Какую-нибудь палку подай. Помоги выбраться без шума.
Аглушевич оглянулся — ничего подходящего, и сунул винтовку стволом вниз.
В небе вспыхнула осветительная ракета.
Смирнов сначала отшатнулся от дула оружия. Как бы растяпа нечаянно не задел за спусковой крючок. Но раздумывать некогда. И Смирнов схватил голой рукой ствол винтовки, подтянулся на бруствер и… еле оторвал руку от ледяного металла.
Совсем рядом, почти над головами, затрепыхалась сразу две ракеты. Впереди засверкали красные и желтые вспышки, от которых потянулись над полем разноцветные нити.
Троян обернулся на шорох. Возле пня чуть приподнялся бугорок маскхалата, и смертоносная светящаяся трасса будто исчезла во вздрагивавшем бугорке. От пня брызнули щепки со снегом. Троян пристально всматривался в приметную выпуклость маскхалата: неужели попало в Гридина? Гулко прокатился по предполью перестук пулеметов с насыпи.
Минута тревожной тишины. Наконец приметный бугорок шевельнулся, отделился от пня и, уменьшаясь, растворился в белесой пелене. И уже из танковой колеи показался ствол автомата, потом капюшон маскхалата Гридина.
Троян перевел дыхание, и, обернувшись к Смирнову, который выбравшись на бруствер из окопа, с кряхтением надевал перчатки, выразительно показал кулак: мол, тише, медведь. Затем пополз за Гридиным, тоже маскируясь в танковой колее.
Гридин приблизился к центру боевого порядка разведчиков.
— Здесь, — шепнул он, показав жестом, — район секретов противника. Продвигаться только когда стрельба будет заглушать наши шорохи. Следить за моими сигналами.
Чтоб не обморозиться, Троян шевелил пальцами да под «музыку» врага незаметно подергивал плечами. От холода, казалось, будто кровь стыла, деревенели губы. А когда он услыхал рядом шепот Тернового: «Коченею. Спасу нет…”, жестами показал, как следует греться, не допуская демаскирующих движений. Тут же между ними с шипением погасла в снегу огненная нить. Разведчики, как по команде, съежились, стараясь втиснуться в задубелую землю.
Состояние оцепенения нарушил Гридин.
— Делай, как я, — скомандовал он и ужом двинулся меж пней, среди поваленных, искромсанных огнем сосен, к насыпи.
Троян с усилием привстал, еле оторвав отяжелевшее тело от уютного углубления в снегу, где будто оставалась единственная возможность уцелеть, выжить.
Перед его глазами мелькали подошвы валенок Гридина. Зашуршала ракета над головой, и они остановились.
Троян старался определить, все ли разведчики на своих местах. В бледных лучах ракеты он встретился с глазами Аглушевича. На лице неунывающего белоруса блуждала вместо привычной какая-то вымученная улыбка. «Все на пределе”, — подумалось сержанту.
Застрочил пулемет, погасла ракета. Люди устремились вперед. И опять замерли, едва стихла стрельба. И, зашипел над головами красный рассыпчатый огонь.
— Нам наруку, — кивнул Троян на вражеские огни, приблизившись к Гридину.
Он переживал: справится ли земляк с обязанностями командира подразделения разведчиков, хотя и маленького, но сводного, состоявшего из бывалых и новичков. Ведь Гридин — кадровый танкист, спит и видит себя в экипаже тридцатьчетверки. А тут пришлось двинуться на врага не за рычагами и рукоятками управления танком, а с автоматом ППШ в руках.
Сухое лицо Гридина с острым подбородком и заметно выступающими скулами при свете ракеты совсем белое, застывшее, будто из снега. Он чуть мотнул головой: внимательней! Осторожней! Каждый клочок земли опасен — таит в себе мину, колючую проволоку, яму, секрет…
Гридин приподнялся на локтях. Окинул взглядом пройденный путь. Километр бывшего поля боя позади. Прежний ориентир — береза уже не различим. Они приближаются к новому — островерхому блиндажу с высокой трубой.
Гридин повернулся набок, отогнул рукав, вгляделся в фосфоресцирующий циферблат: на злосчастные тысячу метров ушло почти два часа. Надо поторопиться.
До железнодорожной насыпи рукой подать. Но уж больно крут подъем. Вероятно, легче было бы выбраться на Гору Пушечную, чем на подступах к Мге.
Гридин подполз к поваленному телеграфному столбу. Оседлав его, замаскировался у перекладины с изоляторами, опутанными проводами, и старался разглядеть ориентир — островерхий блиндаж с трубой. Но нет, ничего не видно — блиндаж прятался за насыпью. Гридин посмотрел влево, вдоль железной дороги. Там, на востоке, над продолговатым бугорком померещилось какое-то морозно-янтарное свечение, будто лучик Утренней звезды отражался от ледяного нароста на вершине заиндевелой ели. А, возможно, то над могильным холмиком отсвечивала жестяная звездочка.
Опять застучал крупнокалиберный. И вдруг за спиной почудилось знакомое музыкальное лопотание траков тридцатьчетверки. Но руки, ноги и даже голова не слушались. И все же усилием воли заставил себя растянуться на снегу и ползти. Вперед! Это единственный путь и к цели разведки и, по-видимому, в танковый экипаж.
Троян, прежде чем двинуться за командиром, выглянул из глубокой танковой колеи. Ему показалось, что мутно-туманная дымка слева и справа как бы приблизилась к бойцам и будто не только сковывала их движения, но и затрудняла дыхание. Вдруг перед носом раздался знакомый хлопок ракетницы. В небо с резким потрескиванием устремилась кровянисто-огненная головастая змея с длинным хвостом. Над головами загорелась ракета, ее ледяное свечение, казалось, проникало в тело сквозь маскхалат, полушубок… Из обгоревшего танка вонзилась в небо новая ракета. Потом левее танка, из нагромождения бревен сверкнул луч фонарика. Правее прыгающий пучок какого-то света выхватил из мрака подобие входа в блиндаж.
Трояну все стало ясно. Разведчики проползли меж глаз вражеских секретов, ракетчиков. Влезли, что называется, черту в зубы. Терпение! Выдержка! Куда стремились, туда и подошли. Дальнейшая судьба вылазки — в руках каждого, и прежде всего в руках командира. Он прополз несколько метров и уперся головой в валенки Гридина.
К груде заиндевелого железа приближались двое.
— Это Гридин и Троян! — чуть не вскрикнул Аглушевич.
Разведчик еле сдерживал радость. Знакомые силуэты сливались с очертаниями какой-то рамы и колес. Да это же перевернутая набок дрезина. Значит, командир и его заместитель оказались за надежным укрытием от вражеского наблюдения. Им-то уже хорошо. А остальные — на открытом снегу…
Но вот с насыпи блеснул слабый огонек. Может, искра, вылетевшая из трубы над вражеским блиндажом. И еще красноватый всплеск. За ним — много вспышек. Потом — резкий пулеметный стук и треск автоматов. С насыпи полетели искрящиеся огоньки в сторону разведчиков. И пепельные дымки. Казалось, с насыпи высыпали золу вместе с не потухшими жаринками.
Неожиданно над колесом дрезины кто-то взмахнул рукой — будто хотел поймать сверкавшие в воздухе «искры». Второй взмах… Вон оно что! Гридин жестами требовал: «Вперед!»
Первым кинулся к мрачному откосу насыпи Троян. И разведчики, лежавшие неподалеку, устремились к свежим следам. Пальба над головою, непонятные «искры» — не помеха. Бойцы уже знали, что противник стремился показать, что бодрствует, не спит. Поэтому, пока бездействовали ракетчики вблизи, не зевать.
Троян, искусно петляя по тропинке среди витков колючей проволоки, вмиг растаял в створе двух пулеметных огней. Слева и справа потянулись к следам сержанта остальные белые комки. Минуя узкое место, разведчики разделились на две цепочки, вползая в два овражка, вымытые осенними дождями.
Наконец, они оказались на бугорчатом гребне.
Ни шпал, ни рельсов. Их гитлеровцы разобрали для строительства огневых точек, блиндажей, которые выделялись в ночном мраке белыми и темно-серыми холмами вдоль насыпи и на юго-западных ее склонах, вплоть до дальней опушки леса.
Все разведчики благополучно сосредоточились в кювете, на противоположной стороне железной дороги. Но даже отдышаться не успели, как послышалось резкое поскрипывание снега. Приближались чьи-то шаги: «Рып, ры-ы-ып!.. Рып-рып!..»
Над головами вспыхнула ракета. А скрип то замирал, то усиливался. И звучал как-то странно, словно шагал по насту в какой-то железной эрзац-обуви. Вот уже стал вырисовываться тонкий с обвислыми плечами силуэт гитлеровца. Трепетные лучи осветили голову, укутанную платком, ободранную шинелишку, на ногах — соломенные чуни и в руках короткий карабин. Часовой. За его спиной — бревна накатов блиндажа, дальше — нагромождение ящиков, не полностью прикрытых рваным брезентом.
— Разрешите, я ему под ноги… — шепнул Смирнов Гридину.
«Нечего повторять пройденное», — отрицательно качнул головой командир. Решиться прервать плавный ход событий? Ведь предупреждали: с налета, как бывало ранее, нельзя. И Гридин толкнул Трояна в бок. Тот кивнул: «Есть!» и осторожно потянулся к Аглушевичу. Они обменялись оружием. Распластавшись на снегу, Троян сопровождал стволом винтовки двигавшуюся цель — сгорбленную фигуру гитлеровца, временами ярко освещаемую белыми люстрами.
Цепенея от мороза, от напряжения, сержант Троян не торопился. Терпение! Главное — терпение. «Вот молодец! — восхищался Гридин. — А другой бы — с налета…” Он, Гридин, казалось, не замечал, что сам постепенно освобождался от привычки скоропалительного » с налета», конечно, под влиянием друга детства.
Выждав, когда с насыпи залаяли вражеские пулеметы, Троян при белом свете ракеты плавно нажал на спусковой крючок. Винтовочный выстрел слился с трескотней пулеметов. Часовой, сделав короткий шаг к березовой изгороди, нагнулся и, выпустив из рук оружие, повис на пружинящей жерди.
Гридин уточнил задачи бойцам, заранее распределенным по группкам, объяснил, что в расположении врага следовало взорвать… Трояну и Терновому предстояло разведать огневые позиции противотанковых орудий на участке дорожный указатель — телеграфный столб с подпоркой…
— Каждый обязан хорошо запомнить местонахождения узловых частей вражеской обороны, — шептал Гридин. — На обратном пути любой из нас, если первый покинет насыпь, должен прибыть к представителю командования танковой бригады и доложить результаты вылазки… Сигнал удара по врагу я подам взрывом вон того островерхого блиндажа, что дымит высокой трубой.
Троян ухмыльнулся: «Костя верен себе — на себя взял подачу сигнала решающего момента вылазки».
— По местам! — скомандовал Гридин.
Разведчики стали ползком, попарно растекаться по обороне противника, изучая ее устройство, запоминая, где размещаются блиндажи, боеприпасы, огневые точки.
Медленно, очень медленно двигались группки. Ведь поминутно приходилось останавливаться — то под светом ракет, то в ожидании пулеметных очередей, которые заглушали скрип снега. И как назло: двинулись бы вперед под звуки стрельбы, но тут нависает над головой белая иллюминация, не шевельнешься.
Неожиданно вблизи появился странный, тепло одетый человек, в длинном желтоватом тулупе и рваной шапке-ушанке. Держа винтовку, как палку, он пробежал, едва не наступив на ноги Смирнова, метнулся к пирамиде из жердей. Воровато осмотрелся и кинулся к срубу, накрытому сосновыми ветками, затем — к светлому конусу, похожему на брезентовую палатку, и дальше — к березовой изгороди, на которой темнел труп. Еще миг и гитлеровец поднимет тревогу.
Смирнов бросился вдогонку. Оба в схватке повалились на бруствер окопа. Через секунду-другую Смирнов возвращался, вытирая снегом нож.
— Фу!.. Нюхнул вони, как в норе хоря побывал, — тихо сказал он.
— Были бы в твоих руках палки… — поддел Аглушевич.
— Прекратить! — зло дохнул Гридин в ухо одному, толкнул в плечо другого, и строго потребовал: — За дело! Даю пять минут… — и сам ринулся к островерхому блиндажу с высокой трубой.
Аглушевич с напарником подобрались к пологому белому холму, у основания которого выделялись кругляки бревен накатов. Аглушевич начал подползать к трубе, что темнела вверху, недоумевая: почему она не дымит? Снег сверху пушистый, а под ломающимся настом — рассыпчатый, жесткий, при самом осторожном передвижении пронзительно скрипел. Поэтому разведчик спустился вниз и вместе с товарищем пополз по круговой тропинке, осматривая подозрительный холм.
Смирнов наткнулся на штабель ящиков с боеприпасами. Он помог бойцу-саперу уложить под штабелем взрывчатку, а сам двинулся дальше.
Два других бойца с взрывчаткой на спине — под маскхалатами остановились возле диковинного шалаша, покрытого лапником…
Дальнейшие события развернулись не так, как было задумано.
Сержант Троян приблизился к огневой позиции противотанкового орудия, искусно врытого в северный скат насыпи. Это четвертое, после ранее разведанных трех, которое надо было уничтожить в первую очередь. В секторе обстрела этого орудия были удобные для советских танков подступы к вражеской обороне. Троян достал из сумки связку гранат. Изготовился к броску, и, глядя в сторону высокой трубы, ждал сигнала Гридина.
Вдруг за спиной послышался шорох. Оглянулся и увидел, что Терновой катался в снегу, сцепившись со здоровенным гитлеровцем. Только бы фашист не вскрикнул. Взрыв мог бы заглушить голос. Но сигнала нет и нет. Поэтому Троян рванулся на помощь товарищу. И в ту же минуту за торчавшим в проеме стенки стволом орудия мелькнули каски — две, три, четыре… Услышат крик своего и попрут на выручку.
Нельзя!.. Нельзя упустить противотанковое орудие, которое в последнее время вывело из строя столько советских танков… Троян снова повернулся к огневой позиции, с размаху швырнул под колеса орудия связку гранат и упал под основание оледенелых снежных глыб, стеной окаймлявших углубление в насыпи.
Тяжелую морозную тишину взорвал ближний грохот, а через две — три секунды как бы повторился другой, дальний, еще более мощный, перекатный. В глаза Трояна полыхнуло кроваво-красным огнем. Тугая воздушная волна отбросила сержанта в пролом снегового вала, где еще не успел рассеяться дым от гранат.
Только минуту спустя, Троян, увидев падающие рядом какие-то обломки, сообразил: вслед за взрывом его гранат под противотанковыми орудием взлетели на воздух склад с боеприпасами и блиндаж с высокой трубой. Это сработали Гридин, Аглушевич… Троян, цепляясь за глыбы оледенелого вала, пытался выбраться из углубления в насыпи, которое именовалось до взрыва огневой позицией. Перед ним вырос, как из-под земли, окровавленный Терновой.
— Товарищ сержант, я к вам на помощь. Это не моя кровь…
Троян из-за болезненного шума в ушах с трудом разобрал слова Тернового.
Со стороны опрокинутого взрывом гранат орудия появились темные каски — из подземелья выскакивали гитлеровцы.
Разведчики, выбравшись на середину насыпи, укрылись за оледенелыми глыбами. Терновой изловчился метнуть гранату в темный угол окопа. Оттуда раздались крики, беспорядочные выстрелы из автоматов. А Троян экономно бил из ППШ по гитлеровцам, мелькавшим в проломе стенки.
Терновой вскочил, пырнул штыком какого-то запыхавшегося фашиста и снова бросил гранату в дыру подземелья, которую осветила ракета.
С гитлеровцами возле опрокинутого взрывом орудия было покончено. Но вдали, у южной опушки леса, появилась цепочка вражеских солдат, направлявшихся к насыпи.
И опять разгорелась яростная перестрелка. Оглушительно рвались гранаты. В дрожащем свете ракет было видно, как гитлеровцы наступали вдоль насыпи, прочесывая ее бешеным огнем.
Разведчики, отстреливаясь, переползали от укрытия к укрытию, отходили к выемке в северном склоне насыпи. Враги же, не видя ни одного советского бойца, палили наугад, нередко поражая своих.
— Рус, сдавайся! — хрипели с разных сторон простуженные глотки.
— На! Закуси «лимонкой”! – метнул Смирнов в гущу фашистов последнюю гранату.
Его поддержали автоматные очереди.
Неожиданно путь разведчикам преградил кинжальный огонь крупнокалиберного пулемета.
Гридин дал команду Смирнову. И тот, воспользовавшись суматохой во вражеском стане, вьюном скользнул с фланга к вспышкам пулемета.
Над головою загорелась, казалось, особой яркости ракета. Брызгавший белыми искрами ком спускался все ниже. Разведчик припал к оледенелому валу. Бледно-голубоватый сполох новой, такой же ракеты прибавил света. Смирнов отчетливо увидел торцы бревен глухой стены дзота. Значит, его амбразура — с противоположной стороны. На фоне березового сруба шевельнулся гитлеровец у пулемета. Вот он поднял голову. Обернулся. Крикнул. Из-за бревенчатого сруба ему подали две металлические коробки. В течение нескольких секунд было так светло, что Смирнов даже различил латинскую надпись на коробке и заиндевелые иглы хвойных ветвей, воткнутых в снег для маскировки дзота, одутловатое землистое лицо пулеметчика.
Ракеты погасла. И все потонуло во мраке. Потом опять…
Смирнов, выбрав момент, когда пулемет захлебывался от бешеной пальбы по разведчикам, кошкой прыгнул на спину пулеметчика. Выдергивая нож из шеи фашиста, он заметил две тени, юркнувшие в траншею. Смирнов бросился за ними. Одного настиг ударом приклада по голове. Второму такой же удар пришелся по каске. Подобрав трофейные гранаты, Смирнов швырнул связку в дзот и упал возле крупнокалиберного пулемета. Потом с заметным усилием повернул оружие вправо и начал поливать врагов яростным огнем.
Слева, со стороны разведчиков, раздалось торжествующее:
— Ура!..
А невдалеке послышались истерические выкрики, гортанные нервные команды.
Смирнов после короткой паузы возобновил стрельбу из крупнокалиберного.
Разведчики пробирались к разрушенному дзоту, справа от которого была выемка в откосе. Здесь намечен отход в свое расположение.
Терновой, сменив Смирнова, передвинулся с пулеметом на бугорок и ударил длинными очередями по опушке леса, которая, кишела новыми гитлеровцами. Вдруг крупнокалиберному помогли — на вражеской стороне выросли с треском и грохотом кучные взрывы советских снарядов.
Смирнов вернулся к оглушенному гитлеровцу. Попытался приподнять того, но и сам как-то странно присел, со стоном. Потом собрался с силами и волоком подтащил пленного к ногам Аглушевича.
— Это тебе, улыба. Покалякай… Ты умеешь по-ихнему…
Аглушевич остолбенел. Смирнов — известный в танковой бригаде силач — с таким трудом приволок пленного.
— Что с тобой? — озабоченно спросил Аглушевич.
На дружков налетел запыхавшийся Гридин.
— Вот вы мне и нужны!.. Аглушевич, вернись в траншею за патронами к крупнокалиберному. Смирнов, некогда приседать… Мигом…
Рядом взвизгнули рои пуль. Шальные. Пустяки… — Смирнов хотел выпрямиться, но качнулся и осел. Из-под шапки на снег брызнули темные капли крови.
— Ранен?!… Вася! Браточек!.. — крикнул Аглушевич, разрывая медицинский индивидуальный пакет.
К ним метнулся Гридин. Опустившись на колено, откинул маскхалат, расстегнул полушубок и встревожено проговорил:
Да ему и грудь зацепило, и правую лопатку… Это, видать, когда он еще бил из пулемета.
Гимнастерка, овчина — все было пропитано кровью.
— Санинструктор!.. Аглушевич, помоги… И — в тыл!.. — распорядился Гридин, прислушиваясь к гулу моторов, доносившихся с севера. Сомнений не было — это выдвигались советские танки. Вот бы успели только пробраться разведчики-посыльные и вывели бы машины к бреши, пробитой в противотанковой обороне противника.
— Товарищ политрук, Смирнову не поможет перевязка, — докладывал санинструктор. — Раны смертельные. Он, кажется, не дышит…
— Отставить «кажется». Выполнять приказание! — оборвал Гридин, задумавшись: «Довольно оглядываться, жмуриться, ползать по-черепашьи, осторожничать… Все ясно. Двинем. Ударим с налета!» Автомат наизготовку. Щелкнул затвором.
— Ребята, за город Ленина!.. — крикнул Гридин.
Он устремился с насыпи вниз, туда, откуда поднималась цепь врагов. Разорванный маскхалат политрука развевался как крылья большой птицы. Он прыгал через окопы, среди обломков бревен, оледенелых глыб земли, на ходу стреляя из автомата по темным на снегу гитлеровцам.
— Тут вы найдете себе и могилу, проклятые, — произнес Аглушевич, схватил оружие погибшего товарища и несколькими большими прыжками опередил командира.
Терновой, улучшив позицию, длинными очередями из крупнокалиберного поддержал атакующих.
Вражеская оборона заклокотала огнями: вспышками, пучками, пунктирами, брызгами взрывов на земле, каплями, падающими с неба.
А над головами разведчиков с шуршанием и воем рассекали морозный воздух советские снаряды. Они с перекатным треском и грохотом рвалась на опушке леса, кромсая выдвигавшегося оттуда противника.
Над задымленным лесом розовел рассвет.
Иней временами вспыхивал на темных иголках ели колючими, сиренево-фиолетовыми огоньками среди бесчисленных пунктиров трассирующих пуль и снарядов.
Трескотне пулеметов с юго-запада глухо вторила дальнобойные орудия. От разрывов снарядов тяжело вздрагивала заболоченная почва. Рокотали танковые дизели, натужно подвывали моторы транспортных машин и тягачей. Одни переваливали через железнодорожную насыпь, другие выбирались из кюветов, из развороченного снарядами болотистого торфяника.
Тридцатьчетверка с пятнистой броней и надписями на башне «За Родину!» и «65» выползала из выемки-капонира на проселок, ведущий с насыпи-переезда в лес. Траки гусеничной цепи с лязгом и треском подминали под себя жердь полосатого шлагбаума и сваленный столб с дорожным указателем: «STOP!». Башня тридцатьчетверки была до того исклевана и поцарапана снарядами, пулями, что камуфляж на броне сохранился только в виде небольших заплат. Выбравшись на ровное место, машина свернула на обочину и остановилась под поникшими ветвями расщепленной березы.
Политрук Гридин, увидев на тридцатьчетверке цифру «65», выбрался из придорожного хода сообщения, по которому продвигались бойцы мотострелкового батальона, и направился к танку. Во время подготовки атаки насыпи в танковых батальонах не было машины с таким номером. Выходит, бригада получила новые танки. В таком случае, возможно, потребуются экипажи и его, Гридина, могут отозвать из мотострелкового.
Со стальным звоном поднялась крышка командирского люка. Из башни высунулся танкист в обожженном танкошлеме, в замасленной фуфайке. Знакомое лицо. Тонкий прямой нос, красиво очерченный подбородок и резко откинутая голова на крепкой шее.
— Саша! Самохин!.. Ты ли это? — ринулся Гридин к старому другу.
— Вроде бы я… — Старшина Самохин, заменив утепленный мехом танкошлем на обычную шапку с завязанными на макушке тесемками ушей, сполз с башни на жалюзи и спрыгнул прямо в объятия однокашника.
— Здорово, дружище! Ну и переполох ты устроил ночью у фрицев!
— Было… Вот что, лучше расскажи, как и когда ты переместился из тяжелого танка в средний.
— Изменения, изменения, Костя. Отойдем в сторонку, поболтаем, пока экипаж приводит машину в порядок.
Они отошли по изрытому снарядами и минами снегу к обломку шпалы и сели.
— Как тебе, с подробностями или без оных? — спросил Самохин.
Гридин дружески похлопал его по плечу:
— Давай, Саша, с подробностями, раз уж есть у нас несколько свободных минут.
— Ты, наверное, слышал, как на правом фланге гитлеровцы пытались контратакой уничтожить советскую группировку войск, которая занимала исходные позиции для наступления, — закурив и протянув кисет Гридину, заговорил Самохин.
— Однажды спозаранку враги неожиданно с насыпи обрушились всеми видами огня. Затем двинули пехоту. Через железнодорожный переезд прорвались в наше расположение фашистские танки. Атут наш КВ, находившийся в засаде, сказал веское слово. — Самохин с довольным видом улыбнулся. Но из скромности умолчал, что он, командир орудия КВ, с первого выстрела подбил фашистский головной танк; со второго поджег его.
— Словом, головной накрылся, — продолжал Самохин.
— Ты его достал?! — обрадовано хмыкнул Гридин.
— Да, так удачно получилось. Остальные «гудерианы» попытались маневрировать, и нашли в болотистых мочагах свою гибель. Сам понимаешь, стрельба из танка по завязшим в болоте целям — дело нетрудное. Наш КВ вышел из укрытия и полностью воспользовался своим преимуществом…
— Здорово! — горячо воскликнул Гридин.
— Ну вот, подкатили мы к железнодорожному переезду. Только я начал изучать новую обстановку, как к нам подошла новенькая тридцатьчетверка.Выскочил из нее офицер с приказанием комбрига. И веришь ли, прямо с ходу: ты, командир КВ, сам садись за прицел и обеспечивай правый фланг огнем с места. А вот на эту тридцатьчетверку, ткнул планшеткой в башню, из которой вылез, давай командиром старшину Самохина. И тут же — ко мне: «Немедленно поворачивай влево и отправляйся к участку, где наметился успех» — указал на карте место — там, где ты, Костя, действовал со своими разведчиками …
— На новенькую твоя тридцатьчетверка не очень похожа, — заметил Гридин.
— Это по пути к тебе пришлось решать крайне неотложные задачи. Вот и разделали гады мою красавицу.
— Это впрочем, только еще больше украшает ее. — Гридин с завистью оглядывал боевую машину. — Ну, Саша, во-первых, поздравляю тебя с продвижением по службе. Вчера командир орудия, а сегодня командир танка! Да, не скажешь, что судьба обошла тебя.
— Знаю, знаю, Костя. Это твоя мечта — опять сесть в танк… А помнишь наши попытки прорваться к ленинградцам под Синявином?.. Кстати, когда мы шли сюда, рядом был наш донжуанчик Гера Мотыльков. Он тоже шагнул от заряжающего до командира танка. И водителем к нему назначен наш Ваня Моторный.
— Интересно, как они ладят, такие разные. Мотыльков любит славу и… А Моторному повесь на нос и славу, и девку, он не заметит ни той, ни другой.
— Э-э, нет, Костя. Так было в нашей полковой школе. Здесь же Ваня — лев, он давно начал на делах оправдывать свою фамилию; ( Моторный — /укр./ ловкий, проворный) смелый, находчивый воин, хотя внешне по-прежнему кажется флегмой.
— Самохин, лукаво улыбаясь, добавил: — Говорят, не обошлось тут без вмешательства Клавочки. Помнишь нашу медсестру из бригадного медсанбата? Быть может, это ее кровь так разогревает малоподвижного, апатичного Ваню Моторного. Теперь он уже разговаривает не только с тридцатьчетверочкой, но и с девушкой.
— И ты изменился, Саша. Хотя, как и прежде, все критикуешь, но уже с позиции шутника. Что ж, логично: тогда были неудачи, теперь этот успех… Все-таки, добрый отрезок железной дороги мы отхватили на линии Мга — Кириши.
Самохин достал из планшетки потрепанную на изгибах, в маслянистых пятнах, испещренную цветными карандашами топографическую карту. Друзья стали сличать условные знаки на ней с еще дымившимся полем боя.
За искалеченными деревцами редколесья темнела торфянистая прогалина, взрыхленная снарядами. К ней примыкал источенный окопами и блиндажами южный откос насыпи. Там и сям виднелись груды обугленных бревен, остовы грузовиков, тягачей, транспортеров. Валялись стволы разбитых орудий, пулеметов, части танков и другой боевой техники. И над всем этим висел тяжелый, удушливый смрад гари.
— Разъезд Жарок. Казарма, — указал Самохин на догоравшие пожарища, горько добавив: — Разъезд, на котором не разъехались, а столкнулись. Обе стороны рвались на «семафоры” с красными огнями.
— А «каз.» на карте стала кирпичным дотом на поле боя.
— Да, на подступах к ней обдавало и холодом и жаром, — согласился Гридин. — Пока танки взобрались на насыпь, я тут с разведчиками чуть дуба не дал.
— Знаю, Костя. Ты посылал к нам троих. Но выбрался из ада только Троян. Он-то и принес разведданные, которые помогли, наконец, нам ворваться во вражескую оборону.
— Вы нас поддержали, мы вам помогли. Ведь старые друзья…
— Верно. Кто бы мог подумать, что мы, однокашники, будем воевать бок о бок. Ты, наверное, тоже часто вспоминаешь нашу полковую школу. Жаль, что не удалось ее окончить. А помнишь боевую тревогу накануне войны? Как встали тогда мы, недоученные младшие танковые специалисты в строй… Вон у тебя до сих пор танковые эмблемы на петлицах.
— Я их не сниму, потому что не теряю надежду вернуться к рычагам и рукояткам управления танком.
— Как видно, ты именно в мотострелковом очень нужен, — высказал предположение Самохин.
Но Гридин не хотел говорить на эту тему. Неожиданно он спросил:
— Что это за девушка побежала к люку механика-водителя?
— Кажись, сестра Клава, из медсанбата. Вон и Ваня Моторный вылез из танка. И Мотыльков тут как тут. Не смотри в ту сторону, а то Клава вообразит, будто и мы очень интересуемся ею. Кстати, давеча проходили здесь разведчики, видимо, к новому рубежу. Так вот Клава увязалась за строем, вытащила оттуда Трояна. И, представь себе, на глазах у всех начала объяснение: пусть, мол, вернет ей какой-то важный конверт. А тут ребята давай балагурить, предлагать свои письма.
— Так по-мальчишески заигрывать с девушками… На Петра это не похоже, — отмахнулся Гридин от едкого дыма, который поднимался над кучами тлеющего торфа.
— Да не он к ней, а она к нему… И, говорят, она все-таки вырвала из рук Трояна голубой самодельный конвертик без обратного адреса, — начал было пояснять Самохин, но мотнул головой и опять уткнулся в карту. Через минуту попросил товарища показать на ней положение соседей.
Следя за толстым карандашом политрука, скользившим по условным знакам, Самохин мысленно сравнивал нынешние события с теми, которые происходили в первые дни войны. Роковая ночь с 21 на 22 июня сорок первого… Лагерь в лесу, недалеко от Западного Буга. Артиллерийская канонада вдоль Государственной границы. Вчерашние курсанты сержантской танковой школы Гридин, Моторный и Самохин мчались на старом учебно-боевом танке в контратаку. Троян — с винтовкой СВТ в руках, пешком. Мотылькову тоже не досталось учебно-боевой машины.
На границе завязались тяжелые бои. Удачи и неудачи. Самохин стал командиром экипажа разведывательного бронеавтомобиля, где за рулем был курсант Чапурин. Гридин командовал экипажем танка. На реке Стырь их машины сгорели. Друзья продолжали воевать в пешем строю. Гридина назначили комиссаром сводной танковой роты. Все мечтали получить новые машины, когда с Днепра танковые экипажи отвели в глубокий тыл. И, действительно, в лагере под Владимиром — Суздальским все они сели в новые машины и — на фронт.
Волховские леса и болота. Командира машины Гридина направили секретарем комсомольского бюро сначала в отдельную разведывательную роту, а затем — в мотострелковый батальон. Несмотря на то, что ему присвоили воинское звание политрук, он огорчился — потому что вернуться в танковый экипаж было не так просто.
Досадовал Гридин и на то, что, уезжая перед войной в армию, не простился с Надей, не удалось сказать ей самое главное. Они вместе с Трояном не успели опомниться, как поднявшись со студенческой скамьи, мигом проскочили ступени: военкомат, общежитие, сборный пункт призывников на вокзале, воинский эшелон и — военный городок танковой части вблизи западной границы страны. Троян тоже не простился со своей девушкой Верой. И пока он собирался сфотографироваться в танкистской форме и удивить зазнобушку необыкновенной карточкой, Вера вышла замуж. Потом началась война.
На фронте Троян в часы досуга вспоминал, как приезжал в деревню на каникулы и пел возле Вериной хаты:
Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя,
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная!
Друзья детства поэтизировали: Вера — Вечерняя звезда, Надя — Утренняя. А впоследствии, когда Вера изменила, покладистый и терпеливый Троян успокаивал Гридина: дескать, моя, Вечерняя, зашла. Такова судьба… Атвоя, Костя, Утренняя, взойдет, надейся. И однаждыблеснул лучик надежды — Гридин получил от Нади теплое письмо. Ответить на него не пришлось — началась война. Второе письмо привезла Клава, сопровождавшая раненых в санпоезде до Куйбышева, где та случайно познакомилась с Надей на местных курсах медсестер. Но самодельный голубой конвертик пока не попал в руки Гридина из-за какого-то, как полагал Троян, каприза Клавы.
Всех удивил, однако, Иван Моторный. Он был влюблен в технику. Но случилось так, что после ранения медсестра Клава дала ему свою кровь. Он быстро выздоровел и стал бредить не только чудо — тридцатьчетверкой, но и кареокой дивчиной. Казалось бы, двойное увлечение не вязалось с внешне пассивной, прозаической натурой Моторного. Троян шутил: мол, пока сердцеед Гера Мотыльков на словах мечется в поисках романа хотя бы с какой-нибудь девушкой, Ваню удостоила внимания самая скромная и милосердная сестра.
Самохин всегда резко осуждал тех, кто пытался «крутить романы» на фронте. Мотыльков насмешливо подзуживал, что интерес к девушкам отбили у Саши три сестренки-близнецы, которые были у родителей на первом плане.
Старшина Самохин опять стал складывать карту. Гридин поднял голову и увидел Ивана Моторного, шагавшего рядом с Клавой, очевидно, провожал ее в тыл по тропинке, вившейся к насыпи. Рядом с коренастым, неторопливым Моторным девушка даже в полушубке выглядела совсем тоненькой и легкокрылой какой-то.
Мотыльков, стоя на корме своего танка, тоже смотрел им вслед. Потом обернулся к радисту-пулеметчику и стал принимать у него снаряды, подавая их через открытый люк в машину, заряжающему.
— Значит, это и есть та девушка, которая помогла Моторному встать на ноги, — произнес Гридин.
— По-моему, всякое заигрывание с девушками в наших условиях чревато громким «чэпэ», — сказал Самохин, когда Клава скрылась за насыпью, а Моторный возвращался к танку.
Густые пушистые брови Гридина удивленно приподнялись.
— Да, да! — продолжал Самохин. — Скажу яснее… Клава — это детская наивность и святая простота. Порой кажется, что она сердцем с Ваней, а когда заговорит Мотыльков о своих подвигах, готова съесть того глазами… Впрочем… — Он вдруг переменил тему разговора: — А знаешь, Костя, кто у меня водителем?.. Нет! Так вот, чего я боялся, то и случилось. Вон, уже началось. Послушай.
Над раскрытыми жалюзи тридцатьчетверки Самохина сгрудились бойцы.
— «Когда он оглянулся, она повернула голову, — донесся чистый приятный голос. — Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его…”
— Догадался, Костя? Рисуется картина первой встречи Вронского с Анной Карениной. Очень «подходящая» сцена для этой обстановки: подготовка после боя к новому броску на врага, — саркастически заметил Самохин. — И так он может часами пересказывать целые главы из книг Толстого. В жизни не встречал такого способного, я бы сказал, очень умного дурака. Многих покоряет его простота, талантливость. Но мне — то, командиру экипажа, нужны иные таланты, и в первую очередь, талант военного водителя. А ведь это ты, Костя, рекомендовал его в танковый батальон и этим здорово «удружил» мне.
Да, Гридин вспомнил интересного бойца и обстоятельства первой встречи с ним.
Это было во время подготовки к прорыву обороны противника. В мотострелковый батальон прибыла с Поволжья маршевая рота, и с ней вернулась в бригаду Клава, сопровождавшая в Куйбышев раненых. Комиссар бригады, заместитель командира по техчасти и Гридин, беседуя с новобранцами, выявляли, кто из них разбирался в технике — нужно было доукомплектовать танковые подразделения.
Один из новобранцев представился:
— Рядовой Кирилл Антипин. Люблю машины. В пути на фронт проводил с новым пополнением викторины: «Мотор», «Пулемет», «Оказание первой медицинской помощи раненому»! Медсестра Клава участвовала в подготовке викторины. Она может подтвердить…
У паренька был приятный тенорок. Внешность — своеобразная: хорошо физически развитый, мускулистый, с короткой шеей и крупной головой. Пальцы у него были тонкие и длинные, как у пианиста. Лицо круглое, с широким ртом и глазами неопределенного цвета. Весь облик выражал такую доброжелательность и наивность, что люди относились к нему с симпатией.
Новобранец одинаково просто завязывал разговор и с самым молчаливым рядовым, и с недоступно-строгим старшиной роты.
Самое удивительное произошло после того, когда полковой комиссар Кузнецов, закончив беседу с группой молодых бойцов, слегка припадая на левую ногу, отошел несколько в сторону и сел на пенек. Никто не заметил, как рядом с военкомом очутился рядовой Антипин.
До слуха Гридина долетали обрывки фраз:
— … Что? Атаковать противника десантом на броне? Даже былинные богатыри пользовались щитами, кольчугами. Разве можно заслонить лицо от пуль и осколков вот этой ладонью?.. Другое дело в танке. Из-за брони способнее достать фашиста в любых укреплениях. Совершить подвиг!.. Это же здорово. Мама часто рассказывала о подвигах деда…
— Кем бы ты, Кирилл, хотел воевать в составе танкового экипажа? — с отеческой усмешкой спросил Кузнецов, пригласив бойца сесть на бревно, рядом.
— Конечно, механиком — водителем! — воскликнул Антипин с наивной непосредственностью, придвинувшись поближе к полковому комиссару.
— Вон ты какой!
Украдкой поглядывая на шрам возле уха, Антипин спросил:
— Это у вас след от сабли? В гражданскую ранили?..
И потекла непринужденная беседа.
— Не знаю, Александр Логинович, как вы все про меня угадали… Да, в институте я не раз слышал от шутников: Кир Антик. Спасибо, что вы меня выслушали. Теперь все просто… Разрешите прочитать несколько абзацев из «Войны и мира”? — И, не дожидаясь разрешения, Антипин начал: «Итак, Кутузов… Да, да, сделайте это… Нет, не надо, лучше подождем…»
Казалось, будто он передавал то, что сам слышал из уст Кутузова, но с интонацией… Кузнецова. Полковой комиссар, как бы узнав свой голос, с улыбкой качнул головой: «Ну и артист!»
Кончилось тем, что военком, подозвав к себе Гридина, поручил ему сходить в танковый батальон и там, за рычагами Т-34 показать, что одного желания стать танкистом мало. Надо еще приобрести навыки работы с танковой техникой, попотеть на танкодроме.
После двухчасового ознакомления с танком Антипин твердо сказал:
— Спасибо, товарищ политрук. Мне все ясно. Будет трудно. Но помогите мне попасть для начала хотя бы десантником на броню танка.
— Да… Этому Кир Антику, наверное, еще не приснился сон, в котором он вместе с Суворовым перепрыгивал в Альпах с одной горы на другую, иначе он вообразил бы себя и в роли нашего командующего генерала Федюнинского, — сказал Самохин, закрыв клапан планшетки.
— Ты, Саша, изменился, но не полностью, — мягко заметил Гридин. — Продолжаешь критиковать то, что отличается от обыденного. Правда, твой Антик попал в танк не с «парадного», а с «черного» хода… — и Гридин рассказал, как во время вражеского авиа налета на район сосредоточения бригады, Антипин залез в тридцатьчетверку через эваколюк /другие люки оказались заклиненными/, завел мотор и, маневрируя, поставил ее в укрытие. Комбриг, пожимая руку смелому и находчивому бойцу, благодарил за спасение танка.
— Кирилл вырос в интеллигентной семье, — продолжал Гридин. — Без пяти минут филолог. Увлекался спортом, техникой. Имеет права вождения мотоцикла, автомобиля, трактора. Прыгал с парашютной вышки… Перед призывом в армию разработал в кружке Осовиахима интересное наглядное пособие для технического класса «Мотор»…
— Посмотри, Костя, Антипин полез на жалюзи, — вставил Самохин. — Кругом толпятся новобранцы. Не собирается ли он приподнять надмоторную броню?
— Ну и что же? Подойдем и мы, Саша, да вели механику-водителю рассказать мотострелкам об устройстве Т-34.
— Вряд ли он сумеет. В Осовиахиме не изучали новую секретную технику.
— Не бойся, Саша, познакомить молодых десантников с прославленной тридцатьчетверкой и с теми, кто ею управляет.
— Ладно, — неохотно сдавался Самохин. — Может ты разочаруешься в своем осоавиахимовце и потом поможешь найти замену.
Командир экипажа, собрав возле машины автоматчиков -десантников, представил им механика-водителя.
Рядовой Антипин, машинально растирая черным кулаком солидол на лбу, неторопливо начал:
— Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали… — Удивленно-вопросительные выражения лиц слушателей поторопили рассказчика внести ясность: — Так описывает Толстой начало бегства Наполеона из России. Мужики-солдаты наступали пешком, только небольшие отряды казаков — на лошадях. Представьте себе, легко ли было русскому воину пробираться через леса и топи к дорогам, которые следовало перекрывать, делать в узких местах пробки. Белорусские болота мало чем отличаются от здешних «мхов». Лошадиное копыто как бы пробивает через мох путь в бездну. — Смахнув рукавицей снежные комки с траков гусеницы, механик-водитель воодушевился: — А вот стальные «копыта” тридцатьчетверки могут выдержать на себе такой тяжелый груз, который и не снился никакому кавалеристу. Да, конструкторы «обули» эту машину очень умно — 28-ми тонная махина может передвигаться и по снегам, и по болотам. Даже там, где застрянет обычный конь, наш стальной пройдет… Что? Кажется, невероятным? — Антипин окинул взглядом молодых бойцов: — Здесь секрет вот в чем…
— К машинам! — послышалась команда. — Приготовиться к маршу.
— Хорошая команда. Но плохо, что не хватило времени дослушать Антипина,- вполголоса сказал Гридин Самохину. И громко объявил бойцам: — Это не конец, а только начало. Рассказ механика-водителя продолжится показом.
Уходя, он обернулся, взглядом простился с Кириллом. Жаль, что опять не удалось побеседовать с ним. А Петро, проходя мимо, бросил: мол, побеседуй с Клавой и ее земляком Кириллом.
Рокада… Антипин понимал это слово упрощенно, считая, что и его довоенный, осоавиахимовский путь был параллельный армейскому. А на деле…
Южнее железной дороги, отбитой у врага, простиралось чахлое болотистое редколесье, по которому гитлеровцы провели зимнюю дорогу, параллельно бывшей линии обороны.
Танковая колонна вытянулась вдоль рокады. Автоматчики -десантники мотострелкового батальона разместились с боков и сзади башен.
Гридин, взбираясь на броню первой машины, говорил бойцам:
— Десантники, не заслонять собою стекла смотровых приборов. Крепко держаться за поручни, за выступы на броне. Следить друг за другом, чтоб никто не свалился под гусеницы, не обморозил нос, щеки… Комсорг — один, не проглядеть целе указания, сигналы разведчиков, сообщать экипажам танков о противнике… Комсорг — два, ориентировать водителей… Предупреждать о замаскированных ветвями, снегом ямах, канавах, окопах, воронках, вскрывших ледяной покров на болотах…
— Наблюдатели, не проворонить сигналы! — послышался приказ командира мотострелкового батальона.
— Оружие держать в готовности, но поставить на предохранитель, — добавил комиссар батальона.
Наконец, поступила команда: «Вперед!”
Усилился рокот танковых моторов. Колонна двинулась с места.
Первый танк, объезжая глубокие воронки, двинулся по зимнику.
Гридин, обернувшись назад, любовался на изгибе дороги плавным ходом бронированных машин, выкрашенных белой краской, молодецким боевым видом автоматчиков в маскхалатах, кучно облепивших броню. Скорость все возрастала. Казалось, в завихрениях снежной пыли и выхлопных газов двигалось нечто богатырское, способное мощным грохотом, стальной грудью преодолеть все препятствия на пути.
Через короткое время поступил сигнал:
— Внимание!
И — распоряжение:
— Свернуть: первому танковому батальону влево, второму — вправо… Саперам спешиться…
Впереди показалась заснеженная поляна, покрытая льдом, под которым таилось гиблое болото. Об этом заранее предупредили разведчики. И действительно, танкисты увидели на зимнике, на обочинах воронки, окаймленные глыбами оледенелого торфа; в углублениях поблескивал лед.
Танки начали объезжать воронки целиною.
Машина старшины Мотылькова первой, искусно сманеврировав среди глыб, похожих на надолбы, проскочила поляну и углубилась в осинник.
— Чувствуется почерк Ивана Моторного, — удовлетворенно заметил Гридин.
По свежей первой колее прошли три танка. Следом намеревался двинуть механик-водитель Антипин.
— Нет! Правый рычаг на себя, — скорректировал курс машины командир экипажа старшина Самохин. — Прокладывай новую рокаду. Почему? На досуге подумаешь и доложишь.
Не отвлекаясь от главного, Антипин подумал, что тридцатьчетверка накатывает своими 144-мя широкими траками, попеременно на 48 из которых распределяется вся 28-ми тонная стальная махина. В снегу образуется глубокая колея. Второй танк, идущий следом, хотя его удельное давление меньше давления копыта лошади, но он зарывается еще глубже в сыпучий снег. Третий или четвертый танк могут добраться гусеницами до тонкого, ненадежного льда на болоте и провалиться в торфяную бездну. Отсюда ясно, что четвертому танку не следует рисковать.
Так по теории. А на практике…
— И чистой снежной белизной не соблазняться, — предупредил старшина Самохин. — Возьми чуть влево… Довольно! Подминай гусеницами березки, сосенки, кустарник.
Это требование командира тоже понятно. Там, где растут деревца, проходимость машины улучшается. Антипин мысленно видел под белоснежной равниной грязно – зеленые топи, покрытые мшистыми кочками. Нет, сдуру булькнуть туда — самая глупая, бесславная смерть.
Размышления механика-водителя прервал новый сигнал:
— Воздух!
На тревожно-красном небосклоне запада появились темные точки. Все увеличиваясь, приближались девять фашистских бомбардировщиков.
Некоторые тридцатьчетверки остановились. Многие десантники начали неуверенно слезать с машин. Потом неожиданно одни кинулись к железной дороге, другие к дальней роще.
— Прекратить движение! — дублировали командиры подразделений приказ комбрига. — Всем замереть на обочинах!
Но некоторые новички продолжали метаться.
К ним кинулся Гридин:
— Ныряй в снег. И не шевелись!
Однако не до всех доходил приказ. Гридин выхватил из кобуры пистолет, подкрепив слова жестом:
— Комсорг — три, покажи, как это делается, иначе стрелять буду.
Антипин, выглядывая накоротке из люка, убеждается: а как же иначе? Дисциплина! Все должны выполнять требования командира. Вон, на обочине слева, танк, став около опушенных снегом деревьев, слился с местностью. Автоматчики, замершие в рытвинах, вблизи заиндевелых кустарников, совершенно неприметны.
Фашистские «юнкерсы — музыканты» с завыванием сирен устремились к земле. К ним отовсюду, особенно с насыпи, потянулись огненные прямые, пунктиры, шарики. В небе возникали и таяли пепельно-дымные клубки. Окрестности огласились гулкой стрельбой.
От самолетов отделились, рассекая светящиеся трассы и дымы, черные цепочки. Казалось, бомбы падали точно на танки.
Взрывы!.. Грохот!.. В лицо Антипина ударила через смотровую щель тугая воздушная струя со снежной пылью. Запахло кисловатым тротилом, гнилой влагой торфяного болота. Еще и еще взрывы, впритирку.
— Люки не открывать! Люки не открывать!.. — передавалась команда от машины к машине.
Гитлеровцы отбомбились. Самолеты повернули на запад.
Первыми зашевелились мотострелки. Кто-то пошутил. Кто-то засмеялся.
Антипин, откинув крышку люка, насвистывая: «Легко на сердце от песни веселой…» и включил первую скорость.
— Прекратить самодеятельность! — оборвал Самохин.
— Запомни: без команды люки не открывать, не трогаться… Сдать назад! Обойти воронку слева. Да плавно, не рвать с места.
По распоряжению комбрига танки, выдвигаясь из-за укрытий, перестраивались из походного в предбоевой порядок.
— Это в предвидении встречного боя с противником, — разъяснял Гридин маневр десантникам.
Начало темнеть. Скорость движения уменьшилась.
— У железнодорожной насыпи — частые вспышки, — передал наблюдатель с первого танка. — К нам кто-то спешит.
Гридин всмотрелся в затуманенную даль, пересекаемую огненными трассами. И увидел среди кустарника автоматчика, торопливо пробиравшегося по глубокому снегу.
— Остановитесь! Остановитесь!.. — жестикулировал тот.
Танки, снижая скорость, приближались к жиденьким деревцам на обочине зимника… И когда боец, выбравшись на твердое полотно дорога, прибежал к головной машине, Гридин узнал в нем разведчика Тернового.
— К переезду пробивается вражеская колонна… — задыхаясь, докладывал разведчик командиру батальона.
— Замечены пехота и четыре тягача с пушками, передний завяз в кювете.
Комбат, переговорив по рации с командиром танковой бригады, развернул карту.
Ясно. Гитлеровцы подбрасывают резервы, чтобы не допустить нас к укрепленному узлу обороны Шала.
И приказал разведчику Терновому:
— Передать Трояну и командиру стрелкового подразделения: маневренной обороной тянуть время. Когда мы приблизимся к противнику с фланга, показать кучными выстрелами нам цели.
У самой насыпи взвилась в небо осветительная ракета.
— Ребята, переползай на запасные позиции,- скомандовал сержант Троян, выслушав Тернового.
Они двинулись среди нагромождений изогнутых рельсов, обломков шпал под защиту развалин придорожных построек.
С востока приближался гул моторов. И в расположении противника зачастили короткие вспышки огней. Усилился шум, гомон.
— Показать цели танкистам! — приказал Троян.
И тут же с различных направлений потянулись строчечные огненные нити, которые сходились в местах скоплений гитлеровцев, у застрявших вражеских машин.
А с рокады накатывали светло-серые холмы. Затрещали придорожные кустарники, гусеницы подминали под себя, вдавливая в снег, низкорослые осины, сосенки.
— Автоматчики, прыгай направо! — крикнул Гридин, переходя от башни на корму.
Спрыгнув на кучу хвороста, он с возвышения прослеживал за действиями бойцов, поторапливал отстающих.
Сверкнули остро — направленные в сторону противника огни. Промозглый ледяной воздух разорвали оглушительные удары танковых пушек, металлические очереди из пулеметов, звонкие трели из автоматов.
Антипин, будто потерял почву под ногами. Рывками задвигал рычаги, торопливо то выжимал, то отпускал педали. Пытался разглядеть через узкую щель триплекса, что творилось вблизи танка. И в лучах ракет замечал отблески чужих касок. Это вражеские солдаты копошилась возле уткнувшегося в кювет транспортера, который дергался взад — вперед, зарываясь все глубже в рыхлую почву.
Над головою грохнул орудийный выстрел. Рядом, справа застучал курсовой пулемет. С расстояния двухсот метров фашисты ответили по танку из всех видов оружия. Перед глазами Антипина полыхнуло пламя. Неужели пожар ?!… Оглушенный и ослепленный водитель невольно опустил руки. Тридцатьчетверка вздрогнула и затихла.
— Не останавливаться. Прямо! Дави! – зло крикнул Самохин.
— «Кого?.. Что давить? Пожар?..” — недоумевал Антипин, но слившись воедино с рычагами и педалями, старался выполнить требование командира.
Справа выскочила тридцатьчетверка Мотылькова. Она поддела гусеницей и опрокинула набок вражеский грузовик с ящиками, и, давя попутно гитлеровцев, скрылась за снежно-дымной пеленой. Иван Моторный наклонился вперед, проследил за показаниями стрелок на приборной доске и удовлетворенно заметил: «Так, так… Немножко согрелись. Сейчас будет еще жарче. Не подведи меня».
Антипину — не до режима работы машины. Его ошеломили красные огни, слепящие вспышки. Руки и ноги отяжелели. Тридцатьчетверка еле-еле ползла.
— Что случилось? — крикнул Самохин.
— Ничего не вяжу, — пробормотал Антипин. — Всюду горит…
— Жми прямо на огонь. И все прояснится.
Антипин прибавил газу, но забыл перейти на высшую скорость. И растерялся: казалось, не он атаковал, а на него надвигались кругляки накатов, из-под которых, как из форсунок, вырывались языки пламени. Началась невообразимая тряска. Вдруг в триплексе мелькнуло небо с изогнутой красной трассой ракеты. Сверкнула белая вспышка. Танк резко накренился. За спиной механика-водителя что-то загрохотало. В щели триплекса — освещенный лес, подвижные тени. И опять — удары, подергивания. Руки с трудом удерживали рычаги. Танк будто выходил из повиновения и самостоятельно на что-то поднимался, потом опускался, переваливаясь с боку на бок. Под гусеницами трещали, грохотали бревна.
Наконец, тридцатьчетверка выбралась на ровное место. Но и там — бледно-голубые, красные сполохи. Заснеженные кустики, уродливые тени шарахались в разные стороны. Цепочки солдат в касках будто проваливались сквозь землю.
Самохин стиснул зубы. Так, значит, гитлеровцы пытаются вернуться к насыпи, в дзоты, блиндажи, из которых были недавно выбиты.
— Пулемет!.. — звучала в наушниках экипажа его команда. — Механик, газу!.. Казни душегубов!
Антипин увидел впереди корму вражеского тягача, угодившего передними колесами в глубокую воронку. Самим бы не плюхнуться в развороченное снарядами болото. И механик-водитель плавно повернул влево, сбросил газ. Перед глазами вырос ряд берез. Тупик. Справа болото, слева траншеи, впереди стена деревьев. Что делать?
— Ломай березы! — приказал Самохин.
— Есть! — Антипину понравилась решительность командира танка.
И про себя он высокопарно произнес: «Раз замахнулись многотонным стальным кулаком мощностью в пятьсот лошадиных сил, рожденных в двенадцати цилиндрах танкового дизеля, то бей. Нам все нипочем».
— Агов! Не бросаться в крайности, — сдержал водителя Самохин.
— Круши препятствия лобовой броней. Долбанешь дерево ленивцем, и станем неподвижной мишенью для противника.
Удар! Впереди танка лег длинный ствол первой березы. Затем второй, третьей…
— Получается отличный колейный мост, — оглянувшись назад, сказал Самохин. — Дуй до насыпи. И поэтому колейному назад вернемся.
Однако задуманный маневр не состоялся.
Вырвавшись к насыпи, Антипин повел танк вдоль откоса. Под гусеницами затрещали жерди, доски блиндажей, дзотов, в которых успело скрыться немало гитлеровцев. Только одиночкам удалось покинуть «теплые» норы, спасаясь от гусениц.
В азарте погони за толпой ошалелых гитлеровцев тридцатьчетверка Самохина уклонилась в сторону от насыпи, и оказалась в низине, изрезанной осушительными канавами, присыпанных снегом. Попав левой гусеницей в одну из них, машина резко накренилась влево и остановилась. В башне загрохотали гильзы, пулеметные диски. Заряжающий, стукнулся головой о броню и закричал:
— Опрокидываемся!
Антипин на этот раз и не пытался выправлять положение, полагая, что повторится то «чудо», которое случилось во время тарана дзота. Ему казалось, что тогда тридцатьчетверка сама вышла из критического положения.
— Очнись, растяпа! Левую гусеницу затягивает болото! — яростно выкрикнул Самохин.
Механик-водитель лихорадочно стал выжимать педали, задергал рычагами. Экипаж ощутил отчаянные рывки всей многотонной стальной крепости. И сразу все затихло. Только слышалось какое-то непонятное змеиное шипение.
— Будто горит бикфордов шнур, — замер Антипин, прислушиваясь.
— Неужели взорвемся? — подал голос заряжающий.
— Все. Приехали, — саркастически произнес Самохин.
Двигатель заглох. Перегрелся. Вот и шипит. Выходи на волю.
Первым выкатился из люка механик-водитель. Упал в бурый, смоченный торфянистой жижей снег. Над головою повизгивали пули. Антипин ползком подобрался к левому борту. И увидел: гусеница и катки увязли в бурой каше, которая, несмотря на плавающие в ней осколки льда, парила, клокотала, будто кипела.
— Ребята, бегом сюда! — позвал Самохин мотострелков, закончивших очистку от противника южных скатов насыпи.
Танкисты сами расчищали подступы к застрявшим гусеницам. Мотострелки подтащили к танку бревна, шпалы, жерди.
— Тридцатьчетверочку мы на руках вынесем, — сказал командир мотострелковой роты. — Она здорово помогает нам.
Бой не утихал.
Танк старшины Мотылькова столкнулся с артиллерией противника. К нему подоспели автоматчики во главе с комбатом и Гридиным. Они залегли за стволами поваленных берез, стремясь разобраться в обстановке.
Вон из-за колес вражеского тягача вспыхнул, дрогнул и сразу погас луч фонарика. Редколесье осветила ракета. Со стороны тягача донесся хлопок выстрела из ракетницы. Две пушки разворачивались на обочинах проселка в направлении танка Самохина; другие две — в сторону насыпи. Туда же торопилась цепь теней в касках, застревая в глубоком снегу.
— Уничтожить прикрытие вражеской противотанковой батареи, — распорядился комбат мотострелкового.
— … И прислугу пушек, — добавил Гридин, заметив суматоху темных силуэтов у ближайшего орудия.
Снаряды из танковой пушки Мотылькова рвались впереди орудия противника. Потом стали кромсать нагромождение каких-то тюков и ящиков на обочине проселка. Наконец, противотанковое орудие исчезло в клубах снежной пыли и дыма. Такая же участь постигла второе орудие. Третье успело дважды выстрелить. «Болванки» с завыванием рикошетировали от башенной брони танка Мотылькова. В единоборстве тридцатьчетверка победила. Мотострелки захватили тягач. Гридин завел его и стал сдавать в кусты, к ящикам с боеприпасами, чтобы погрузить их и увезти из-под носа противника.
Мотыльков на своем танке вихрем помчался к четвертому орудию. Гитлеровцы — врассыпную. Мотыльков выскочил из танка, подбежал к трофейной пушке, приказал подоспевшим бойцам отцепить ее от тягача и развернуть в сторону Шалы. А сам за снаряд и — в казенник. Кое-как навел. Выстрел! Гридину крикнул:
— Вот так, Костя, надо действовать. Продолжайте!.. — и осекся, схватившись за левую руку.
Гридина встревожил новый выстрел, прозвучавший вблизи, со стороны выступа густого березняка. И он, отправив к Мотылькову санинструктора, метнулся к березняку. Там, вначале продолговатой поляны, гитлеровцы лихорадочно копошились возле колес пушки. Видно, у них после первого выстрела что-то не ладилось. Одни расчищали снег, другие тащили с опушки рощи жерди. Окинув быстрым взглядом подступы с проселка к вражеской пушке, Гридин вернулся к Мотылькову. Без лишних слов обменялся с ним головными уборами и, застегивая на ходу танкошлем, побежал к тридцатьчетверке.
— Товарищ политрук, разрешите вон на те фонарики, — сиповатым голосом попросил механик-водитель Моторный. Старый однополчанин понял, что Гридин торопился заменить выбывшего из строя командира танка.
— Нет, Ваня, — сказал Гридин, звякнул крышкой командирского люка и добавил: — Фонарики берут на себя мотострелки. А мы двинем на выручку Самохина, — и схватился за рукоятки подъемно-поворотного механизма. Щелкнув на груди тумблером внутреннего переговорного устройства, Гридин приказал:
— Осколочным заряжай! Правый рычаг на себя. Ориентир — телеграфный столб с подпоркой… Больше газу!
Выходя на опушку березняка, Гридин припал к прицелу, увидел градуировку, установил дистанцию до цели, подвел к горизонтальной черной нити большой угольник и скомандовал:
— Короткая остановка. — Еще не улеглось качание пушки, а в наушниках экипажа, металлически прозвучал приказ:
— Огонь!
Ударила танковая пушка. Еще и еще раз…
Только после четвертого снаряда экипаж узнал:
— Цель! Противотанковое орудие подавлено, прислуга уничтожена. Поворачивай, Ваня. Где там твои фонарики? — Гридин слегка приподнял головою крышку люка, с высоты танковой башни стараясь рассмотреть поле боя.
Со стороны рокады доносился гул моторов и характерный для тридцатьчетверки металлический перестук траков гусениц. Стрельба стихала. Но вражеские ракеты продолжали вспыхивать чуть ли не над головами.
Гридин торопливо вытирал пот с лица. Разгромлен ли второй эшелон врага? Скорее всего, уничтожен и частично рассеян только авангард. Главные силы, по-видимому, на подходе. Иначе, откуда столько огней?
Во всем, однако, чувствовалось, что танкисты и автоматчики, предвкушая радость завершения боя, уже спешили на свое основное направление, ведущее к деревне Шала.
Несколько минут передышки. Гридин встретился с командиром танкового батальона.
— Командование бригады благодарит вас за находчивость в бою, — сообщил комбат. — Так держать, Гридин! Это слова военкома Кузнецова.
И снова танки и автоматчики в прежнем предбоевом порядке двинулись по хорошо наезженному проселку к деревне Шала. Некоторые механики-водители нетерпеливо мигали ближним светом.
— Ни к чему ночью себя обозначать, — недовольно пробормотал Моторный. Через минуту-другую тревожно доложил командиру: — Опять впереди чертовы фонарики.
Гридин нахмурился. Ему не нравилась тишина, подозрительная возня на стороне противника.
Вдруг из-за деревьев блеснули яркие залповые вспышки. Разразился грохот. Машина, маневрировавшая вдоль проселка, загорелась. С наклонной лобовой брони скатился в снег объятый пламенем танкист. К ней двинулась другая. Но и та, клюнув носом, остановилась. Из-за крышки командирского люка показался капитан. И тут же беспомощно сполз головой на жалюзи.
В дымном свете горевшей машины Гридин увидел угловатые танки. Между ними, уступом влево и вправо — противотанковые орудия. Гитлеровцы спрыгивали с транспортеров и исчезали за обочинами проселка.
— Контратакует новая пехота, усиленная танками и противотанковыми орудиями, — сообщил подчиненным командир батальона. — Комбриг приказал: атакой с хода сбить вражеский заслон.
Попытки возобновить наступление на Шалу продолжались до утра.
Открыв свой люк, Гридин дохнул, глубоко, полной грудью. Воздух свежей струей ворвался в машину.
— Светает, — проговорил политрук. — Спасибо, друзья. Вы и в потемках работали четко. Теперь есть возможность и осмотреться. Луч его лампочки-подсветки прощупывал днище машины, обувь, одежду танкистов. Хотя при рассеянном свете переноски едва угадывались лица, покрытые пороховой гарью, с покрасневшими от недосыпания глазами, но они светились неукротимой энергией.
С рассветом опять разгорелся бой.
Короткий февральский день. Морозный и… жаркий до самого багрового заката. Угас безрадостный день. И ледяная ночь не принесла ничего отрадного.
Экипаж старшины Самохина в боевых порядках танкового батальона сражался сутки.
— Израсходовано два боекомплекта, — сказал Самохин, глядя на россыпи гильз, блестевших среди котелков, кружек, дисков. — Ну и рокада! Когда мы вышли на нее, наш экипаж только сформировался. В пути к цели прошел, как говорится в уставе, «сколачивание». У кого из вас, друзья, возникли ко мне вопросы, просьбы?
— У меня, — повернул голову к командиру Антипин. Понизил голос и до странности виновато прошептал: — Горючее и масло — у нуля.
Самохин недовольно сморщил нос. Его раздосадовал не только смысл доклада, но и какой-то извиняющийся, «гражданский» тон.
— Курсак заправки просит, — громко вставил заряжающий.
— Нужнее всего патроны и снаряды, — отозвался снизу радист — пулеметчик.
— Правильно. С этого и начнем, — заключил командир экипажа.
Промозглая морозная темень. Противник словно окоченел. Ни звука.
Между секретами, расставленными командиром мотострелкового батальона, тихо выползали на поляну люди в рваных, грязных маскхалатах. Двое скрылись за оледенелыми глыбами воронок. Трое исчезли среди заснеженных кустиков перелеска. Это сержант Троян со своими боевыми товарищами пробирался к противнику. Предстояло установить, где находились передовые позиции врага.
— Терпение. Терпение… — сдерживал сержант Тернового.
Впереди послышался приглушенный шум мотора. Разведчики замерли, дожидаясь, когда на правом фланге разразится отвлекающая стрельба.
Троян пристально всматривался в ночную мглу. И прислушивался. Наконец, на правом фланге сверкнули огни. Лесом прокатилось эхо отдаленного гула. Вот и сигнал!
Но разведчики едва достигли перелеска, как подковообразный лес озарился вспышками огней. Над поляной задрожали лучи осветительных ракет. Из глубины леса доносился шум просыпавшихся моторов.
Нет, оказалось, противник не ушел.
В расположении советских войск давали о себе знать моторы. Водители время от времени прогревали машины. Меж деревьев мелькали тени, скрипели полозья салазок. Вполголоса раздавались команды. Мотострелки помогали танкистам подвозить к машинам боеприпасы, заправлять танки горючим.
Небо на востоке посинело. Антипин приподнял крышку люка. Но из-за пальбы не расслышал гула чужих моторов. Он тревожно вскинул голову только тогда, когда пошли в пике «лапотники» — фашистские бомбардировщики с неубирающимися шасси.
Взрывы бомб, снарядов, пальба из стрелкового оружия — все звуки сливались в один беспрерывный гул.
Антипину казалось, будто вблизи раздавались стоны и крики раненых. Не выдержав, он выглянул из своего люка.
Слева вспыхнула ярким пламенем автоцистерна. Горючее разливалось по лесу, огненно-дымной лавой поджигало сосны, ели. Деревья загорались, как свечи.
— Похоже, что наступление на Шалу парализовано, — хмуро, ни к кому не обращаясь, цедил Самохин. — Враг рвется к утраченному рубежу на железной дороге.
— Берем врага в клещи, — многозначительно произнес Троян, спустившись с башни на жалюзи танка. Его слова потонули в грохоте залпов советской артиллерии.
— Постой, Петро. — Самохин придержал за рукав старого сослуживца. — Пока что не мы берем его, а он нас… Давеча мой сосед слева пытался сманеврировать, но гитлеровцы трах «болванкой» в борт: стой, мол, на месте и не рыпайся. Невольно вспоминается твоя прибаутка про мужика, который медведя поймал. Веди сюда. «Да он не идет». Так сам иди. «Да не пускает».
— То была присказка, а сейчас начинается сказка, — отвечал Троян с паузами — мешала все усиливавшаяся артиллерийская канонада.
Его окликнули:
— Петро, быстрее! Уезжаем!
Троян наклонился к Самохину, приложив два пальца к губам. Затем круто отвернулся, спрыгнул с танка и опрометью кинулся через прогалину, развороченную снарядами и гусеницами. Взобрался на корму тридцатьчетверки, которая, брала курс на правый фланг, задним ходом покидала свой копанир.
Самохин видел, как Троян, вмиг очутился возле башни. В тот же момент из командирского люка показался Гридин. Оба помахали руками Самохину и скрылись за лесом. Следом ушел второй танк, третий…
Вскоре и старшина Самохин получил приказ:
— Скрытно, задним ходом покинуть позицию. Выйти в район… За опушкой березовой рощи повернуть вправо…
Артиллерийская пальба все усиливалась. Соседи Самохина тоже покидали свои места. Но они выдвигались вместе с автоматчиками и начинали стрелять с нового рубежа.
Троян прав, и в самом деле, танковая бригада разделилась на три группы. Одна, остановленная вражеским огнем на подступах к Шале, поддерживаемая артиллерией всех видов, теперь демонстрирует подготовку атаки в лоб. Естественно, гитлеровцы вынуждены сосредоточить против нее основные силы. Вторая — под грохот артиллерийского огня выдвигается в обход населенного пункта с северо-запада. В ее составе и ушли Троян с Гридиным. Третья группа огибает Шалу с юго-востока.
Наконец, — новый район сосредоточения, в стороне от разрывов мин и снарядов. Вокруг — нетронутая снежная белизна. На опушке рощи среди жиденьких деревьев замаскированы танки. Еле слышен приглушенный гул моторов, работавших на холостых оборотах. Сизые дымки, поднимавшиеся из выхлопных труб, почти не выделялись на фоне заиндевелых березок.
Негромко дублируется команда:
— Приготовиться к атаке!
Самохин взобрался на башню танка и опустился в люк. На броне разместились автоматчики.
— «И кого тут атаковать? — недоуменно выглядывал из люка механик-водитель. — Среди этих засыпанных снегом чахлых деревьев да кустарников ни птицы, ни зверя; ни единого следа противника”. Поставив задачу экипажу, переговорив накоротке с командиром десантников, Самохин особо отметил:
— Наш танк должен первым ворваться в расположение противника. Не подкачать!
Механику-водителю он разрешил приоткрыть немного люк.
И вот машина выбралась из леса на белоснежную целину. В лицо ударила ледяная струя, ослепило утреннее солнце.
Антипин перешел на третью скорость. Но мотор не тянул – слишком глубокий снег. Пришлось двигаться на второй.
— В конце прогалины взять вправо, — приказал командир экипажа. И на выходе из осинника повторил команду.
Обзор местности улучшился. На белой равнине выделялись бугорки, кустики, освещенные солнцем.
Вдруг Антипин сбросил газ. Притормозил. Слева блестел хорошо накатанный зимник.
— Товарищ командир, — дорога! — обрадовано воскликнул механик-водитель. — Как раз в нашем направлении. С ветерком разрешите?
— Не разрешаю! Враг был бы круглым идиотом, если бы не заминировал въезд в Шалу с востока.
— Я бы сбегал, проверил щупом полотно.
— Отставить болтовню! Не торчать на виду. Закрыть люк. Правый поворот! Направление — стог сена у ветвистой березы. Живее, артист!
Танк ревнул выхлопными трубами. Чуть отвернув от зимника, двинулся параллельно ему. Скорость возрастала, и ослепительно белую целину рассекал вихрь. За клубящейся снежной пылью — две прямые колеи. Когда стог остался позади, а впереди появились очертания деревни, застучали два танковых пулемета. Командир экипажа приказал с ходу прочесывать придорожные кусты.
Самохин рассчитал правильно: бугристые обочины зимника, над которыми пули вздымали снежные вихорки, ожили. Раздвинулись маскировочные сети, ветви. Темные фигурки стали торопливо перекатывать противотанковую пушку с обочины на задворки окраинного строения, которое явно мешало «видеть» приближавшийся к деревне советский танк.
Самохин перевел нить прицела с пулеметной шкалы на пушечную и приказал:
— Десант, спешиться! Осколочным!..
Танк остановился. Над головой Антипина громыхнули два пушечных выстрела. Кто-то из экипажа крикнул:
— Цель!
Антипин обрадовался: цель накрыта. Вспомнив недавний упрек командира: «Не торчать на виду!», он тронулся с места. Тут же его остановил еще более сердитый возглас:
— Стоп, механик! Не самовольничать.
В башне лязгнул затвор пушки. Опять выстрел. Антипин прильнул к триплексу: куда же стреляет командир? Впереди, возле окраинной избы — взрыв снаряда. Когда рассеялся дым, из-за угла избы сверкнул ответный выстрел. «Болванка» с воем рикошетировала где-то от мерзлой почвы.
— «Командир обнаружил вторую цель. Ударил по ней и — недолет. Из-за того, что я, дурак, самовольно тронул танк», — подумал Антипин.
Машина снова резко дернулась — опять ударила танковая пушка.
— Стрельбу окончил, — раздался в наушниках шлемофона спокойный голос Самохина.
Антипин включил скорость. Новые орудийные выстрелы — слева и справа.
Подоспели наши танки. Так что не вздрагивай, Кирилл, — сказал радист-пулеметчик. — Теперь путь в деревню свободен. Вон слева сосед жмет по зимнику, обгоняет. Стреляет с ходу…
Неожиданно танк сильно тряхнуло. От грохота, казалось, вздрогнула земля. Слева зазвенела от удара броня. Впереди пропахал снег танковый каток.
Антипин обернулся к радисту-пулеметчику.
Тот ударил товарища по плечу:
— Не нам, соседу не повезло.
— Продолжать, прямо на ориентир!.. — крикнул Самохин. — На
целине фугасов не бывает.
Да, оказывается, танк соседа, которой шел накатанной дорогой, нарвался на фугас. И части разорванных гусениц, покореженных катков, разбросало взрывной волной по обочинам зимника. Кусок металла угодил в борт тридцатьчетверки старшины Самохина.
Неожиданно из-за выступа высоких заиндевелых деревьев выбежала упряжка с орудийным передком. Пара грудастых битюгов, видимо, напуганная взрывом фугаса, неслась по санному следу к лесу. Вдруг топот копыт потонул в новом страшном грохоте. Когда белое облако осело, вдали от воронки виднелись окровавленные останки лошадей.
Самохин хмуро вглядывается вдаль. Даже в санный след гитлеровцы подсунули фугас. Это помимо артиллерии, минных заграждений.
— Чего еще ждать?
В узких смотровых щелях — снежная белизна. Самохин еще напряженнее впился в эту слепящую белизну. Но ничего, заслуживающего внимания не обнаружил.
Во время движения танка поминутно менялись местами то белесые деревья, то светлое небо. Но вот ветви — темнее обычного. Внимание!.. И старшина Самохин скорректировал движение танка.
Очень своевременно скорректировал.
За березовыми стволами появились закамуфлированные «зеброй» зловещие орудийные стволы. Они медленно опускались — для стрельбы прямой наводкой.
Антипин по приказу командира увеличил скорость, хотя «зебры», мелькавшие в щели триплекса, новоиспеченного механика-водителя не очень волновали. Он еще не представлял себе, что значит идти на сближение с полевой артиллерией противника, главное для Антипина только что приобретенный опыт: Самохин, хотя и в невысоком звании, а командует толково, умеет заранее увидеть опасность.
Но что это?.. Очкастые человечки в касках заряжают
«зебру»… Дуло стремительно приближается, будто направлено прямо в твой люк…
Тридцатьчетверка сотрясается от выстрелов своей пушки. Самохин ведет огонь с ходу. Курсовой пулемет бьет беспрерывно. А гусеницы то и дело на что-то наскакивают или проваливаются в углубления. Мотор надсадно ревет.
Надо удержаться за рычагами управления и недопустить, чтобы мотор заглох. Кто-то толкнул механика-водителя в спину.
— Ты что оглох?! Стоп! — услыхал он, наконец.
Танк, резко клюнув носом, остановился.
— Открой люк. Живее!
Антипин взглянул в проем своего люка. И растерянно заморгал покрасневшими, влажными глазами: возле опрокинутого набок массивного орудийного лафета темнели на снегу трупы врагов; конец ствола «зебры» уткнулся в черную воронку; вдали такое же орудие ощупывали с разных сторон бойцы-десантники, и еще дальше, за низенькими кустиками возвышался ствол вполне исправной зебры». И возле нее копошились автоматчики.
— Не мираж ли все это? — удивленно воскликнул Антипин.
Мимо прошли два наших танка, за которыми бежали бойцы.
— Был бы тебе не такой «мираж», если бы не подоспели друзья, — кивнул на них Самохин. — Они уходят на свое направление, а нам не следует сбиваться со своего. Протри глаза снегом, Кирилл, и — за рычаги!
Опять бросок. Танк ломал ветхие жердевые заборы, переваливался через невидимые в снегу канавы, под гусеницами трещали обломки фашистской минометной батареи. Откуда-то сбоку беспрерывно строчил пулемет.
Заряжающий доложил командиру экипажа, что бойцы мотострелкового подразделения залегли, а некоторые отползли назад.
— Вижу, кто их сечет. Механик-водитель, раздавить пулемет противника! — И Самохин указал ориентир и цель.
Антипин ссутулился и как бы слился с педалями и рычагами. Глядя через стекло смотрового прибора, он чуть довернул машину влево и помчался на шалаш с сизыми дымками.
— Получай, гад! — торжествующе выкрикнул он, когда под танком скрылся крупнокалиберный пулемет вместе с расчетом.
Во время остановки Антипин повернулся к товарищам. Следы мальчишеской наивности остались только в едва заметной улыбке. Он словно повзрослел в этой атаке.
Старшина Самохин озабоченно потеребил небритый подбородок, нахмурился — боеприпасы иссякли. К тому же борьба с артиллерией противника увела танкистов в сторону от намеченного курса.
Приоткрыв люк, старшина стал изучать обстановку.
Бой гремел рядом. Но снаряды вблизи не рвались. С шуршанием проносились дальше. Повизгивали пули. Гребни сугробов дымились поземкой. Тусклое небо на западе озарялось яркими сполохами. Низко над лесом едва угадывался бледный диск солнца. Короткий день угасал.
Заметив возле сарая людей, Самохин крикнул командиру мотострелковой роты:
— Нечем стрелять!
— Что-нибудь найдем, — ответил тот.
Через некоторое время экипаж уже принимал с салазок тяжелые коробки и ящики.
— Патроны не вызывают сомнения, — сказал Самохин, рассматривая привезенные боеприпасы. — А вот снаряд?.. Калибр наш, но не танковый. Гильза темная, составная… Где взяли?
— Там, — ответил командир мотострелковой роты, показав на сарай.
Самохин поднял глаза и вдруг увидел: на просеке, примыкавшей: к деревне, четко вышагивал строй гитлеровцев.
— К бою! — крикнул старшина. — Зарыться в снег! Ударим по моему сигналу.
Впереди, словно игнорируя мороз, шел офицер в фуражке. Но сапоги втиснуты в обрезанные валенки. И шинель, надетая поверх какого-то тряпья, еле сходилась. Он рывком выбросил руку вперед, подал команду, и солдаты разделились на две группы. Сзади, за касками замыкающих показалось что-то похожее на легкий вражеский танк.
— Пулеметы!.. — распорядился Самохин.
— Есть! — ответил заряжающий. И, колеблясь, добавил: — По танку разрешите снарядом.
— Да он же какой-то нестандартный… — начал Самохин. И тут же согласился: — Заряжай!
С шуршанием лязгнул затвор. Командир танка совместил угольник прицела с центром силуэта вражеской машины. Нажал на электроспуск. Башню встряхнуло, но… почему-то от двойного удара. Глаза Самохина и заряжающего слезились от едкого густого дыма. Тут же резво застучали два танковых пулемета. Для мотопехоты это сигнал. И застрочили автоматы. Звучно рвались гранаты.
Антипин обрадовался:
— Смотрите! Фрицы врассыпную. За деревьями, за кустами прячутся. Разрешите, товарищ старшина давануть теперь по ним … — и растерянно замолчал, удивленный, что вражеская машина уцелела.
Когда та начала разворачиваться, то оказалась вовсе не танком, а транспортером на гусеничном ходу.
— Уйдет гад, — сквозь зубы процедил заряжающий. — О, глядите, он буксирует противотанковое орудие и пытается развернуть его против нас. Ушкварить бы снарядом.
Старшина Самохин осмотрел свою пушку. И охнул. Ее зауженный конец был разворочен в виде лепестков цветка.
— Эх, дернул меня черт! Выстрелил на свою голову «черной диковинкой”. Теперь хоть в землю лезь!.. — зло выкрикнул Самохин.
В это время вражеский транспортер окутался огнем, дымом и снежной пылью. Буксируемое им противотанковое орудие опрокинулось вверх колесами. Сквозь ружейно-пулеметную трескотню донесся голос командира мотострелковой роты:
— Танкисты! Левая обочина проселка заминирована. А ну-ка вместе, огонь!
Гитлеровцы, ошарашенные очередями из-за кустов, гибелью своего транспортера с орудием, рассеялись.
Вблизи танка раздавались четкие команды. Мотострелки прочесывали огнем окрестности.
— За трое суток мы израсходовали четыре боекомплекта боеприпасов. Только снарядов выпущено больше четырех сотен!.. И надо же, чтобы «черная диковинка» взорвалась в канале ствола, — с досадой говорил Самохин. — Черт бы ее побрал… — и задумался: «Не ткнулся ли Антипин стволом пушки в замороженный дерево — земляной вал, опоясывавший огневые позиции вражеской полевой артиллерии? Если это так, то от попавших в канал ствола кусочков льда, комков земли, пушку обычно при выстреле разрывает.
— Впредь смотри, Кирилл, — строго сказал он механику — водителю. — В движении копнешь стволом пушки, сразу докладывай. Иначе от своего снаряда взорвемся.
Подтянувшись на руках, и с трудом перевалив ноги из люка наружу, Самохин сел на башню.
В окрестностях Шалы замирала перестрелка. Все глуше и глуше становились вздохи танковых двигателей. В морозное предвечернее небо впивались разноцветные трассы, сыпались фейерверки искр. Казалось, облака полыхали мутно-красными пожарами, отбрасывая зловещие, кровавые отблески на заснеженные деревья, поляны.
Самохин чувствовал, что бой не закончился, но его накал, от усталости всех и вся, как будто ослабевал. Только вдали, по-видимому, на северо-западной окраине Шалы, царил сплошной гул боя.
— Здесь враг пытается разжать клещи…
Гридин сделал пометку синим карандашом на топографической карте Трояна, ободряюще кивнул и опустился в люк.
Троян спрыгнул с танка. Кликнул автоматчика. Тот вылез из канавы, где накапливались бойцы для атаки. Оба перебежками двинулись на наблюдательный пункт танковой бригады с разведданными о противнике. Разведчик понимал, что враг не случайно перенес огонь на проселок, который вел из Шалы на запад. Избитый тактический прием: сначала на избранном направлении бушует массированный огонь орудий и минометов, затем по горячим следам идут танки и пехота.
Гридин, подав знак командиру мотострелковой роты, приказал механику-водителю:
— Направление прежнее. Прижимайся к опушке рощицы, но не задень своих.
Тридцатьчетверка двинулась на юго-запад, туда, где кучно вспыхивали взрывы снарядов и мин.
Среди низкорослого осинника показалось темное строение. От него, размахивая автоматом, бежал боец в коротком, сером полушубке. Узнав комсорга передовой роты, Гридин спросил:
— Камилов, что случилось?
Автоматчик старался перекричать шум боя:
— Товарищ политрук, за баней прячется танк, белый как снег. Фашист. Шайтан на проселок хочет прорваться. Бьет по нашим до смерти. Наш командир ранен.
Теперь и Гридин заметил, что многие бойцы, отстреливаясь, отползали к редколесью. Устремленные с различных точек в одном направлении трассы пуль облегчили экипажу Т-34 засечь фашистский танк.
— Вижу! — кричал Гридин. — Камилов, бегом к своим. Останови бойцов. Как только подобью бронированного фашиста, так ты подними своих мотострелков и сразу — на проселок. — И Моторному: — Дуй, Ваня прямо на черную антенну!
Моторный ринулся напрямую, не теряя из виду левее бани, над кустарником, черный штырь. Значит, танк противника с рацией, то есть командирский. Но тридцатьчетверка вязла в сыпучем снегу, теряя скорость. Двигатель работал на пределе. Правый рычаг на себя. И машина начала обходить длинную коварную впадину, под снегом которой могло оказаться болото.
«Наш Ваня все тот же, — подумал Гридин. — Дальше приборной доски, рычагов да болотных кочек перед гусеницами танка ничего не видит». Но скомандовал старому сослуживцу сдержанно:
— Не кружным путем, а напрямую!
— Не могу… Душа кричит: сядем на днище.
«Может, механик-водитель и прав. Рискнем по третьему варианту…» И Гридин распорядился:
— Сдай задним ходом. Побыстрее! У выступа кустарника — правый рычаг… Потом двинем по зарослям.
Пока Моторный маневрировал, Гридин заметил в просветах между жиденькими березами и сосенками машину с черным крестом на броне. Гитлеровец-танкист первый выстрелил из пушки. Снаряд с воем рикошетировал от башни Т-34. Судьбу экипажа решали секунды.
В наушниках Моторного послышалось хриплое дыхание политрука:
— Не показывай фрицу свой борт.
Плавным движением Моторный повернулся к противнику лобовой броней, увеличил скорость и с разгона срезал отросток злополучной впадины.
Когда под гусеницами тридцатьчетверки хрустнули деревца редколесья, Моторный выжимал из машины все, что она могла дать.
Танк с черным крестом, стараясь уклониться от тарана Т-34, свернул в просеку.
Гридин с трудом разглядел сквозь запотевшие линзы оптического прицела двигавшуюся цель — как на полигоне. Наконец, выскочил на прогалину танк с черным крестом на борту. Щелкнул электроспуск.
С третьего снаряда фашист вспыхнул.
Мотострелки бросились к проселку с криком:
— Ура!
Моторный, щадя перегретый двигатель, выводил машину на перекресток дорог.
В это время заряжающий доложил:
— Справа танк! С белыми маскировочными заплатами на броне. Курс держит к перекрестку.
— С тыла? — встревожился Гридин.
— Да это, кажись, танк Ермака.
— Надо без «кажись» да «авось»… Ваня, у сосны — тормоз.
Моторный, выполнив требование командира, высунулся из люка.
Узнаю машину — точно, Ермак. Взводный из третьего батальона, недавно прибыл к нам.
Об остальном Гридин догадался. Видимо, комбриг подбросил подкрепление.
Выходя на свое направление, к мотострелковой роте, Гридин услыхал гул моторов. Потом увидел белые султаны снежной пыли. Тридцатьчетверки. Первой появилась на перекрестке дорог машина с ободранной маскировкой. Этим маневром она закупорила выход фашистов из Шалы. Молодец Ермак. Сейчас он спрячется в засаде.
Но нет! Ермак пересел от рычагов к прицелу и приказал экипажу:
— Чесанем навстречу. Размолотим вдребезги врага, который пытается улизнуть из Шалы.
И тридцатьчетверка двинулась по проселку в расположение врага. Лейтенант Ермак дал слово танковой пушке и двум пулеметам только тогда, когда столкнулся лоб в лоб с отступающей колонной. На помощь ему вынырнули из снегов редколесья машины с мотострелками на броне.
Багровый край неба догорал. Догорали в Шале остатки деревянных строений. Чадили горелыми маслами, эрзац-бензином, резиной остовы машин противника.
В дымах, в горько-кислых испарениях развороченных снарядами болот, передвигались на западную опушку леса советские танки, тягачи, мотопехота, занимая позиции на новом рубеже, в готовности отражать контратаки фашистов. Командиры расставляли боевое охранение, секреты, налаживали между ними связь.
Мертвая тишина нависла над развалинами, щебнем, сиротливо торчащими печными трубами Шалы. Оттуда волнами разносилась едкая гарь.
И это все, что осталось от придорожной русской деревушки? — с горечью произнес Самохин. — На карте значится восемь дворов. И ничего не осталось. О взятии нашими Пушечной, Погостья, Жарка ни словом не упомянули, ни радио, ни газеты. А вон, сколько погибших под Шалой… Какой же ценой придется вышибать оккупанта из тысяч сел и деревень, из больших городов?..
Самохин накинул брезент на конец ствола разорванной пушки.
Опасался подзуживания какого-нибудь остряка: мол, у кадрового танкиста пушка зимой расцвела ромашкой.
— Выше голову, Саша! Под Шалой разгромлен матерый противник, уничтожен резерв, подброшенный из тыла, — возразил знакомый голос из-за кормы танка.
Самохин спрыгнул на землю.
— Петро?! Как ты здесь очутился?
Друзья обнялись.
— Пленных отправляю в штаб, — показал сержант Троян автоматом в сторону, где за кормой Т-34 топтался замусоленный, закопченный гитлеровец. «Сверхчеловек» стремился растопыренными пальцами и открытым ртом втянуть в себя все тепло выхлопных газов.
— Как видишь, Саша, начинают сдаваться. Вот что значит наш прорыв к Шале.
— Пока что вижу одного фашистского недоноска.
— Это рядовой. Но он привез на салазках обер-ефрейтора.
Чумазый и тощий пленный, очевидно догадавшись, о чем говорили русские, дернул за веревку и на санках привстал другой — рослый, упитанный, в рваном крестьянском тулупе.
Самохин воззрился на них.
— Неужели эти паршивые выродки держали меня в танке трое суток? И от их грязных лап гибли орлы?! Теперь в штабе, небось, с ними будут антимонии разводить. — Он с сердцем сплюнул. — Дай-ка штык, пырну мразь и амба. — Самохин рванулся к пехотинцу с винтовкой.
Обер-ефрейтор трусливо съежился, хотел стать совсем незаметным.
— Стоп, Саша, не горячись на морозе — простудишься, — услыхал Самохин дружеский возглас и почувствовал на плече чью-то руку.
— А-а, Костя! И ты здесь? — оглянувшись, удивленно проговорил Самохин, всматриваясь в похудевшее скуластое лицо Гридина.
— Сразу не узнать ни тебя, ни твоего охрипшего голоса. Главное, я очень рад, что сбылось твое желание. Наконец-то оказался ты в своей родной стихии.
— Пришлось, однако, опять вылезти из командирского люка на броню, к своим автоматчикам-десантникам. А их так мало осталось…
— Да, потери… Будь моя воля — ни одного бандита не брал бы в плен. Костя, вызови этих басурманов на исповедь, прежде чем я пущу их в расход.
— Ни в какой расход ты, Саша, не пустишь, потому, что хорошо знаешь: самосуд — это преступление.
Неподалеку появился Аглушевич с двумя пленными. Разведчик еле плелся от усталости.
— Я брал фрицев на испуг, а разведчики ловили, — прихвастнул подошедший к друзьям Мотыльков. — Вон и те тоже мои, — показал он на гитлеровцев, конвоируемых Аглушевичем.
— Э-э, нет. Эти попались мне на узком зимнике, прямо из свеженькой пехоты, что топала из Дубовика под Шалу, — подчеркнуто серьезно уточнил Аглушевич.
— Все равно. Их напугал мой выстрел из трофейной пушки.
— Не шуми, не шуми, Гера. Сегодняшняя твоя слава еще не затмила вчерашние проделки. Какие? Умолчим для ясности. Скажи спасибо Косте, что заменил тебя в бою… — сказал Самохин, но, спохватившись, замолчал: боялся вызвать ответную атаку Мотылькова за свой неудачный выстрел из танковой пушки.
— Другой бы на моем месте обиделся, Саша. Но я уверен, что шутишь ты по-приятельски, — стушевался Мотыльков. Его длинное лицо зарделось. С усилием приободрившись, он продолжил: — Я знаю, когда и где можно пошутить со щербатой. Верх взяла моя тактика: нажимать там, где дело выгорит наверняка…
— Мы уже не раз слышали об этом, — не удержался Самохин и обратился к Аглушевичу: — Володя, спроси своих фрицев, когда будет энде?
— Мои не разговорчивы. При встрече на глухом зимнике заартачились. Пришлось для порядку немного пристукнуть. В пути к штабу очухаются.
— Костя, ты умеешь калякать с ними. Спроси.
Гридин повернулся к тщедушному пленному, который жадно ловил тепло из выхлопной трубы танка.
— Эй ты, любитель погреть руки, отойди от машины. Фамилия, имя, должность?
Солдат, услыхав немецкую речь, с видом затравленного зверя, глотнув из трубы лишку выхлопных газов, закашлялся.
— Успокойтесь. Для вас война позади, — смягчился Гридин.
— Меня расстреляют? — косился гитлеровец то на Самохина, то на обер-ефрейтора.
— Нет.
— Я — солдат Вальтер Блицман, второй номер пулеметного расчета.
— Из какой дивизии и когда прибыли на фронт?
— В составе десятой роты третьего батальона триста одиннадцатого пехотного полка семнадцатой пехотной дивизии прибыл ночью на машине из-под Дубовика.
— Какую задачу выполняли. Как попали в плен?
— Наша рота должна была занять ранее утраченный участок железной дороги. В пути получили приказ двинуться в атаку. Но тут же появились ваши белые танки. С них посыпались солдаты… Сначала упал с пробитой головой наш наводчик, затем подносчик патронов. Второй подносчик пытался бежать, но его свалила пуля. Погиб обер-ефрейтор, командир нашего пулемета. Вся рота была разбита, и я поднял руки.
Гридин перевел ответы пленного.
— Поздновато ты надумал сдаваться! — присвистнул Самохин.
— А что скажет эта барабанная шкура? — показал он на упитанного гитлеровца.
Из-под рыжей шубы с подпалинами показалась глинисто-зеленая физиономия.
— Я – обер-ефрейтор Пауль Гуте, — высокомерно объявил пленный… Прибыл прошлой ночью. Батальон с ходу контратаковал… Я в плен не сдался, меня ранили.
— Вы по воинскому званию старше Гитлера, и, должно быть, наблюдательнее своего фюрера… Сколько ваших сослуживцев осталось в живых?
— Все убиты.
— Какой из этого вывод?
— О, майн гот! Мне повезло. Я живой, а мои солдаты уже окоченели.
— Будете восстанавливать разрушенную Шалу? — обратился Гридин к обоим пленным.
Рядовой, как выдрессированная собака, вопросительно посмотрел на обер-ефрейтора. Тот кивнул. Оба ответили:
— Если прикажут, будем.
Гридин отошел от пленных.
— Что ж, считайте, что познакомились с представителями «сверхчеловеков”, — сказал он, обращаясь к танкистам. — По внешнему виду, общему развитию — троглодиты. Однако организованы. Готовы и впредь выполнять приказы. Как видно, массовым переходом на нашу сторону еще не пахнет. Пока, что фашистская военная машина только кое-где начинает буксовать и это уже признак не силы ее, а слабости.
Самохин удрученно крутнул головой.
Троян раскрыл планшет и обвел карандашом на карте овал.
— Взгляни, Саша. Район Шалы и участок железнодорожной линии Мга — Кириши находятся на небольшом возвышении. Отметка пятьдесят восемь — ноль — в полосе нашего наступления. Отсюда идет отличный проселок на Зенино, Любань, то есть — к шоссе и к железной дороге Ленинград — Москва. (С Волхова в направлении Любани прорвалась группа советских войск, оказавшаяся в тяжелом положении. Танкисты тогда не знали, что участвовали в наступлении, которое облегчало участь этой группы.) Теперь ты понял, почему враг так остервенело держался за восемь дворов?.. Выходит, взятие Шалы — очень важно.
Меркли огни алого заката. Тускнело пожарище. В облаках растворялись кровавые краски. Темно-серое небо как бы опустилось над лесом. Израненную, закопченную и окровавленную землю стали бережно укрывать чистые, пушистые снежинки.
— «Братья! Товарищи! Друзья!
«Вчера по радио мы услышали радостную весть о ваших славных боевых делах. Если вся наша необъятная Родина слушает вести с Ленинградского фронта с особым вниманием, то мы, трудящиеся города Ленина, затаив дыхание, ловим каждое слово. Последнее сообщение о прорыве линии обороны у пункта Шала, наполнило сердца трудящихся нашего завода такой радостью, таким восхищением, что передать на бумаге невозможно…»
— Значит, весть о разгроме гитлеровцев под Шалой привлекла к себе внимание. А кто-то говорил, что о нашей победе не упомянут, — сказал сидевший возле коптилки боец с румяным круглым лицом и в танкошлеме с прожженным налобником.
Мотыльков привстал, будто стремясь кого-то опередить:
— Считаю, что об освобождении Шалы нельзя было широко оповещать. Противник сразу догадался бы, что мы придаем особое значение наступлению на Любанском направлении. Читай, Петро, дальше.
Троян расстегнул воротник полушубка.
«И тем более велика наша радость, товарищи, что свою скромную долю в достижение этой победы вложил и коллектив трудящихся нашего завода. — Сержант читал негромко, но внятно: — Вы прорвали линию обороны, вы громили, давили противника машинами, которые вышли из нашего завода».
— Вот она гордость ленинградских рабочих! — не удержался круглолицый и снял танкошлем.
Сержант Троян тряхнул головой, вытер пот с широкого лба и произнес заключительные слова особо подчеркнуто, выразительно:
«Мы не сомневаемся, что скоро услышим о новых ваших победах… Теперь следует удесятерить силы и прорвать блокаду Ленинграда».
Троян отошел от высокого жердевого столика, как от трибуны.
Никто не шелохнулся, не проронил ни слова. Лишь взрывчато — резко щелкали березовые дрова в печке, да учащенно трещала и шипела снарядная коптилка.
Командир взвода лейтенант Ермак бросил в печку окурок, осторожно натянул перчатку на забинтованную левую руку и, вставая, крякнул.
Медсестра Клава первая спросила лейтенанта:
— Ленинградский Энский завод — тот же Кировский?
Ермак скупо улыбнулся: мол, тоже мне нашла что спрашивать. Конечно! И, круто повернувшись, направился к выходу. Прежде чем скрыться за дверью, он окинул коротким взглядом подчиненных.
Круглолицый танкист, уяснив молчаливую команду, выпятил грудь колесом, надел танкошлем. Заправляясь, скосил глаза на своего командира.
Старшина Мотыльков жестом показал подчиненному на дверь, за которой скрылся взводный, посмотрел на раненых, санитаров и обратился к медсестре:
— У нас, Клава, с кировцами особая дружба. Позднее расскажу.
Он затянул на себе ремень, понурил голову и взялся за дверную ручку. От близкого взрыва снаряда выпрямился.
— Лейтенант сейчас показал нам, что и как следует делать. Пошли…
Под ногами скрипел снег. Низко над лесом висел ледяной месяц, окаймленный радужными кругами. Гулко перекатывалось эхо выстрелов.
Казалось, где-то недалеко хрипло засипела ракета. Поляна, снеговые шапки на деревьях, воздух — все заискрилось, переливаясь морозными блестками.
Мотыльков, маскируясь в тени высоких сосен, сошел с тропинки и зашагал по снежной целине. И принесла же нелегкая этого Трояна. Всего лишь комсорг разведроты, а митингует перед людьми танкового батальона. Вишь ты, здесь, на отшибе, разыскал комсомольцев-одиночек, чтобы довести до них последние известия. Подумаешь, выполняет личное поручение полкового комиссара Кузнецова. А наш лейтенант — не простак. Сразу намотал на ус и — к танкам, без лишних слов. Но почему он один попер в машину? Ведь там еще свежи сгустки крови. Неужели ему не дает покоя «подвиг» экипажа Самохина? Я, хотя и мотылек, по их мнению, однако так сдуру, на огонь не полечу. А Самохин с Антиком возомнили, что после замены разорванной пушки новой, им сам черт не брат. Не разобрались, где можно, а где нельзя пошутить без риска со смертью. Сунулись на огни выстрелов, а обратно оба еле ноги унесли. Врагу пришлось оставить в костре тридцатьчетверки двух товарищей.
Здесь, перед еще неопределившейся линией фронта Мотылькова будоражили — по-разному — два примечательных местечка. Впереди, на подступах к торфоразработкам — зловещие огоньки, характер которых предстояло выяснить. Сзади — землянка медпункта, где хозяйничала цветущая Клавочка. Разве во время прогулок перед пастью самого ада можно миновать такой редкостный розанчик? — спрашивал он себя, будучи глубоко убежденным, что на этот вопрос ответ однозначен.
Разные обстоятельства привели танкистов в землянку-медпункт.
Рано утром старшина Самохин разведкой-боем, в котором погибли заряжающий, радист-пулеметчик и машина, установил, что отступивший противник прикрывает рвом-эскарпом и двумя батареями возвышенность, с пересечением хорошо накатанного зимника и насыпи узкоколейки.
Сразу же возникла необходимость разведать пути обхода нового узла сопротивления. Командование выделило две тридцатьчетверки.
Пока лейтенант Ермак получал задачу, обе машины свернули с зимника, и вышли на заранее определенный командованием рубеж.
Возле танков неожиданно появилась Клава с медицинской сумкой через плечо, с салазками, привязанными телефонным проводом к поясному ремню.
Из люка правофланговой машины вылез невеселый Антипин. Всего полчаса назад он расстался со своим боевым товарищем старшиной Самохиным, зачисленным в резерв комбрига. Среди танкистов прошел слух, будто после трагедии в тридцатьчетверке, Самохина ждал в лучшем случае мотострелковый батальон. Антипин так расстроился из-за этих печальных событий, что без всякого энтузиазма воспринял новое назначение в экипаж опытнейшего танкиста, командира взвода, лейтенанта Ермака.
И вот Антипин увидел Клаву, землячку, с которой вместе бегал в школу.
— И какой леший заставляет тебя, Клава, — заговорил он, — рваться с санками чуть ли не под гусеницы? Снежная пыль еще не осела, а ты уже тут как тут. Предчувствие?
— Не леший и не предчувствие, а долг, — строго ответила Клава. — Медпомощь, может, и не понадобится, но из опасения за жизнь людей хочется быть недалеко от танков.
— И все-таки, не вблизи выхлопных труб. Ты перестаралась. Недавно старший начальник отправил отсюда моего бывшего командира — старшину Самохина, который хотел держаться вблизи машин, как резервный танкист. В связи с этим мне пришел на ум эпизод из «Войны и мира” Толстого. Помнишь, что произошло, когда полк Болконского стоял в резерве?..
— Удивляюсь, как ты на фронте даже не можешь расстаться с героями Толстого. И как они умещаются в твоей голове?
Разговорились. Клава слушала Антипина и размышляла.
Оказывается землячок не только в школе, но и на фронте неисчерпаем. Чем же он гипнотизирует собеседника? Внешне некрасивый он, порой, становится необъяснимо привлекательным. Вот бы нам встретится с Гридиным! Мы передали бы письмо от Нади. И уж лучше Кирилла никто не сумел бы рассказать о подготовке на Волге медсестер, где училась и Надя.
Девушка опомнилась, когда прибежал запыхавшийся командир взвода лейтенант Ермак. Он с ходу велел ей немедленно вернуться в землянку — туда направились раненые. Экипажу крикнул:
— Внимание!
Так из-за Антипина она и не успела подойти ко второму танку, где Ваня Моторный, сидя на своем месте, протирал стекла триплекса, контрольно-измерительных приборов. Ей хотелось перед боем встретиться с дружком.
Возвращаясь по танковой колее в тыл, она, сколько ни оглядывалась, не увидела Ваню.
Два танка под командой лейтенанта Ермака пробирались через глубокие снега, лесные завалы к рубежу, на котором по данным бригадной разведки гитлеровцы лихорадочно оборудовали прерывчатую, очаговую оборонительную линию.
Вот они благополучно преодолели скрытое под снегом, замерзшее болото.
Командир взвода изучал, глядя в перископ незнакомую местность. Она обозначена на карте светло-зеленой краской. Лес. На самом деле, впереди открылось заснеженное поле. Кое-где выделялись низкорослые кустарники, покрытые снегом холмики. Впоследствии танкисты разглядели среди них кучи хвороста, поленниц дров.
— Перед глазами — какая-то туманная пелена, — заметил Антипин, сосредоточенно вглядываясь в холмистую вырубку через щель триплекса.
— Держать на дымок, который поднимается над сосновой рощей, — приказал лейтенант Ермак механику-водителю. Мотылькову, танк которого двигался уступом слева, уточнил: — Не сближаться со мною. Выдерживать заданную дистанцию. Направление — черная сухая ель.
Машины шли с закрытыми люками. Видимость плохая. Антипин протискивался между препятствиями, петляя.
— Меньше маневрировать! — потребовал командир.
Механик-водитель, как назло, стал дергать то правый, то левый рычаг, объезжая большие сугробы. Заваливал машину в невидимые ямы, канавы, взбирался на кучи бревен, хвороста.
— Не подниматься на дыбы — вмиг получим снаряд в днище, — предупредил лейтенант.
— Справа — как будто проселок, — доложил заряжающий.
— Но там могут быть мины, — предположил Ермак.
Механик-водитель чуть-чуть приоткрыл крышку люка. Припал к образовавшейся щели. В лицо ударила холодная струя воздуха. Теперь, наблюдая местность впереди, повел машину более уверенно. Молчание экипажа Антипин воспринял как своеобразное одобрение допущенной вольности. Хотя тут же на память пришли слова устава: «Сближаться с противником только с закрытыми люками”.
У артиллеристов капитана Тушина на батарее не было никаких люков, — говорил про себя, как бы оправдываясь. — Они встречали врага открытой грудью… Эх, мать раз родила!
Командир экипажа слышал слова механика-водителя, видел его действия, и открыл, было, рот, чтоб приказать: «Отставить!», но вспомнил высоту Заозерную. Тогда, в тридцать восьмом году, он, бывший охотник с Алтая, молодой танкист за рычагами легкого танка Т-26, шел против нарушителей границы — японских самураев. И теперь в нем как бы зазвучали слова песни:
Мчались танки, вихри подымая,
Надвигалась грозная броня,
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.
Конечно, не все было уж так гладко в той «атаке огневой».
На склоне Заозерной машина из-за тумана угодила в болото. Командир вначале не разрешал даже накоротке открывать люки. Но обстановка вынудила танкистов выйти из машины, хотя на поле боя бушевал огонь. Они разыскали обломки дерева, камни, и, когда вымащивали ими болото, башенный стрелок резко ткнулся головой о зубья ведущего колеса и замер. На виске показалась струйка крови. Через минуту-другую Т-26 выбрался на твердую почву — ценою жизни члена экипажа. Механик-водитель продолжал управлять рычагами, на свой страх и риск, временами приподнимая крышку люка. Это облегчало ориентировку на местности. С неимоверным напряжением экипаж справился без башенного стрелка с задачей. В конце боя командир поблагодарил механика-водителя Ермака за находчивость и бесстрашие.
Вот почему лейтенант Ермак сейчас дал свое молчаливое «добро» когда Антипин самостоятельно улучшил перед собою обзор местности.
Риск — всегда риск.
Тридцатьчетверка удачно маневрировала на пересеченной местности. Ермак не упускал из виду ориентир. Едва он успел заметить у основания загадочного дымка вспышку, как башня содрогнулась от удара.
— Огонь! — крикнул лейтенант, обращаясь к Антипину — добавил:
— Без команды не останавливаться!
Танк, однако, клюнув носовой частью, остановился.
Через минуту-другую послышался глухой голос радиста-пулеметчика:
— Кирилл убит.
Опять грохот и вой снарядов. Лобовая броня и башня содрогались. С завываниями рикошетировали фашистские бронебойные.
— Заряжающий, занять мое место! — приказал лейтенант, а сам, передвинул в сторону тело Антипина и опустился на сидение механика-водителя. Тронул крышку люка — не сдвинуть с места, заклинена.
— Разрешите подергать крышку, чтоб размололась петля, — предложил заряжающий.
— Некогда молоть, — оборвал командир. — Надо цель размолотить.
Взревел мотор. Ермак включил первую скорость. Затем вторую…
Тридцатьчетверка тигром бросилась на врага. Недоставало одного — огня. Пушка и спаренный с ней пулемет молчали. Заряжающий суматошился — не мог обнаружить ни ориентира, ни цели. Только радист — пулеметчик изредка бил из курсового пулемета по подозрительным зарослям.
Зловещий звон по броне участился. Ермак нырнул в березняк, в глубокий снег. Скорость упала. Зато вражеские снаряды проносились мимо, задевая стволы деревьев, которые осыпались тучами инея.
Впереди просветлело. На поляне танкисты увидели гитлеровцев, лихорадочно разворачивавших противотанковое орудие. Дальше, уступом влево — второе. Оно сверкнуло выстрелом. Завязалась артиллерийская дуэль. Ударом вражеского снаряда полностью открылась поврежденная крышка люка механика — водителя. Лейтенант Ермак приглушенно вскрикнул. Его голос потонул в грозном рокоте мотора, лязге гусениц.
Мотыльков со стороны видел, как машина командира взвода неистово устремилась на стрелявшее вражеское орудие. Раздавив противника, тридцатьчетверка как-то странно, зигзагами возвращалась в укрытие. Мотыльков как бы мимоходом раздавил еще не успевшее открыть огонь орудие, остановился, ища новую цель. И тут же мембраны шлемофона торопливо вибрировали:
— Командир взвода требует немедленно занять позицию в березняке, двести метров левее кучи хвороста. Держать под обстрелом поляну … Передал заряжающий…
«Почему заряжающий? — хотел спросить Мотыльков. — А лейтенант Ермак? Что с ним случилось?»
Тридцатьчетверка Мотылькова задним ходом передвинулась к указанному ориентиру. Сразу же из березняка вырвались трассы пулеметных очередей, затем огни пушечных выстрелов. Лесное эхо повторяло треск и грохот.
Темнело. К танкам подошли мотострелки. Они бесшумно занимали впереди машин позиции-секреты и боевого охранения.
К тридцатьчетверке командира взвода подошла девушка с большой сумкой через плечо.
— Кто тут ранен? У меня салазки.
— Клава? Отойди, золотко, от разбитого люка за корму. Ваня в другой машине. А твоему земляку уже не нужна помощь.
Она всхлипнула. Глухо откашлялась.
— Знаю. Я оттуда, — показала рукой в направлении второй тридцатьчетверки, прислушиваясь к тихим выхлопам танкового двигателя.
— Какая отчаянная! — изумился в танке тихий фальцет. — Во время разведки вблизи танков держалась.
— Разрешите? — в рамке люка появилась голова Клавы.
Луч электрического фонарика осветил возле рычагов управления нечто бесформенное, прикрытое брезентом. Клава еле сдерживала рыдания:
Еще вчера Кирилл переживал за судьбу своего командира, беспокоился обо мне. А сегодня…
— Да, очень жаль парня. Способный, настойчивый… Спорый и на язык и на руки…- Лейтенант Ермак поднял с днища противотанковый снаряд, подумав: «Обычная болванка, а какую умную голову погубила. А я, если бы произнес одно -единственное слово: «Отставить!» и Антипин закрыл бы люк».
Выходит, место механика-водителя — самое опасное в танке. — Клава представила себе за рычагами Ваню Моторного.
Нет. Это случай… Отойдите подальше. Я сам вылезу.
Сказано негромко, но повелительно.
В проеме искореженного снарядами люка показался кожаный танкошлем. Командирский.
Клава отошла с Ермаком за корму танка.
— Позвольте очистить рану от загрязнения. — Она сняла замасленную тряпку с кисти левой руки лейтенанта. — Теперь забинтую, — достала из сумки перевязочный пакет.
Окончив перевязку, она надела на больную руку лейтенанта перчатку. Тот остался доволен: бинт совсем не виден.
Медсестра поняла раненого по-своему.
— Да, теперь вы доберетесь до медпункта сами. — Она подхватила санки и вернулась назад по своим следам.
Второму ранению лейтенант Ермак не придавал значения — в левом подреберьи только чуть покалывало. В медпункте он собирался сделать себе перевязку самостоятельно, без свидетелей.
Оставшиеся в танке заряжающий и радист-пулеметчик растерянно переглянулись. Оба недавно прибыли из маршевой роты и участвовали всего лишь во втором бою. Они принялись вытаскивать тело Антипина через люк механика-водителя. Уложили останки боевого товарища на лапнике, вблизи гусеницы, и, не сговариваясь, зашагали по хорошо утоптанной тропинке.
В дверях медпункта нос к носу столкнулись с командиром.
— В танке — порядок, — хрипло доложил радист-пулеметчик, мысленно удивляясь своей находчивости. — Кому передать тело Кирилла для захоронения?
Лейтенант Ермак, помолчав, указал с порога на двух санитаров, переобувавшихся возле печки:
— Им.
Лейтенант, решив, что обстановка в землянке не позволяет скрытно перевязываться, начал скручивать «козью ножку».
Заряжающий понял — по выражению лица, жестам, — что командир, хотя и осуждает самоволку, но наказывать не намерен. И помог ему достать из кармана кисет с махоркой, сделал цигарку, прикурил от огонька из печки.
Клава сидела на краю нар, подвязывая марлевой косынкой забинтованную руку к шее бойца. Возле нее рассыпался мелким басом старшина Мотыльков. Заметив своего командира взвода, он открыл, было, рот, но тут же осекся.
Прежде всего, он неглубоко вник в существо боевой задачи. Замысел командования заключался в том, чтобы после разведки боем имитировать в течение ночи перед гитлеровцами сосредоточение советских танков, якобы для наступления. С этой целью две тридцатьчетверки, маневрируя, должны были создавать видимость выдвижения боевой техники на исходные позиции. Мотыльков же полагал, что главное — разведка боем — состоялась. Теперь достаточно «пошуметь” с места. «Из-за такой игрушки нечего тревожить взводного», — решил старшина. Во-вторых, в землянку его привлекало не столько жаркое пламя березовых дров, раскаливших докрасна железную печку, сколько соблазнительные огоньки в карих глазах Клавы. Он оставил в машине одного Моторного, который отличался хорошей закалкой и выносливостью.
Бойцы из танковых экипажей чувствовали себя в землянке-медпункте лишними. Из неловкого положения их невольно вывел комсорг разведроты сержант Троян. Чтение письма ленинградцев продолжалось четверть часа. Когда танкисты услыхали слово ленинградцев, они поспешили к танкам. Вместе с ними готовились к выходу и раненые.
— Надо срочно найти Гридина, — остановила Клава Трояна, доверительно добавив: — Хочу лично передать… Жжет, — прикрыла она ладонью левый карман гимнастерки.
Троян недоуменно пожал плечами: какая сокровенная тайна мучает девушку — письменная, адресованная Косте, и хранимая в левом кармане, или ее, Клавина, скрываемая в самом сердце? Кто поймет философию этих крайностей?
— Я не забыл твою просьбу, Клава. Сказал Косте, что ему надо встретиться с тобою и Кириллом. Он обещал забежать к тебе, в землянку.
— Ладно. Буду ждать.
Все ушли. Клава осталась в землянке одинокой.
Ей было не по себе. То мерещились окровавленные останки Антипина, то невеселое лицо Вани. Казалось, будто на прощание он безнадежно махнул рукой. Неужели его — такого тихого, нехитрого — ждет что-то недоброе? И тогда, во время атак на Погостье, сердце было не на месте. Во время прибежала и спасла. Беспокоит также Гридин. Говорят, в бою он — сокол, а в тылу — будто с опущенными крыльями. И Надя, видно, хороша — вручить письмо Косте при условии, если он не завел себе другую девушку. Все, хватит испытывать судьбу. Надо быстрее разыскать и обрадовать Костю. Грех здесь, в тепле нежиться, когда там, на морозе, ребята места себе не находят. Зашел бы сюда Мотыльков. Попросила бы отпустить на полчасика Ваню, ну хотя бы на десять минут. Погреться бы возле печурки…
Вдруг резко взвизгнув, открылась дверь. В землянку хлынула волна ледяного воздуха. Клава с испугу качнулась назад, споткнулась и чуть не упала на горячую печку. Увидев в клубах морозного пара улыбавшееся лицо Мотылькова, она с облегчением вздохнула:
— А мне, трусихе, почудилось нападение. Хотела обороняться. Закройте дверь — холодно.
Он окинул быстрым взглядом темные углы землянки и, удовлетворенно потирая руки, шагнул к печке.
— Да, Клавочка, прежде всего наши души требуют тепла… Это зависит от нас, — загадочно улыбался Мотыльков.
Он сразу же принялся ломать на дрова оружейную пирамиду.
Клаве показалось, что треск дерева сопровождался каким-то жалобным повизгиванием.
— Для чего это? Что вы делаете? Разве можно?..
— Ради вас, Клавочка, все можно. В нашей жизни не такое гибнет. Молодость летит прахом.
Клава еще не вникла в смысл слов Мотылькова, но как-то инстинктивно насторожилась. Однако простодушное, бесхитростное выражение лица парня, а главное — задорный огонь в его глазах вызвали у девушки неизъяснимое любопытство.
Мотыльков запросто, по-домашнему, разделся, накинул на плечи Клавы свою меховую безрукавку. Сам остался в гимнастерке напротив открытой печки, в освещении бушующего пламени. Рослый, сильный, красивый. Настороженность Клавы сменялась восхищением.
Он это заметил и уже мысленно поздравлял себя с успехом.
На развитие этой, еще никем не разгаданной логики событий повлиял случай.
В землянку неожиданно ворвался капитан из штаба бригады.
— Мотыльков, немедленно передайте своему командиру взвода приказ полковника: усилить звуковую имитацию сосредоточения танков на этом участке. На ночь подменить механиков-водителей, отправить их на отдых. Они должны набраться сил и с восьми часов утра бодрыми сесть за рычаги танков, — выпалил он и после краткого: — Ясно? — исчез за дверью.
Мотыльков с минуту стоял молча. Потом резко повернулся к Клаве. Ее чистый, детски доверчивый взгляд и кивок на дверь: дескать, долг! — остановил его. Он потупился. Затем посмотрел на девушку влажно заморгавшими глазами:
— Вот так в нашей жизни бывает, — и начал лениво одеваться.
— Но не расстраиваться. Дам команду и вернусь.
Клаве подумалось, что благосклонное отношение к ней Мотылькова поможет в главном. И она наивно произнесла:
— С Ваней?
Тот, казалось, не расслышал. Дверь захлопнулась.
По дороге, на холоде, его лихорадило — и внешне, и внутренне.
— «Ночь длинна. Успею, — старался успокоить себя. Важно, что Клава поняла меня, и ждет… А Ваней прикрывается так, для порядка».
Продрогший в машине экипаж услыхал издали:
— Эй, просыпайся! Пошумим, братцы, для пользы дела.
Мотыльков склонился над люком. Луч фонарика нащупал механика-водителя, заглянул в его серое, сонное лицо.
— Ваня, прогазуй хорошенько и вылезай. Иди в машину командира взвода. Сядешь вместо Кирилла и до утра будешь елозить взад-вперед по старой танковой колее. Одновременно умудрись покемарить чуток, так как с восьми утра будет новая задача. А здесь мы напеременку справимся с твоими обязанностями.
Установив холостые обороты двигателя, Моторный вылез наружу и направился к танку командира взвода.
Лейтенант Ермак, выслушав его, и, пользуясь властью старшего, сухо отрубил:
— Отставить! Отправляйтесь в землянку-медпункт спать. В восемь утра вас разбудят. Наберитесь сил, завтра предстоит тяжелая работа.
Моторный пошел к землянке. У двери остановился. Какое-то время притаптывал на снегу, поскрипывая валенками — не решался войти.
Клава, будто предчувствуя, быстро выскочила навстречу.
— Ванечка! Я так и знала. Какой Гера добрый человек. Раскочегарил печку докрасна и тебя прислал.
Моторный по обыкновению пролепетав что-то невнятное, ступил через порог и развел руками:
— Не верится… А, говорят, в жизни чудес не бывает.
— Бывают, Ваня. Ты меня здесь не застал бы, если бы я не поленилась сходить за ужином. Санитары выручили, вон принесли кашу, сахар, чай. Давай будем ужинать.
— Распивать чаи в тепле — большая роскошь. Старшина Мотыльков тоже заботливый. Завел НЗ продуктов… Когда надо паяльной лампой разогревает консервы… Словом, умеет жить.
Он, вталкивая в печку толстое и длинное полено, сдвинул ее набок, опрокинув котелок с чаем.
— Ах, ты мой медведик неповоротливый. Вот и напились с тобою чаю. Осторожно, иначе и каша очутится там же.
— Теснота бесова. Точно у того чумака, что опрокинул уху в огонь, когда очутился в степи на ночлег со своими волами. И меня иногда обзывают: левша оберучь. Видать — таки не умею…
«А Мотыльков все умеет, — мысленно противопоставила Клава одного другому. И тут же ее осенила догадка: — Какая я слепая! Слово «умею” помогло… Выходит, Гера, умеючи, незаметно пробирался в мою душу, и будто не вытеснял Ваню. Рядом устраивался… Постой, постой!.. Не напраслину ли возвожу на парня с добрым характером?.. Гера всегда говорит то, что чувствует, не задумывается. Это же хорошая черта. Или нет… А Ваня? Этот — наоборот. Жестами лицом, глазами высказывается раньше и яснее, чем словами. И все же его медвежьи ухватки необъяснимо милы. Вот уж он никогда в жизни не станет устраивать себе личных удобств».
Последнее Моторный неожиданно опроверг:
— Не сдвигайся, Клава, с места. Там лапник, а здесь голые нары. Если ты не против, я к тебе придвинусь, с едой, питьем…
Он достал из противогазной сумки флягу, из-за голенища — ложку. В котелок с бульканьем полилась жидкость.
— Что наливаешь?
— Чай. Теперь я не такой дурной, каким был под Волховом. Завсегда со мною наполненная посудинка, пару кусочков рафинаду, котелок, ложка. Соблюдаю твои наставления.
— Интересно. Начал слушаться меня?
— Во всем. Это после переливания крови.
Скромный фронтовой ужин закончился. Когда коптилка померкла, Клава встрепенулась — она так и не успела сменить фитиль, — и как-то испуганно схватилась за грудь. Пока Моторный искал спички, тряпочку для фитиля, обугленный огарок потерял свой багровый цвет. Клава вздохнула и затихла. И Моторный ни слова. Спустя какое-то время, послышался его как бы виноватый, тихий голос:
— Я так согрелся возле тебя, что позволь мне тут же и прикорнуть.
— Нет, медвежонок. Негоже нам здесь ложиться… — Она имела в виду народное поверье: впервые спать девушке и парню под земляной крышей — к смерти.
Послышались вздохи, покряхтывания. Моторный неуклюже сползал с нар. Загремел котелок о жестяную печку, зашипела вода из талого снега.
— Куда ты, Ваня? Ну, право, какой ты, эдакий… Во всем особенный. Вернись. Я одна боюсь. — Ее пальцы нащупали в темноте мягкую, волнистую шевелюру.
— Не тяни, Клава, за чуб. Я сам подтянусь к тебе.
Кисть ее маленькой руки попала на широкую, жесткую ладонь. Легкое, трепетное пожатие. Затем ее пальцев слегка коснулись его горячие, потресканные губы. И он затих, даже, казалось, не дышал.
— Да, пожалуй, вместе нам будет теплее. Люди ушли из блиндажа и резко похолодало. Двигайся, Ваня, ближе… Нет, нет, не сюда. Устраивайся за спиной.
— Согласен. За тобой, Клава, что за каменной стеной. В головах — противогаз, в сердце — твоя кровь… Ничего в жизни больше не надо… — Остальное додумал: » И где ты была раньше? С виду немудрящая, но какая-то особенная. И не искал с тобою знакомства, познакомился случайно. Под Погостьем истекал кровью, леденел на морозе, и вдруг очнулся от тепла твоих маленьких ручек… Здесь и думать боялся увидеть тебя, а, поди, ж ты, посчастливилось».
— Не фантазируй.
Он встрепенулся: мол, уже и мысли мои разгадывает.
— Я говорю, не выдумывай накрывать меня своим полушубком. Мало намерзся в танке? Смотри, от оледенелой стенки прохватит спину.
— Зачем мне спина, когда сердца наши согревает одинаковая кровь, — и его правая рука скользнула через ее плечо и прикрыла мехом воротника вздрогнувшую грудь.
— Ой, это же в обнимку. Больше не шевелись, Ваня. Спи.
— Уже храплю.
И действительно, после многих бессонных ночей на морозе, опьяненный необыкновенным девичьим участием, он уснул.
Клава переживала: в левом кармане, под ладонью Вани хранилось письмо Нади, адресованное Гридину. Мы счастливы, а их счастье призрачное… Завтра же пойду в мотопехоту, найду Костю…
В блиндаже стало так тихо, что ей казалось, будто слышалось не только биение сердца парня? за ее спиной, но и тикание где-то часового механизма — ни у нее, ни у Вани часов не было, — и поскрипывание жести дымоходной трубы, и потрескивание над головой почвы, бревен наката…
Мотыльков раза — два подходил к землянке. От лейтенанта он узнал, что в ней находился Моторный, но не решался войти.
«Мы не сомневаемся, что скоро услышим о новых ваших победах…» «Теперь следует удесятерить силы…» — звучали в его ушах слова из письма ленинградцев. «Разве здесь надо удесятерять?.. Разве таких побед ждут от меня люди в блокаде?”
— Да. Надо туда!.. — бесповоротно изменил он свои намерения и побежал к танку.
Боевые машины, не переставая урчать, поминутно меняли свое местоположение. У переднего края они с различных позиций постреливали в мглистую вражескую сторону, из которой не только поблескивали огоньки, но под утро стало нести запахами едких выхлопных газов. Там накапливались мотомеханизированные войска.
Глухой подземный гул не успел повториться, как Моторный очутился на ногах.
— Началось. Не выходи, Клава. Тебя позовут, если потребуешься, — сказал он я торопливо выбежал из землянки.
— Ваня, постой! — следом выскочила Клава. — Ты забыл полевую сумку.
— Бросай! — обернулся он назад с протянутыми руками.
Взрывом снаряда их разбросало: ее — к дверям медпункта, его — к лесной тропинке.
Через мгновение Моторный шевельнулся. С его рваного полушубка осыпались комки земли и снега. Он приподнялся. Сел, протирая глаза. Взлохмаченная голова — от природы темно-русая — белела снежной пылью. Оглядываясь, стал поворачиваться к землянке, медленно и неуклюже. Двинулся по-пластунски, петляя. Руки без перчаток дрожали, загребая перед собою взрыхленный снег, темный от пороховой гари. Под растопыренными скрюченными пальцами все чаще попались глыбы торфянистой почвы — шершавые, жесткие, колючие. Вдруг пальцы левой руки запутались в мягком, влажном шелке. Поднял голову. Сбоку ударили мертвые лучи ракеты. Нет, это не шелк. Волосы. Растрепанные, светло-русые. И — матово-бледная округлость лба… От всего остального, увиденного в лучах второй ракеты, Моторный глухо застонал и гулко ударился головой о твердый, оледенелый снег.
Потом он поднялся. Схватился за кисть ее руки.
— Клава! Клава! — закричал он в отчаянии. — Что делать!?
Прибежал сержант Троян. Рванул с себя маскхалат и накрыл тело Клавы.
— Перестань, Ваня, — пытался Троян унять взбудораженного товарища.
Сержант Троян, когда бежал к землянке, собирался обрадовать друзей: мол, имитация удалась, враг обманут, танки и мотострелки ворвались с фланга во вражеский опорный пункт, на перекрестке проселка с узкоколейкой Гридин водрузил красный флаг.
Картина возле воронок на снегу ошеломила Трояна. Услыхав со стороны дальней тропинки голоса, он неистово закричал:
— Эй, разведчики! Врача!.. Немедленно! Кого-нибудь из медиков… Срочно! Бегом!..
На маскхалате, прикрывавшего девушку, проступало, все увеличиваясь, пятно крови. Троян приподнял лоскут. Левый карман гимнастерки оказался разорванным осколком. От корочек комсомолького балета остались одни клочья. Не уцелели и другие какие-то бумаги, среди них и письмо в самодельном голубом конвертике; Троян узнал его по сохранившемуся, но окровавленному уголку.
К образовавшейся возле землянки толпе прибежал Гридин. Переводя дыхание, он спросил, где Кирилл, Клава.
— Убит.
— Убита.
Два слова, произнесенные тихо и маловыразительно, казалось, заглушили залп дальнобойной артиллерии, прогремевший где-то рядом.
Подоспевший военврач склонился над Клавой.
— От потери крови… — негромко произнес он.
Осмотрев Моторного, добавил:
— Контужен. Пройдет…
Послышались перешептывания, чьи-то сдержанные упреки.
— Что?.. Постеснялся… Ранена в грудь. А он постеснялся… Надо было перевязать. Может, удалось бы спасти.
На опушке леса стояла необычная для фронта тишина. Только из-за дальних мглистых лесов наплывал глухой отзвук артиллерийской канонады. Вокруг — никаких признаков жизни. Снежное месиво, затвердевшее от мороза, было присыпано пушистым снегом. От леса остались обломанные, ободранные пеньки, щепки, ветки. В танковые колеи вдавлены изжеванные гусеницами стволы сосен, елей, берез. Там и сям чернели остовы разбитых и обгоревших машин.
Вдали — железнодорожная насыпь, изрытая воронками. Между ними петляла тропинка, поперек пересекавшая насыпь.
По накатанному зимнику медленно продвигались люди. Потом они свернули на тропинку, и пошли цепочкой. Впереди шагал сержант Троян. Со стороны могло показаться, что он уходил на задание с отделением разведки.
Но вот сержант остановился у расщепленного снарядом телеграфного столба, лежавшего вдоль тропинки.
— Кто устал, можно присесть, — указал он на бревно.
— Нет, спасибо, — послышался вежливый грудной голос.
— Стоя виднее.
— Посмотрите на бугорчатое возвышение, которое поднимается за сетью проволочных заграждений. — Троян повернул голову к откосу насыпи. — В снегу темнеют впадины. Это — норы, щели… Из — под развороченных снарядами глыб земли и бетона торчат покореженные рельсы, переломанные шпалы… Теперь просто не верится, что это — бывшие вражеские дзоты, доты… А тогда…
Чувствовалось, что сержант очень волновался. Ему пришлось выступать перед незнакомыми людьми — мужчинами и женщинами, одетыми в теплые куртки, пальто, шубы. Они поднимались на пеньки, кочки, отступали вправо, влево, чтобы лучше увидеть то, на что указывал сержант.
— Здесь не попадается даже сорока — стрекотунья, — удивлялся пожилой сухощавый человек в очках, тщетно стараясь уловить какой — либо птичий голос.
— Я от самой Ладоги не заметил на снегу следов ни зайца, ни косули, — осматривал поверх голов местность высокий жилистый мужчина.
— В Ленинграде даже кошек не стало… А помните, как вы перед Новым годом залюбовались в этих местах парочкой сохатых? Тогда я пропустил матерую лисицу — опасался выстрелом спугнуть тетерева, который так увлеченно квохтал.
— Да, теперь здесь другая музыка не утихает. — Сухощавый, в очках посмотрел в направлении Мги, откуда доносился гул стрельбы.
Делегация трудящихся Ленинграда прибыла к танкистам во время выхода бригады из боя на отдых и переформирование. Артиллеристы и мотопехота и с ними Гридин остались на передовой. Гостей принимали те, кто прибыл в числе первых в район лесного лагеря-городка.
Сержанту Трояну поручили ознакомить делегацию с бывшим передним краем. На ходу кто-то из друзей шепнул Трояну:
— В составе делегации есть девушка с местным говорком — изредка шикает, цыкает. Может, Валя — Волхова?
Троян не чувствовал под собою ног.
За лагерным шлагбаумом, на перекрестке – проселков-зимников, он встретился с гостями. Человек семь располагались, отдыхая, кто на чем: на пеньках, обломках деревьев. Их лица с острыми скулами, подбородками, хотя и выражали усталость, но не были мрачными. В глубоко запавших глазах — живой огонь, пытливый интерес ко всему окружавшему. У сухощавого рабочего в очках слегка посеребрены кустистые брови, виски. Усы высокого, жилистого — инженера, руководителя делегации — сверху чуть белели. Но нет, это не седины. У того и другого — иней, как и на меху шапок, воротников.
Здороваясь и знакомясь с гостями, сержант Троян убедился, что за плечами каждого из них, если не по шестому десятку, то около этого.
— Вижу, что не все в сборе, — забеспокоился сержант. — Где остальные?
Естественно было предположить, что некоторые, физически слабые, могли отстать по пути от станции Войбокало до лесного лагеря. Но Троян, заинтригованный «секретом» дружка, прежде всего, старался увидеть местную девушку.
И словно угадав его мысли, женщина в длиннополой шубе с большим шалевым воротником сказала, что приехавшая с ними комсомолка подхватила двух товарищей, подстать себе, и ушла с
Делигация из Ленинграда апрель 1942 года.
веселым и симпатичным старшиной к выступу невысокого березняка. Старшина обещал показать подбитые машины противника.
«Мотыльков уже и здесь успел», — досадливо вглядывался Троян в сторону березняка.
— Ничего. Пусть молодежь посмотрит. Нас же больше интересует, как ведут себя на поле боя машины, восстановленные нашими руками, — заметил рабочий в заячьей шапке. — Пойдемте. Комсомолия догонит.
— Хорошо, — согласился Троян. — Итак, начнем по порядку. Остановились у бывшего переднего края, возле тридцатьчетверки с разорванной гусеницей и дырой в бортовой броне.
— Эта машина не совсем погибла,- осматривая пробоину, сказал инженер, коснувшись рукой своих заиндевевших усов.
Кто-то предложил:
— Между третьим и четвертым катком наварить стальную пластинку и «болванка» второй раз не возьмет.
— Пластину вырезать примерно вон такой величины, — показала женщина в шубе на черный металлический круг, полузасыпанный снегом.
— Осторожно! — предупредил Троян. — Эта противотанковая мина еще не обезврежена.
— Ох, а мне показалось… — Женщина отшатнулась. — Я ведь знаю, как обращаться с минами. Слушала лекции военного инженера. Кстати, он говорил об интересных изобретениях… Танкистам на фронте, наверное, некогда заниматься рационализацией.
— Почему? — возразил Троян. — Во время перерывов между боями наш механик-водитель разработал приспособление, которое позволяет из танка разминировать местность. Предложил также проект обогревателя… — Троян заметил на зимнике — рокаде группу людей и обрадовался: — Вон там — ветеран-танкист, рационализатор. — И громко крикнул: — Ваня, скорее сюда!.. Иначе я тут один засыплюсь.
В окружении танкистов шла худенькая девушка в огромных мужских валенках и в драповом пальто.
— Ой, сугревушка (сугревушка — родной, милый, сердечный человек /мест./) — что мы видели!.. Пришодцы на кладбище
Делигация рабочих из Ленинграда апрель 1942 года Шум.
военной техники, я сразу заметила… — делилась она с женщиной в шубе впечатлениями о трофеях.
— Познакомься с коллегой по общественной работе. — Пожилая женщина кивнула на Трояна. — Поговорите о том, что следует сделать, чтобы вон такое не случилось — тридцатьчетверка еще не ворвалась на вражеский передний край, а уже погибла.
— Не безвозвратно, — окинула девушка подбитую машину пристальным взглядом больших бирюзовых глаз. — Она не горела. А посмотрели бы вы на фашистские танки. Груды искалеченного, обожженного металла.
Только после этого девушка обернулась к Трояну и безучастно протянула руку:
— Таня. Знаю, вы комсомольский бог разведчиков, — и повернулась к женщине в шубе: — А нам перебежал дорогу ушканчик…
«Да, видно, и ты прыгаешь, будто зайчик-ушканчик» -подумал Троян.
Он, разочарованный не только тем, что «коллега -комсомолка» не оказалась Валей — на такое чудо нечего было надеяться, потому что Валя работает в полевом госпитале и вряд ли могла попасть в состав делегации ленинградцев, — а и тем, что со словоохотливой коллегой и не поговоришь, она занята обществом других гостеприимных танкистов. Разыскав взглядом Мотылькова, Троян укоризненно качнул головой: «Болтун»!
Как бы в ответ на это Мотыльков непринужденно взял под руку Таню. И заговорил о том, как в бою за насыпь ухитрялся без заряжающего и стрелять, и обнаруживать новые замаскированные огневые точки противника, и наблюдать через смотровые приборы, которые тут же возле танка показывал девушке березовым прутиком. Потом подтянул рукав полушубка и показал на запястье синюю татуировку: пронзенное сердце и на стреле: «Таня”.
— Такое имя мне в прошлом году приснилось, и я на второй день для памяти татуировался. Выходит, сон в руку. Сегодняшняя явь…
Девушка смутилась.
— Я тут краем уха слышал о рационализаторских предложениях, — сказал пожилой рабочий.
Делигация из Ленинграда.
Троян оживился:
— Да, да. Ваня, расскажи представителям завода, как во время недавнего боя у тебя возникла мысль о новом усовершенствовании.
Иван Моторный досадливо махнул рукой:
— В бою некогда размышлять.
Ему все еще виделось то, что произошло так недавно здесь, и, казалось неуместным то, что люди именно тут, где лежала Клава, улыбаются, интересуются будничными делами. И в природе — никаких перемен. И из трубы бывшей Клавиной землянки, как и прежде, столбом поднимается дымок. Кто-то замурлыкал песню — будто ничего особенного на этом месте не происходило.
Уловив во взгляде Трояна дружескую просьбу: «Ваня, подтянись»! подавив вздох, сказал:
— В том бою мне помогли уцелеть две вещи: недостаток ремонта моей машины и странное поведение противника.
Глаза Тани округлились:
— Как это «помогли”: недостаток, противник? — Она подошла к борту тридцатьчетверки. — Покажите, что плохо отремонтировано.
Механик-водитель провел прутиком по скобам и болтам на корме танка, которыми крепятся к броне дополнительные бачки с топливом.
— Вот брак ремонта, на виду.
Моторный рассказал о курьезном случае.
Обычно в боевой обстановке он снимал дополнительные бачки с брони танка. Но однажды, на время марша к новому участку фронта, бачки, заправленные горючим, были установлены на свои места. Видимость была плохой — туман, изморозь. И случалось так, что тридцатьчетверка уклонилась в сторону, проскочила через замерзшее болото в расположение противника, прямо к арке со шлагбаумом. На большой скорости Моторный смял полосатую будку и помчался по гладкой, посыпанной песочком дороге. Враг стал бить из автоматов, карабинов и винтовок, пытаясь ослепить смотровые щели и поджечь на машине топливные бачки. Флегматичный Моторный переживал: неужели машина вспыхнет от попадания в бачок какой-то паршивой зажигательной пули? Но не вылезешь наружу снимать эти злополучные бачки… И он устремился на врагов, круша их гусеницами и лобовой броней. Затрещали под танком штакетники, калитки, домики-срубы…
Толпы гитлеровцев бросились к большому строению с флюгером на крыше. Туда же с ревом понесся танк и с разгона поддел лобовой броней угол бревенчатого строения. Наконец, в укрытии /за поленницей дров/ — короткая остановка. Танкист сориентировался. Прочесал из пулемета территорию лесного лагеря и вернулся к своим.
— После этого случая, — продолжал Моторный, — я предложил усовершенствование: чтобы снять дополнительный бачок, не надо вылезать из машины. Можно даже на ходу чуть повернуть ручку и бачок сорвется с кормы на землю.
— Это здорово! — отозвался инженер, пожав руку механику-водителю. — Ну, какие есть еще у вас больные места?
— Прежде всего, для улучшения проходимости танка по болотам, нужно следующее… — оживленно продолжал Моторный.
Ленинградец, достав из кармана блокнот, карандаш, кивал.
— И это уже есть, — заметил он, принимаясь чертить схему нового усовершенствования.
— О, на поле боя можно заниматься улучшением конструкции машин, — заметила Таня и в свою очередь предложила схему подогревателя в танке — для облегчения заводки двигателя на морозе и для обогрева экипажа.
Надолго затянулся обмен мнениями.
Землянка битком набита танкистами.
— Есть ли здесь ленинградцы? — спросила женщина в длиннополой шубе, усаживаясь на снарядный ящик.
— Полно, — услышала она в ответ.
— Вот я, рядовой Яша Зеленков. С Кузнечного переулка, шесть. Может, вы, случаем, проезжали мимо. Эдакий старинный домина лимонного цвета.
— О, ваш толстостенный дом стоит, как крепость. Совсем недавно я была поблизости.
— Не могли бы вы, по возвращении в Ленинград, еще раз заглянуть туда. Квартира номер один. Узнать как там жена.
— Постараюсь, но твердо обещать не могу. Передвигаться сейчас по Ленинграду не так-то просто. Улицы покрыты льдом. Груды битого кирпича, оборванные провода, воронки… Освещение такое же, как и у вас на переднем крае — разноцветные дорожки в небе, да сполохи ракет, снарядов. Отопления — никакого. Только на заводе, в конторках цехов, оборудованы жаровни. К ним приходят рабочие через каждые пятьдесят минут, чтобы накоротке погреться.
В землянку вошел командир роты — немолодой капитан с орденом Красного Знамени и золотой нашивкой на груди — знаком тяжелого ранения. Началось собрание, посвященное двадцать четвертой годовщине Красной Армии.
За столом появился президиум. В центре сидела ленинградская гостья.
— Свой праздник мы отмечаем несколько позже календарной даты, — обратился капитан к гостье. — Потому что бригада еще не полностью вышла из боя… Рад вам доложить, что наш рывок во вражеское расположение был успешным. Прямо скажу: письмо ленинградских рабочих в связи с освобождением Шалы всколыхнуло, подняло боевой дух танкистов… Так что в этом успехе есть и ваша заслуга. Не говоря уж о ремонте танков… — и далее командир рассказал, как танковые экипажи отмечали за рычагами, за прицелами и рукоятками управления тридцатьчетверок день 23 февраля.
— Опыт последнего боя поучительный, — заговорил лейтенант Ермак. — Враг, видимо, понадеялся, что мы по случаю юбилея: будем отсиживаться в блиндажах. Но танкисты разгулялись гусеницами, да огоньком по ненавистным дзотам, срубам… Надо, товарищи, размолотить врага под Ленинградом. Так что наши праздники — впереди!
Выступали рядовые, сержанты.
— А мне сдался в плен фашист, который начал изучать русский язык, — сообщил Мотыльков, протискиваясь в землянку через узкую дверь. — Уже чисто выговаривает «Катюша” и вполне сносно мурлычет мелодию этой песни…
Слова потонули в одобрительном гуле голосов.
Под конец в землянке зазвучал грудной голос ленинградской гостьи:
— Дорогие!.. Сыночки… — Женщина окинула танкистов ласковым взглядом. — Вы здесь отстаиваете колыбель Октябрьской революции. И свою колыбель — я узнала, что многие из вас ленинградцы и ровесники Октября. Только подумать… Под угрозой находятся заводы — гиганты, Эрмитаж, дворцы, исторические памятники — чудо творения нашего народа. Надо спасти город декабристов и Пушкина, город рабочей, матросской и красногвардейской славы. А для этого следует разорвать петлю блокады!
Жду встреч на Лиговке. Передам ленинградским девушкам, чтобы они без задержек выполняли заказы фронта, чтобы быстрее возвращали к жизни машины, на которых вы спасете жизнь города, пробьетесь к Неве, к ленинградкам на свидание!
На второй день ленинградцы осматривали лесной лагерь. Гостей повсюду обступали воины. Обменивались адресами, фотокарточками.
Звучали экспромтом написанные стихи о сержанте Моторном.
Девушка с бирюзовыми глазами обратилась к Мотылькову:
— О том черненьком пареньке уже стихи написали? Я сожалею, что так сухо с ним обошлась. Разыщите, пожалуйста героя. Хочу пожать ему руку. Интересно послушать, как шли бои за Погостье, где я родилась.
— Вот будете обедать с моим экипажем и там услышите воспоминания о взятии Погостья, — улыбаясь, ответил Мотыльков. — Кстати, Танечка, если мы с вами не встретимся на заводе, то где вас искать в городе?
— Вы так уверены, что скоро побываете в Ленинграде?
— Абсолютно. Переправа танков через Ладогу — очень трудное и опасное дело. Без меня не обойдется.
— Пожалуйста, вот вам мой ленинградский — адрес, — протянула Таня ему бумажку.
— Спасибо. Я оставлю вас одну на несколько минут. Сбегаю, распоряжусь насчет обеда.
Однако события приняли неожиданный оборот.
Ленинградских гостей пригласил на обед полковой комиссар Кузнецов.
Небольшая землянка, выступавшая над равнинной прогалиной невысоким срубом с окошками. Внутри — длинный и узкий стол из сосновых тесин. Вместо скатерти — газеты. На них — мелконарезанные ломтики черного хлеба. В дымящихся котелках — гороховый суп, в крышках — перловая каша.
Места за столом заняли гости вперемежку с танкистами, представителями подразделений.
Полковой комиссар Кузнецов от имени командования бригады поблагодарил делегацию за приезд на фронт, за беседы, проведенные с бойцами, за вклад в дело повышения боеспособности танковых рот, батальонов.
— Позвольте мне сказать несколько слов, — поднялся худой, в очках рабочий и посмотрел в окошко, в котором виднелась линия электропередачи. — Взгляните, как величественно, стройно и ровно выделяются среди елей мачты высоковольтной. Они, как фантастические великаны-богатыри, прошли через леса и болота, чтобы доставить электроэнергию с Волховской ГЭС городу на Неве. Кое-где фермы стальных конструкций искорежены снарядами и бомбами. Оборванные провода обросли инеем, свисают до земли. Считайте, товарищи — танкисты, что эти мачты дня вас — ориентиры. Не упускайте их из виду, и вы пробьетесь к цели… Мы же выровняем и склепаем поврежденные стальные фермы, поднимем и натянем провода. — Передохнув, он сурово произнес: — Надо так наклепать захватчикам, чтобы навеки запомнили и потомкам наказали, что «Дранг нах Остен” всегда кончается разгромом!
Послышался гул одобрения:
— Правильно!
— Мудрые слова. За дружную работу!..
И потекла беседа — по-семейному непринужденная, теплая.
— Знакомство с тем, как и где, зарождаются «болячки» у ваших тридцатьчетверок, облегчают нам «лечение», — сказал рабочий в очках.
— Сами-то не заболейте возле окошка, — подхватил Самохин, — давайте поменяемся местами. Налью вам погорячее… Ваня, развяжи наш «энзэ» — может, кто хочет попить чаю вприкуску. — И на стол посыпались из вещмешка куски рафинада вперемежку с сухарями.
За столом поднялся инженер, руководитель делегации.
— Я доложу ремонтным бригадам нашего цеха, что во время знакомства с танкистами — волховчанами мы все вместе как бы увидела картину недалекого будущего. — Он достал из кармана очки, протер их, хотя во время выступления пользовался ими как указкой в правой руке. — На переднем плане этой картины — советские танки. — И — жест в окошко, где выделялись под кронами деревьев зачехленные машины. — Они, прежде, чем двинуться на Берлин, стальным утюгом разровняют вражеские позиции на пути с Волхова к Ленинграду. Потом завернут к нам, на завод. Мы встретим, как подобает. Перед дальней дорогой тщательно осмотрим и обслужим каждую тридцатьчетверку. И уж после этого наша бронетанковая лавина помчится к фашистскому логову!
Слова потонули в аплодисментах.
Полковой комиссар Кузнецов сказал:
— Танкисты выполнят свой долг перед городом Ленина — разорвут петлю блокады. Недалеко то время, когда огни Волховской ГЭС засветятся не только на Волхове, но и в Ленинграде. По этим проводам потечет энергия, которая поможет ленинградцам и советским воинам изгнать с родной земли гитлеровских оккупантов.
Снаружи донесся грохот советской дальнобойной артиллерии. Вздрогнули стены сруба, заколебался воздух. Под брезентом и газетами, которыми облицованы бревна наката, зашуршали комки земли. За окнами, с линий электропередачи посыпались наросты мохнатого инея.
Руководитель делегации, прощаясь с полковым комиссаром, попросил:
— Нам бы встретиться с танкистами, которые будут сопровождать нас через Ладогу, к заводу, — и он посмотрел в сторону Мотылькова, горячо беседовавшего с Таней.
— Пока вы побываете у соседей, мы подготовим к поездке с вами в Ленинград таких товарищей, которые на обратном пути сядут за рычаги отремонтированных машин и приведут их по льду Ладожского озера к нам, на Волховский фронт.
Гридин и Самохин спустились в овражек, где на покатом склоне, в квадратном углублении тлела куча березовых чурок. Здесь намечалось строительство землянки и бойцы, чтоб разморозить почву, разожгли костер. Друзья уселись на толстое бревно, поближе к огню.
Гридин, затягиваясь махорочной цигаркой, говорил:
— Да, на фронте не так уж часто выпадают случаи собраться и побеседовать о благородных и опрометчивых порывах людей. Вот комиссар и стремился с самого начала семинара вызвать комсомольский актив на откровенный разговор.
— И твое, Костя, выступление было хорошей затравкой.
— Кому-то надо было начинать… Как тебе понравились слова комиссара о балансировании на грани жизни и смерти? А примеры, приведенные выступающими, для подкрепления этих слов?
— Ну, знаешь, Костя, тут можно рассуждать и так и эдак … — заметил Самохин.
— Конечно, статейка Мотылькова в Боевом листке о шутках со смертью дала пищу для разговоров не только в нашем батальоне.
— На семинаре противопоставлялись две картины, — по обыкновению суховато сказал Гридин. — Как справедливо отметил Кузнецов, в центре первой картины находился Мотыльков, второй — Самохин. — Уловив, однако, недовольное «Кхе!» старого сослуживца, он дружески положил ему руку на плечо: — Да, да, Саша, не кашляй. Твои порывы мне понятны. И я и любой другой на твоем месте поступили бы так же среди ладожского льда. Но шарахания Мотылькова порой не объяснишь.
— В мотострелковом ты, Костя, оторвался от жизни танкистов, вот тебя и удивляет «балансирование” Геры. А я считаю, что все тут закономерно. Ты слышал на семинаре о «зигзагах» Мотылькова.
Слова Самохина да недавние откровения Трояна помогли Гридину представить себе сущность этих «зигзагов».
Мотыльков не раз говорил товарищам, что Волхов для него — невезучее место. К Синявину не прорвался, обгорел в танке и вернулся из медсанбата на прежнюю должность радиста-пулеметчика, хотя ранее в боях исполнял обязанности заряжающего и даже командира танка.
Гридин слышал и от Ермака о «невезениях» молодого танкиста. Еще в первой атаке командир танка, занятый управлением машиной, огнем, урывками поглядывал на Мотылькова.
Танк сближался с противником. Башня содрогалась от выстрелов, позванивала от ударов осколков. Мотыльков втянул голову в плечи и стал приседать все ниже и ниже.
«Из-под гусениц вырвалось пять гитлеровцев, улепетывают к своей траншее», — доложил механик-водитель.
Ермак приказал Мотылькову расстрелять групповую цель из курсового пулемета. Радист-пулеметчик сполз со своего сидения и что-то долго искал на днище. Потом обернулся к триплексу. В поле зрения — дым и снежная пыль. От того, что танк подбрасывало влево, вправо, вверх незадачливый пулеметчик ударился раза — два подбородком о ложе курсового пулемета и свалился набок, облизывая кровь с разбитой губы.
Бой закончился. Товарищи по экипажу разъясняли Мотылькову, что причина его невезения в нерасторопности. Потом, уже значительно позже, Мотыльков, когда танк подорвался на мине, совсем иначе себя повел. Огонь из вражеского дзота не давал экипажу восстановить гусеницу. Мотыльков ужом выскользнул из люка, подполз к дзоту и метнул из-за валуна гранату в амбразуру. «Можно спокойно натягивать гусеницу. Вражеская пулеметная точка уничтожена», — вернувшись, доложил он.
Был еще такой случай. Когда в тяжелом бою за станцию Погостье командир и заряжающий вышли из строя, радист-пулеметчик Мотыльков поднялся на командирское сидение, взялся за ручки телескопического прицела, увидел через окуляр поле боя. Завертел рукоятками подъемно-поворотного механизма. Сам зарядил пушку. И приказал механику — водителю двинуться на вражеское орудие. Сначала — удар с короткой остановки. Потом с ходу — очереди из танкового пулемета. И в огневом единоборстве с врагом победил рядовой Мотыльков.
За этот подвиг ему было присвоено звание старшины.
— Что ж, логично, — сказал Гридин. — Маленький коллектив сделал большое дело: помог бойцу качнуться с опасной грани не в сторону страха и смерти, а в сторону мужества и жизни.
Но в поведении Геры укоренилась и другая «логика»: как встретится с женщиной, так теряет равновесие. — Самохин закашлялся, хватив лишку махорочного дыма. — В жизни бывает и так, что человек стремится к хорошему, но в результате задыхается от зла — получается плохое.
— Ты хочешь высказаться о второй картине, которая вырисовалась на семинаре?
— Нет, Костя, — встал Самохин, отряхивая махорочную труху и пепел. — Пойдем, а то останемся без обеда.
— Хорошо. — Гридин поднялся. — Тогда послушай мое мнение. О твоих, Саша, ”гранях» потолкуем на ходу. Не торопись. Прогуляемся.
— Распишись, Саша, в получении задания на тактическое занятие.
— На фронте тактические занятия? Да ты, Петро, не того?
— Нет, Саша. — Троян расковырял проволокой фитиль коптилки.
В блиндаже стало светлее. — Перерывы между боями используются для учебы. Наша разведрота уже вышла в поле. Проиграем на местности будущий бой.
В блиндаж вошел посыльный.
— Старшину Самохина — срочно к комбригу, — объявил он.
В землянке-срубе комбрига сидел за столом и пил чай знакомый инженер — руководитель делегации ленинградских рабочих.
Старшина Самохин доложил полковнику, стоявшему у окошка, о том, что «прибыл по приказанию”.
— Хорошо. — Высокий и широкоплечий полковник отошел от окна. Присел на краю стола. В землянке посветлело. — Вот вы, товарищ Самохин, дождались оказии. Командование решило послать вас с группой танкистов в Ленинград. Туда будете сопровождать делегацию, а обратно пригоните танки, отремонтированные на заводе. Все это следует делать живой рукой, а то с наступлением весны лед на Ладоге слабеет. Справитесь с задачей?
— Так точно!
— Поезжайте. На месте, в заводских условиях, тщательно просмотрите каждую машину. В пути соблюдайте правила обкатки. Словом, доставьте на фронт танки в таком виде, чтобы, если я прикажу вам пойти в бой на любом из них, то чтоб вы двинули без оглядки.
В предвечерних сумерках делегация ленинградских рабочих вместе с танкистами убыла с прифронтовой полосы к Ладожскому озеру. А через двое суток они попали на… фронт.
Да, Самохин разговаривал с рабочими-ремонтниками, стараясь перекричать шум от резких взрывов снарядов, звона битого стекла, воя осколков, ударов молотов, визга сверл, напильников… Все это происходило в цеху ленинградского Энского завода. Танкист — фронтовик поражался: в таких адских условиях трудились ленинградцы!
Перед отъездом на Волховский фронт Самохин хотел один на один повидаться с Таней. Он разыскал в пристройке к цеху коморку, где находились койки Тани и двух женщин из охраны завода. Оказалось, Таня не жила у своей тетки, адрес которой дала Мотылькову — три часа ходьбы туда и обратно. Заметив в стене коморки рваную дыру, кое-как прикрытую листом железа, и битый кирпич рядом, Самохин принялся заделывать дыру. За этой работой и застала его Таня.
— Ой, спасибо, Саша! Вы такой добрый, как…
Над головами пронесся шуршащий свист, и невдалеке — взрыв.
— Так и тогда, ночью… — задрожала Таня. — Взрывом снаряда пробило нашу стену и швырнуло в коморку кирпичной крошкой и пылью. Правда, никого не задело. Но до утра мы не могли уснуть — мороз донимал.
— Теперь будет теплее. — Самохин втыкал отверткой бумагу и паклю в щели между кирпичами. — Другой раз отштукатурим. А в углу коморки печку поставим.
— Вы собираетесь еще раз приехать? сГерой?..
Тане явно хотелось услышать утвердительный ответ.
Самохин почему-то вдруг заспешил:
— До встречи! — и побежал в цех.
Немало пройдет времени, пока выяснится смысл недомолвок в этом диалоге.
Старшина Самохин, помогая ремонтникам устанавливать на корме танка надмоторную броню, обливался потом. Затем сел за рычаги, направляя машину к заводским воротам. Перед глазами — изможденные лица ленинградцев, изувеченный город. И танкист поторопился: скорее в бой!
Он так и не успел смыть с лица маслянистые потеки, вовсе не предполагая, что их будет смывать ледяная вода Ладоги.
Колонна реставрированных танков покинула заводскую территорию. Гусеницы скрежетали по оледенелым черным глыбам земли, кирпича, булыжника, вывороченных снарядами и бомбами. Наконец, машины с трудом выбрались за город. А там — признаки весенней оттепели: ноздреватый снег почернел, осел.
Первые хлопоты доставил загородный фронтовой зимник, сплошь размолотый колесами и гусеницами различных транспортов. Когда же головной танк начал спускаться на лед Ладожского озера, старшина Самохин затаил дыхание. Вглядываясь вдаль, он убеждался, что «Дорога жизни” — ледовая трасса, связывавшая зимой Ленинград с Большой Землей — явно заканчивает свой срок службы. На ней угрожающе поблескивали промоины.
Вдобавок с запада стал нарастать гул вражеских самолетов.
Еще не успела рассеяться клубившаяся мгла от взрывов авиабомб, едва начал затихать вибрирующий вой «юнкерсов», как старшина Самохин распорядился:
— Моторный — в голове. Остальные — на уставных дистанциях… И сам рванулся вперед.
Длинной палкой прощупывал снежные бугорки, рыхлые впадины, лужи на льду. Проверял трассу — не затаились ли где-либо под разливом воды воронки от авиабомб.
Опасения вскоре оправдались.
Из ближайшей полыньи Самохин еле выбрался на подвернувшейся под рукой березовой фашине. По скользкому дну другого озерца он прошел без препятствий. За ним двигался средний танк.
Уже раздавались первые вздохи облегчения среди наблюдавших за танковой колонной с берега людей, как лед под головным Т-34 угрожающе затрещал. Зловещий треск заглушила стрельба и басистый прерывчатый, гул. Это зенитчики ударили из полуавтоматических пушек и пулеметов по новой волне фашистских бомбардировщиков. Танкисты тоже прилаживались стрелять из танковых пулеметов по воздушному врагу.
Самохин ощутил колебание льда. Взглянул под приближавшиеся к нему гусеницы и побледнел: танк как бы с горки сползал вниз. Откуда взялся спуск на ровной поверхности застывшего озера?
— Тормоза!! — не своим голосом закричал старшина, не замечая, что сам погружается в воду. И понял: поздно. Никакие тормоза не помогут. Тридцатьчетверка сползала с льдины, передняя кромка которой тонула, словно под тяжестью… его, Самохина. Он завопил: — Веревку! Моторный, немедленно — из машины!
Льдина под ногами резко наклонилась. Самохин, падая, уперся руками в какой-то ледяной нарост и стал карабкаться вверх. Наконец, ему удалось взобраться на острую грань льдины.
Клокотание воды и шипение пара с болью отозвалось у него в ушах. Он с трудом удерживался на задранном вверх остром ледяном гребне.
Из-под погружавшегося в волу танка вынырнул Моторный.
Ему кричали:
— Тяни веревку!
— Живее!
— Не оглядывайся. Танку каюк.
И Самохина торопили:
— Товарищ старшина, прыгайте!
Самохин обернулся. В грудь ткнулась длинная жердь. Он ухватился за ее конец и, оттолкнувшись от льдины, прыгнул через полынью. На противоположном ледовом обрыве его подхватили сильные руки.
Тут же вынырнул, уцепившись за веревку, Моторный. Послышалось громкое хлюпание. Танк опрокинулся и мгновенно исчез в озере. А огромная льдина, качнувшись, накрыла волной танкистов.
Моторный, глядя на оставшиеся после танка фиолетовые разводы, громко заплакал. Люди на минуту онемели, увидев, как плачет этот флегматичный, закаленный в боях богатырь.
Старшина Самохин схватился за голову. Потом встряхнулся, и прозвучали тяжелые, как броневые листы, слова команды:
— Снять броню! Все лишнее удалить из танка. Немедля!
Тепло одетый сержант-крепыш вылез из люка тяжелого танка, недоумевая: «С тобою, старшина, не случился ли от ледяной ванны удар?” Но вслух произнес внятно, убежденно:
— Это совершенно невозможно. У нас нет приспособлений.
— Все, что отвинчивается и снимается, кроме двигателя и движителя, долой! Изнутри и снаружи каждого танка… Ключи, лом, кувалду!.. Живо! — торопил старшина Самохин, надевая на голое тело чью-то сухую фуфайку.
Вскоре возле переднего тяжелого танка КВ стала вырастать куча съемных броневых листов, крышек люков, запчастей, оружия.
— Над головами опять появились фашистские самолеты. Танкисты разделились: одни отбивались из пулеметов от воздушного врага, а другие продолжали уменьшать вес тяжелого танка.
Раскрасневшийся сержант-крепыш сдвинул рычагом-ломом на край кормы надмоторный броневой лист. Сталкивая его на лед, прерывисто кряхтел:
— В этой штуковине, братцы, пудов семь… В крышке люка — три… В общем, без этих тяжестей вес танка уменьшится… Послать бы гонца за краном — можно было бы и башню снять. И все это — на салазки, да подцепить буксирным тросом…
— Отставить разговорчики! — прервал его Самохин. — Забери, сержант, свои шмутки из машины, и временно доверь их мне. — Он подошел к люку механика-водителя. Посмотрев на часы, проворно юркнул внутрь танка и сел за рычаги. Прогазовал двигатель на холостых оборотах. Затем высунул голову наружу, скомандовал: — Делай , как я!
Танк плавно тронулся с места. Скрежеща гусеницами, пошел обочиной трассы. Там, где дрожали мертвой зыбью полыньи, регулировщики показывали флажками объезды.
Опыт удался. Старшина Самохин прошел на облегченном КВ по Ладожскому озеру и выбрался на волховскую землю.
В течение ночи необычная колонна полуоткрытых, разукомплектованных средних и тяжелых танков благополучно сосредоточились в лесу Приволховья.
К утру прибыли артиллерийский тягач, несколько грузовиков, которые затем перевезли к месту сборки демонтированные детали.
На месте, в прифронтовом лагере — городке, были распределены реставрированные машины по ротам. Танкисты радовались, осматривая и проверяя исправность и работу рычагов, рукояток управления. Только недовольно бурчавший Самохин, а с ним и молчаливый Моторный, с опущенными головами направились в землянку резерва. Их танк лежал на дне Ладожского озера.
Моторный, потягиваясь после сна на скрипучих нарах, смотрел на сидящего возле коптилки Самохина и недоумевал: тот вечером при свете той же коптилки разбирал какое-то письмо. И вот теперь, с утра пораньше опять уткнулся в густо исписанный листок из ученической тетради.
Некоторое время оба молчали. Однако чувствовалось, что Самохина так и подмывало поделиться своими заботами.
Выжидая, пока Моторный спросит, что за письмо в его руках, Самохин еще раз стал пробегать глазами ровные, каллиграфически выведенные строчки.
— Послушай-ка, Ваня, какое письмо я получил, — наконец, не выдержал он и стал читать с середины: — «До чего же больно от мыслей, что столько народа гибнет из-за проклятого фашиста! Вот и папа ушел на фронт, и сестры — Катя с Олей — обивают пороги военкомата, просятся в армию… Двоюродный брат Вася подрос, готовится не сегодня-завтра… У нас только и дум про вас, про ваш боевой экипаж. Крушите же своим танком гитлеровцев, родной мой. Пусть совесть ваша будет чиста от сознания того, что вы отдали все, что могли, за нашу землю! А если случится беда, не поддавайся страху… Не могу — слезы душат… Пусть любовь сестер охраняет тебя в бою. Мама крепко обнимает тебя и целует. Твоя сестра Даша”.
— Да-а… — пробормотал Моторный.
— Эх, Ваня, — сказал Самохин с горечью. — Не знают мои домашние, что не в экипаже, а в резерве, и не атакую врага в танке, а охраняю с тобою наблюдательный пункт комбрига, да отсыпаюсь в темном блиндаже.
— Может, и хорошо, что в тылу не все знают о нашей жизни.
— Моторный сполз с нар и начал обуваться. — Как думаешь, Саша, почему комбриг приказал нам ежедневно после наряда садиться в его танк и тренироваться?
— Чтобы за время несения службы в карауле мы не перестали быть танкистами.
— И я так думал. А почему сегодня комбриг приказал пригнать из ремонтной роты продырявленный трофейный танк и поставить его возле своей землянки в капонир, а КВ велел выдвинуть на дальную опушку леса и замаскировать?
Прибежал посыльный.
— Товарищ старшина, вас требует полковник.
— Наверно, сейчас, Ваня, все узнаю. — Самохин кинулся вслед за посыльным.
— Ну, как, Самохин, согрелся со своим механиком после ледяной ладожской ванны? — с улыбкой начал комбриг. Он сдвинул на столе в сторону какие-то бумаги, карту.
В блиндаже темнело. За окном, на низком небосклоне тускнели багровые краски заката.
Крупные черты лица полковника обозначились резче обычного.
Он заговорил торопливо:
— КВ, который стоял до сегодняшнего дня под моим окном, в озере не утонул, а Мотыльков на суше сигналит: «Сос!» Махнул на тридцатьчетверке в обход узла сопротивления противника и застрял в Сокольем Мху. Следом пошли другие машины. Теперь все сидят на днищах. От них только что прибежал политрук. — Комбриг показал на сидевшего у печки Гридина. Тот поднялся. — Сидите, — кивнул полковник. — Перед вами у меня был комсорг разведроты Троян. Просил, обосновывал… Хочет помочь старым сослуживцам. Что ж, согласен. Это по-комсомольски. Только, чур, не подкачать! Условия трудные. Весна наступает быстрее, чем наши танки. Итак, Гридин и Самохин, ваша задача… — Комбриг взял карандаш и придвинул к себе карту.
В мглистых сумерках пробивался рассвет.
Легкий весенний морозец. На земле поблескивали матово-запотелые зеркальца. Мутная дымка отползала в низины, в лес.
К замаскированному танку приближался политрук Гридин. Вновь сформированный экипаж КВ узнал своего командира и приготовился выслушать приказ.
Развернув на лобовой броне машины новую шуршащую карту, Гридин показал карандашом красную стрелу, которая рассекала зеленый массив, развилку дорог, поляну, очерченную коричневой линией, и упиралась в черные прямоугольники населенного пункта Дубовик.
Дороги, возвышенность и деревню очерчивала синяя линия — границы вражеского опорного пункта.
— Вот направление нашей атаки, — сообщил командир экипажа. — На пути, как видите, укрепленная высота…
… Под гусеницами КВ хрустит ледяная корка, валежник, мелкий березняк. Скрипнул колейный мостик — лесной проселок.
Танк останавливается перед завалом. Из-за кучи хвойных деревьев выросла тонкая фигурка лейтенанта-пехотинца в шинели и каске.
— Выход к передку разминирован, — услышали танкисты.
— Какие изменения произошли за ночь? — спросил Гридин.
— Во время разминирования мы понесли потери.
«Вас и было с гулькин нос», — подумал Гридин и нащупал на груди кнопку переговорного устройства.
— Что ж, матушка-пехота, откроете огонь, как мы ночью согласовали с вами, когда танк вырвется за жердевую изгородь. В поле от нас не отставать! — Щелкнув тумблером, приказал Моторному: — Правый поворот!..
КВ свернул на тропу, и тараном расширяя ее, углублялся в лес. Ветвистые вершины стройных деревьев, с шуршанием рассекая воздух, устремлялись к земле, будто подстреленные птицы. А тонкие стволы ломались и падали на корму машины. Лес огласился треском и гулом, будто через него пробирался могучий богатырь. Позади танка оставалась мощеная бревнами широкая колея.
Лес стал редеть. Вот уже просматривается возвышенность. Наконец, опушка.
Танк, будто подброшенный мощной пружиной, сломав жердевую изгородь, выскочил на простор и две-три минуты двигался беспрепятственно. Пехотинцы высыпали из темного выступа кустарника и побежали за машиной. Нестройная пальба затихала. Неужели противник отступил?
Отрезвление наступило внезапно. Выстрелов никто не слышал, а земля вокруг вздыбилась огнем, дымом, гарью. Пехота залегла. Черные гейзеры приближались к танку, обрушивая на броню тяжелый град. Башня зазвенела от сильного удара. Гридин уловил визгливый вой рикошета противотанкового снаряда и, прильнув к перископу, отдавал команды.
Самохин — командир орудия — чуть довернул ствол пушки в направлении клубов дыма. Подвел угольник прицела под основание вражеской вспышки и мгновенно нажал на электроспуск. Танк содрогнулся от выстрела, второго, третьего… В оглушительном грохоте танковой пушки, стуке пулемета потонули все остальные звуки.
Гридин корректировал огонь. Вон там, где сверкали вражеские выстрелы, снаряды КВ подняли в воздух вместе с черными облаками дыма какие-то обломки. В одном месте, в другом…
— Три вражеских орудия уничтожены, — доложил Самохин командиру экипажа.
— Так их, Саша!..
— По ходу прямо — четвертое орудие. Можно проутюжить? — раздался в наушниках голос Моторного.
— Дави! — Гридин пытался определить, откуда бил противник по левой стороне башни, и уловил два огонька на восточных склонах возвышенности. — Моторный, больше газу! На обломках фашистского орудия — левый поворот и — на высокий березовый заборчик!
На полном ходу танк проскочил траншеи, опрокинул нагромождение ящиков и стал то проваливаться в какие-то ямы, то взбираться на брустверы. С треском налетел он на противотанковое орудие. Моторный, сделав крутой разворот на огневой позиции, помчался на левый фланг.
В триплексе мелькнули группы гитлеровцев, торопившихся к деревне, под укрытие изб. Но добежать не успевали — падали, настигнутые пулями из двух танковых пулеметов.
Гридин, продолжая яростную охоту за противотанковыми орудиями, видел, как откатилось колесо от одного, клюнуло стволом в землю второе… Плавный поворот, быстрый рывок и танк устремился на правый фланг. Два выстрела с ходу, и третья пушка, подпрыгнув, опрокинулась набок. Четвертая со скрежетанием скрылась под гусеницами.
Танк развернулся. Взял курс на деревню.
Командир стрелковой роты доложил начальству:
— Зацепился за прерывистую линию вражеских окопов… Накапливаю силы для очередного броска. Танкисты уничтожили 8 противотанковых орудий, свыше 50 вражеских солдат и офицеров. Противотанковой обороны врага на подступах к Дубовику не существует.
КВ приближался к новой оборонительной линии противника.
— Объезжаю ящики со снарядами, — докладывал Моторный. — В аккурат держу на белые кругляки.
— Круши с налета!
Готовясь к излюбленному соколиному приему, Гридин позволил себе на минутку расслабиться и со вздохом опустился на сидение. Голова невольно откинулась назад, коснувшись броневой стенки башни. Мысленно он уже готовил себя встряхнуться, собрать силы, чтобы нацелить танк на таран по крайнему, самому массивному дзоту.
Но не успел.
Башня дернулась вбок, загудев тяжелым звоном. Гридин отпрянул от броневой стенки, свалился на днище, уткнувшись головой в сидение радиста-пулеметчика.
Троян обернулся, ощупал земляка.
— Вот несчастье, какое!.. Голову разбил. — И он предупредил Моторного: — Не останавливайся! Как бы второй не врезал в борт. Тогда хана.
Очевидно, крупнокалиберный снаряд угодил вблизи того места башни, к которому на мгновение прислонился Гридин. Броня выдержала, а танкист потерял сознание.
— Шишка. Крови нет. Могло быть хуже…
Эти три слова Троян повторял нередко с различными интонациями. На этот раз его голос звучал удручающе.
— Саша, командуй.
Тот, гремя пустыми гильзами, пробирался к боеукладке.
А Моторный точно расчитанным маневром осуществлял соколиный прием. С разгона таранив угол высокого дзота, разрушив его, и с грохотом переваливал через бревна наката и сруба.
Самохин мигом очутился на командирском сидении. В перископе — угол стены сруба. Из-за нее солдаты противника выкатывали орудие.
В наушниках шлемофонов звучал философически невозмутимый голос Моторного:
— Как тут не давануть? Не ждать же, чтобы фашист по КВ шарахнул. Саша, бей! Потом я завершу…
Механик-водитель прибавил скорость. Троян со звоном двинул снаряд в казенник. Самохин поймал цель треугольником прицела. Грохнула танковая пушка. Ударили два пулемета. Струи свинца и вихри осколков обрушились на вражеские позиции.
И за кормой танка, в тылу, с треском перекатывалось эхо. Это на рубеже, достигнутом советскими пехотинцами. Но расстояние между ними и тяжелым танком все увеличивалось. «Не сила», — сожалел командир-пехотинец.
— Троян, связь с командиром! — распорядился Самохин.
Радист завертел рукоятками танковой рации. Сквозь пощелкивание, треск, обрывки русских и немецких фраз еле пробивался знакомый позывной.
— Прошел «картошку» — то есть возвышенность, укрепленную двумя батареями противотанковых орудий противника; завязал бой за «серьгу» … — спешил доложить старшему начальнику обстановку исполняющий обязанности командира КВ старшина Самохин. — Экипаж…
Фразу оборвал сильный удар. Танк резко повело вправо, и он остановился.
— Снарядом, наверно, повреждена гусеница, — предположил Моторный.
Старшина Самохин крутнул башней вправо, разыскивая вражеское орудие. Одновременно сообщил по радио:
— Снаряд угодил в правую гусеницу. Ведем бой… Ах, вон, кто виновник… — Из-за сарая выполз фашистский танк, и ствол
второго. — Бронебойным!..
Загремели выстрелы из пушки КВ. Оттого, что откаты дергали машину, экипаж не заметил, как она начала медленно трогаться с места.
— Ура! — крикнул Троян. Фашист вспыхнул.
— Ура! — повторил Моторный. — Гусеница не совсем перебита. Один-два покореженные траки заедают, скрипят на соединениях.
— Не торчать на виду. Ползи потихоньку, — сказал Самохин. — Докладываю, — продолжил он передавать в эфир: — Вражеский танк подожжен, второй подбит. Наш сдвинулся с места…
По танковой башне зачастили новые удары. Наушники затихли.
— Товарищ старшина, связь нарушилась. Ищу неисправность.
— Отставить радиосвязь! Троян, — к курсовому пулемету, заряжай!.. Уничтожить пушкарей у противотанкового орудия возле сарая. Второе, за дорогой, мое. Короткая остановка!
Троян ударил из пулемета по гитлеровцам, которые перетаскивали боеприпасы к сараю.
— Есть! Две цели… И третья… — радовался он, видя, как враги с ящиками на плечах «споткнулись» о свинцовые вихорьки, как взметнулся возле угла сарая красный куст взрыва, потом еще один… Противотанковое орудие перевернулось, второе пробило стволом стенку сарая.
Моторный постепенно увеличивал скорость. КВ выходил к окраине деревни и оттуда принялся огнем и гусеницами «свертывать» оборону противника, то есть последовательно начал уничтожать, давить огневые точки.
Самохин, обеспокоенный тем, что не удавалось обнаружить вражеские пушки, которые били по танку откуда-то из-за укрытий, наугад прочесывал пулеметными очередями подозрительные кусты, приусадебные живые изгороди.
Противник, обороняясь, вызвал заградительный огонь глубинной артиллерии. Перед КВ выросла стена взрывов. Повторился сильный удар в правый борт. Танк остановился.
Зашевелился Гридин. Самохин наклонился к нему. Тот тихо и внятно произнес:
— Круговая оборона.
Перестрелка разгоралась с новой силой.
Троян докладывал Самохину, где рвались снаряды, где появлялись дымки выстрелов, стараясь отогнать назойливую мысль о тупике. А в голове, как назло: что произойдет, если враг возьмет верх? Прежде всего, подведем ленинградцев. И мама, родные, вряд ли узнают, что случилось на подступах к Дубовику, на юго-западном склоне возвышенности с отметкой 35,5, в излучине речки Чагода. И не увидеть больше Валю… Своих поблизости нет. Постой, постой, парень! Не раскисать! Друзья вот-вот нагрянут сюда и победят!..
— Есть попадание! — вскинулся он будто со сна.
Да, пятым снарядом Самохин разнес противотанковое орудие врага. Правому борту неподвижного КВ уже ничто не угрожало.
У экипажа, словно силы прибавились. Каждый убедился, что командир танка, хотя лишь в звании старшины, но правильно руководит боем.
День оказался удивительно коротким. Стрельба утихла. Танкисты убедились, что разорванную гусеницу КВ им не восстановить и начали всматриваться в смутные очертания дальнего леса. Но на изрытую снарядами возвышенность наползал туман.
Вдруг на танковой колее появились люди. Самохин смотрел из — под приподнятой крышки люка, стараясь определить свои или чужие?
Вырисовывался строй. Но у них шинели… Ну и что же? Перед наступлением началась замена полушубков на новые серые шинели. Однако по мере приближения форма становилась все темнее. Может, в окопах вымазались глиной? Экипаж так надеялся, что к ним идет помощь.
Но нет. Из тумана вырастали ненавистные грязно-зеленые шинели, короткие «шмайссеры». Враг.
— К оружию! — скомандовал Самохин. — Я бью из пулемета по — середине. Механики-водители режут по левому флангу. Радист — справа.
Затрещали выстрелы из двух пулеметов и автомата.
Гитлеровцы залегли. Видно, молчание танковой пушки их приободрило. Несколько раз они с криками кидались на машину, догадывались, что танкисты экономили боеприпасы. Пошли в ход гранаты.
И все-таки враг отступил. Так закончилась первая атака. Стемнело. Моторный подал голос:
— Осмотреть бы гусеницы, катки, оси.
— И перекусить не мешало бы. Или хотя бы попить, — неожиданно сказал младший механик-водитель.
— Лучше закурить, — тихо произнес Гридин.
— С последнего и начнем.
Самохин выскреб из карманов махорочную труху. В это время гитлеровцы с трех сторон бросились в атаку.
Очереди из танковых пулеметов и ППШ прижали врагов к земле. Но ненадолго. Атаки повторялись несколько раз. Небольшой группке удалось подползти к танку совсем близко.
Из темноты донесся чужой хрип:
— Рус, сдавайся. Плен… Давай, давай плен.
Спустя минуту, младший механик-водитель в унисон ответил:
— Айн момент.
Фашисты притихли. Не стреляли.
Помощник Моторного слегка приоткрыл люк и выбросил закрытую тряпкой снарядную гильзу со словами:
— Возьми, Курт. Плен.
На гильзу накинулись трое. А танкист их — гранатой.
— Это мальчишество, — возмутился Самохин, вынужденный застрочить из автомата по врагам,- может оставить нас без единого патрона.
— Терпимо, — тщательно целился Троян из пистолета. — Могло быть хуже.
На последний штурм гитлеровцы бросились при поддержке артиллерийского огня. Танкисты отвечали редко, экономя боеприпасы.
Радист время от времени копошился у рации. И эти усилия увенчались успехом — эфир отозвался.
Самохин раздумывал: не послать ли один из трех последних снарядов по той вражеской пушке, что появилась возле трех берез? Но почему враг не стреляет? Хочет взять КВ целым.
В это время у ног зашевелился контуженный Гридин. И удивительно: прозвучали слова, которые Самохин выразил приказом:
— Троян, немедленно сообщи вверх наши координаты. Проси по ним огня.
А враг, будто подслушав, поторопился открыть пальбу. Снаряды взвывали рикошетом то от лобовой брони, то от башенной.
Самохин с трудом доворачивал танковую пушку в сторону наиболее опасного врага — противотанкового орудия с левого борта. В тот момент, когда оставалось градусов 15, чтобы вывести оружие на направление цели, случилось самое страшное для неподвижной машины. Вражеский снаряд врезался под погон и башню заклинило. Теперь уже нельзя вести огонь вкруговую. И надежда на то, чтоб с наибольшей пользой израсходовать остаток боеприпасов рухнула.
Гитлеровцы догадались, что левый борт танка самый уязвимый, и они стали подбираться к нему.
Самохин переговорил с Гридиным. Потом взял автомат и приказал младшему механику-водителю:
— Снять курсовой и за мной! — Приоткрыв люк для выхода наружу, велел остальным: — Обороняться! А Трояну, кроме того, долбить по рации: «Дать срочно огня!».
И тут вблизи танка сверкнули мощные огни. Раздались оглушительные взрывы. Осколки, комья земли с шуршанием и звяканием посыпались на броню КВ.
— Братцы, честное слово, наши снаряды! — обрадовался Троян.
— По моим координатам.
— Проси стрелять безостановочно, — сказал Гридин.
Троян снял шлемофон.
— Опять ни приема, ни передачи. — Он принялся разбирать наушники. Но тщетно.
— Проверь контакты… Главное, с врагов клочья летят! — крикнул Самохин.
Артиллерийский налет резко оборвался. Моторный приподнял люк. И сразу захлопнул.
Никак фрицы под гусеницы взрывчатку подсовывают.
Самохин схватил гранату и потянулся к люку. Пауза. Секунд десять. Снаружи донесся нетвердый, сиповатый голосок:
— Рус, сдаемся. Немец капут.
— Брешете, сучьи выродки! — Самохин отстранил Моторного от люка, приноравливаясь метнуть гранату.
— Не горячись, Саша, — послышался голос Гридина.
— Яволь! — встряхнулась впереди танка длинная тень с поднятыми вверх руками.
— Плен. Камрад, возьми плен… — умоляло другое такое же привидение.
— Ага, ищете защиту от наших снарядов, — ответил Самохин и обернулся к Гридину: — Что с ними делать? — Посоветовался, затем опять придвинулся к люку: — Ладно. Момент… — и начал с трудом произносить немецкие слова, повторяя за Гридиным: -мол, сложить оружие на лобовой броне, а самим становиться в шеренгу по одному напротив курсового пулемета.
Фашисты пунктуально выполнили все требования. Слева от люка механика-водителя легли со слабым металлическим звоном семь автоматов. Такое же количество их бывших владельцев вытянулось перед пулеметом.
Самохин забрал трофеи и знаками растолковал пленным, как они должны вести круговое наблюдение и докладывать.
— Ну и ну! Фортель… — Моторный не сводил глаз с гитлеровцев, держа автомат на изготовку. — Обзавелись помошничками. — Потом озабоченно обратился к Самохину: — Все же лучше держать их подальше от гусениц. Не будем простофилями.
Самохин согласился.
Скомандовав пленным отойти в поле на 20 метров, он подтянул ремень, положил в карман гранату, взял в правую руку пистолет и помог Гридину встать на свое сидение. Сам передвинулся на место командира орудия и приподнял крышки башенных люков. Не высовываясь наружу, танкисты осматривали небо, вслушивались в ночь, вдыхая свежий воздух.
И Троян приблизился к люку механика-водителя.
Освежающим дыханием давал себя знать весенний ветерок. Однако нет-нет, да и проносилась волна горько-кисловатой гари.
Наконец, издали стал доноситься знакомый металлический скрежет с аккомпанементом мерного перестука.
Друзья, как по команде, шепотом произнесли:
— Ура!
Каждого танкиста волновала своеобразная походная музыка, которую напевала тридцатьчетверка своими гусеницами.
Троян еще резче почувствовал терпкие запахи северной весны. Ему даже показалось, что впереди, на пригорке, подернутом призрачными весенними испарениями, у подножья березок зашевелились светло-голубоватые цветки подснежников. А воображение приоткрыло картину из детства: на взгорье, перед лесопосадкой купаются в солнечных лучах фарфоровые цветочки-колокольчики, будто распространяя цветочный перезвон от холма к холму, извещая о начале возрождения жизни.
И Троян, очевидно, имея в виду подснежники, и отдаленное металлическое лопотание траков, воскликнул:
— Ребята! Свои!
Станция Войбокало. Село Шум. Шумский лес… Деревни Ратницы, Сирокасска, Путилово… — с чувством перечислял Троян. Эти места стали дорогими сердцу танкиста. — Никогда не забуду тот день, когда впервые увидел здешние леса, перелески, поля… Низкие облака будто опирались на столбы дымов. Пахло печеной картошкой, грибами и … тротилом.
— Тогда была осень, а теперь весна, — сказал Гридин, сворачивая с лесной тропинки на обочину. Под ногами хрустел валежник.
Остановились перед широкой поляной. На противоположной стороне виднелось оживленное шоссе, ведущее с Волховстроя к передовой. Правее оно пересекало железнодорожную линию Волховстрой — Мга — Ленинград. В углу, там, где перекрещивались прифронтовые магистрали, темнели избы Шума.
— На этом бойком месте все и началось …
Троян оглянулся, собираясь где-нибудь присесть.
— … тут и закончится, — хотел ты продолжить, с многозначительной ухмылкой дополнил Гридин. — Нет, Петро, пойдем. В движении лучше думается, говорится.
— Иногда полезно и приземлиться, — сказал Троян, имея в виду непоседливый характер друга детства. — Когда мы сюда приехали из-под Дубовика, я вон на том пне набросал Вале несколько строчек. Теперь сомневаюсь: дойдет ли письмо, потому что номер полевой почты дали мне в медсанбате с оговоркой: приблизительно. Но прозрачно намекнул Вале о месте возможной встречи.
Гридин остановился, будто во что-то уперся.
— Петро, ты в уме? А если твой треугольничек попадет в руки врага и намек будет расшифрован?! Не хватало накликать «юнкерсов» на свою голову. Сам знаешь, что они стремятся бомбить не «приблизительно», а точно.
— За кого меня принимаешь, Костя? Я и сам знаю и комсомольцам говорю о военной тайне. Маскировкой занимаюсь ежедневно. — Троян жестом показал на окрестности Шума, подернутые в низинах клочковатыми прядями предвечернего тумана. От них почти не отличались дымы, повисшие над рощами.
Со стороны — ничего особенного. Между тем, под защитой хвойных и лиственных деревьев размещались подразделения танковой бригады, недавно выведенные с переднего края. Танкисты за короткое время построили добротные срубы и землянки для жилья, хранения продовольствия, боеприпасов, горючего, укрытия для боевой техники.
Троян, осматривая лесные опушки, думал: «Щумские сосны и березы, вы надежно охраняете под своими кронами не только военные, но и сердечные тайны”.
Блиндаж Шум.
— Нет, Костя, мои намеки может понять только Валя, да, пожалуй, вон та сосна с половиной кроны. — Троян показал на северную окраину Шума, где одиноко высилось дерево-инвалид. — Эта сосна необычная… В тяжелые дни конца сорок первого, когда я с отделением разведчиков был временно откомандирован на усиление разведроты соседней танковой бригады, эта приметная сосна служила нам ориентиром и… За ней, вишь, мигнул семафор зеленым огоньком… Словом, эта сосна видела многое… — Троян не хотел добавлять: а главное — отвела руку смерти… Это звучало бы слишком высокопарно, что Гридину не понравилось бы. Трояну вспомнился дождливый сентябрьский день сорок первого…
… Разведрота разгрузилась на станции Волховстрой. А второй эшелон с танками на второй день прибыл в Войбокало. Встречали разведчики. Машины разгружали под завывание вражеских бомбардировщиков и грохот авиабомб, и прямо с платформ — в бой. Через Сирокасску, Путилово — на Апраксин Городок. Дальше — Синявино, занятое противником. Бои… Бои…
В конце октября выпал обильный снег. Под прикрытием снегопада они двинулись из-под Синявина обратно, в сторону Волховстроя. Танкисты не знали, что шли навстречу врагу, который форсировал Волхов в районе Киришей и пытался с Правобережья накинуть вторую петлю блокады Ленинграда. Миновав Шум, разведывательная рота бригады свернула в лес. Впервые привал продолжался семь часов. Друзья-разведчики Троян и Гридин только вышли из леса, как их остановили и подчеркнуто строго спросили пропуск. Они схватились было за оружие. Но это были девушки из соседней деревни Ратницы… Так Троян познакомился с «царевной-Волховой» Валей, спокойной и рассудительной девушкой. Ему и Гридину она показала фотокарточку сестры Любы, которая в то время где-то рыскала в поисках соли. Для Трояна ратницкая встреча не прошла бесследно. В его сердце остался образ Вали.
Когда в лютые декабрьские морозы Трояна откомандировали в соседнюю бригаду, он опять появился под Шумом. У местных жителей навел справки о Вале. Ему сказали, что девушки уже в армии, курсируют в санитарной летучке между Жихаревым и Волховстроем.
В то время противник, прорвав фронт, вышел по замерзшим болотам к Шумскому лесу. Вражеский передовой отряд наступал через совхоз «Красный Октябрь» по оврагу, который выводил к станции Войбокало. А дальше рукой подать — Ладога. Вырисовывался еще один вариант блокадной петли… Командир разведроты, завязав перестрелку с противником в овраге, отправил двух самых увертливых разведчиков с донесением к комбригу.
И вот Троян вместе с таким же, как он, «мелкорослым» и подвижным бойцом пополз по кювету вдоль шоссе Волховстрой — Синявино. Ориентир — одинокая сосна с роскошной кроной на северной окраине села. Перебежать на противоположную сторону не было никакой возможности: на проезжей части рявкали мины, вспархивали вихри от пулеметных очередей.
Напарник погиб, а Троян, не теряя из виду сосну-ориентир, стал пробираться кружным путем к наблюдательному пункту бригады. Переполз через переезд. Затем под прикрытием железнодорожной насыпи побежал. И когда достиг сосны, в изнеможении упал у ее подножья. Но тут над головой зашуршала мина, в густых ветвях запуталась и взорвалась, обдав разведчика обломками сучьев и снежной пылью. Он поднялся и двинулся дальше. Наткнулся на вагоны с красными крестами. Постучав в дверь, крикнул: «Уходите немедленно! Враг возле Шума». На мгновение открылась дверь, и Троян глазам своим не поверил, увидев Валю. «Нет паровоза. Доложите командованию», — сказала девушка. «Валечка, это я, Петро… Бегу к начальству”, и опрометью он бросился к массивному дому, где находился наблюдательный пункт танковой бригады.
Комбриг получил от разведчика сведения не только о противнике, но и о том, что в тупике санитарная летучка. Отдав необходимые распоряжения, полковник направился к танку. Трояну приказал: «Бегом к гравийному карьеру! Передай командиру третьего танкового батальона: ориентир — сосна… Пройти…» — назвал время.
После боя противник, оставив в шумском «Овраге смерти» несколько тысяч убитых, отступил к станции Погостье.
Троян прибежал на станцию Войбокало. И увидел сосну с покалеченной кроной, а за ней — зеленый огонь семафора. В сторону Волховстроя грохотал, затихая, санитарный поезд.
— Ты что онемел, Петро? — спросил Гридин, толкнув товарища в бок. — Оторвись, в конце — концов, от своей ненаглядной сосны.
— Если бы не ее густая крона, то сегодня ты без меня смотрел бы кино.
— Думать положено не о том, что было, а о том, что будет.
— Да, сегодня первый раз с начала войны мы смотрели кинофильм. «Концерт-вальс» будто переместил меня в какую-то сказку, — замедляя шаги, говорил Троян. — Во время сеанса я забыл, что существует Дубовик, передовая…
Они остановились на бруствере старого окопа.
На западе, над вершинами сосен темнели жидкие облака. Светло-синяя вечерняя даль прочерчивалась разноцветными огненными пунктирами, белыми полосами. Гул самолетов перекликался с ближними и дальними орудийными вздохами.
Гридин сказал назидательно:
— Увлекаешься, Петро.
— Перед войной мы не замечали и не ценили того, что имели, — продолжал Троян. — И только теперь…
— Куда ты поворачиваешь? К большаку, где начинается Ладожская «Дорога жизни”?
— Почти угадал.
— Тебя тянет показать тупик, в котором стояла санитарная летучка?
Троян, улыбаясь, кивнул:
— Вдруг она опять там.
На огненно — розовом разливе заката вырисовывалось станционное здание. Из-за него, как из туннеля, выскочил и прогромыхал на восток воинский состав.
— Из Жихарева на Волховстрой, без остановки. Магистраль живет, — обрадованно произнес Троян.
Друзья двинулись дальше. Один к себе, в разведроту, другой — в мотострелковый батальон.
Впереди, на железнодорожном переезде промелькнула тень.
— Мотыльков! Выдает себя хвостом искр из цигарки, — сказал
Троян.
— Да, кино смотрел с девушкой в серой шинели, а теперь махнул к местной, Тоне…
У сломанного шлагбаума они спустились с насыпи. Под ногами хрустела гравийная обочина. Возле старого окопа свернули на узкую тропинку.
— Что за чертовщина? — ругнулся Троян. — Чуть не расшиб лоб о какие-то кругляки.
— Это и есть моя лесная обитель. Обходи справа.
Скрипнула дверь. Из темного помещения пахнуло сыростью. Гридин зажег широкий фитиль гильзы-светильника и опустился на корточки возле печки, у охапки березовых дров.
Троян позвонил по телефону в бригадную разведку, и зябко подергивая плечами, доложил о своем местонахождении.
Здесь, на Волхове, болотной промозглой сыростью были пропитаны не только блиндажи, солома и лапник на нарах, вещи и книги, хлеб и обмундирование, но, казалось, и сам человек.
Потом Троян подсел к печке и стал священнодействовать: аккуратно снял с полена ножиком бересту, нащипал тонкие лучины. Заправил печку дровами. Чиркнул спичкой. Растопка вспыхнула, как порох. Березовая кора горела, скручиваясь в трубки, вздуваясь мелкими волдырями. Запахло скипидаром, дегтем. Пламя лизнуло ближайшие поленья, огибало, охватывало остальные. Быстрые, яркие световые блики разгоняли тени. Грубые, неотесанные бревенчатые стены, стол, две скамейки на кольях, вбитых в пол — вдруг словно ожили, повеселели. И въедливая болотная сырость устремилась в приоткрытую дверцу печки.
Гридин сел на сучковатый обрубок.
— Огонь — сила, с ним не поспоришь.
— У меня он вызывает восхищение. Без огня не было бы жизни, как и без воды. — Троян положил в печку тонкую чурочку, присев на корточки.
— Между прочим, я сохраняю твой очерк «На грани», — неожиданно сказал Гридин.
— Хотелось мне получше показать Самохина на Ладоге, среди льдов, воды и огня. Ты считаешь, что получилось?
— Не скромничай. Сам знаешь: газеты с твоим очерком были нарасхват.
— Надеюсь, скоро увидят свет «Подснежники». Продолжаю также писать и на интимную тему. На бумагу так и просятся стихи…
— Посвященные Вале?.. Смотри, Петро, не уподобляйся начальнику химслужбы нашего батальона. Химическое оружие не применяется вот он и корпит в блиндаже над задушевными виршами.
— Нет, Костя, за меня не бойся. Я, если уж пишу, то только по делу.
Стенки печки раскалились докрасна. Дымоходная труба заалела. В помещении стало жарко.
Троян расстегнул воротничок гимнастерки и шутливо предупредил:
— Не раскочегаривай, Костя, так яростно, иначе взлетим на воздух.
— Ч-черт! Машинально шурую. — Гридин закрыл печку. — А помнишь, Петро, как мы бегали к роднику в овраге, на речку?..
— Еще бы! — радостно воскликнул Троян и стал с удовольствием вспоминать такие теперь далекие и счастливые школьные года.
Весенний день. Тихий и с какой-то своеобразной грустью.
Гридин бродил в окрестностях Шума, изучая размещение подразделений, выведенных с передовой на отдых.
Из глубины рощи доносились голоса:
— Ну и эстакада! Боюсь дотронуться. А полуторка!.. Шик, блеск.
— Красавица! Не хватай своими замасленными ручищами.
— Вижу, все надраено, смазано, хоть на выставку…
— Она у меня любит уход, не то, что твоя обшарпанная лайба.
— Не тревожь сердце. Я в Сокольем Мху чуть не овдовел. Считай, на руках вынес ее. Зато потом она везла меня до самого Шума.
Гридин знал, что в роще бойцы автороты создавали парк транспортных машин. На огороженном березовыми жердями участке сосредоточивали, маскировали весь автотранспорт, который различными путями выбирался из района боев – Дружево — Дубовик — Липовик. Основную массу боевой техники и людей командиры подразделений направили к ближайшей станции Глажево. Там планировали погрузку на железнодорожные платформы. О месте разгрузки пока еще никто не знал.
Шоферы, которым удалось с неимоверными трудностями выбраться с машинами из заболоченного района речки Чагода, преодолеть труднейший путь по жердевым и бревенчатым гатям — лежневкам, — проложенным зимой через Соколий Мох и Тобинское болото, чувствовали себя под Шумом, как дома. Они оборудовали парк транспорта, сооружали приспособления для осмотра и ремонта машин.
— Пока батальон привязан к железной дороге, мы здесь ”позагораем», — негромко зевнул кто-то.
Беззаботность кое-кого из шоферов не понравилась Гридину. Он хотел вмешаться. Но будто услыхал упрек Трояна: «Не всегда к месту твои нравоучения». И призадумался. Вспомнил, что комиссар советовал ему, Гридину, отоспаться после передовой. Но неясно, почему он сам, комиссар, с утра «висел» на телефоне? Не произошла ли какая-то неприятность с железнодорожным эшелоном? В небе днем и ночью не стихал гул вражеских самолетов. Какой тут может быть сон? На новом месте не спалось. Вначале сруб в Шумском лесу показался уютнее санатория. Но на вторую ночь и глаз не сомкнул. Давила болотная сырость. Не раз выходил из сруба. Непривычно настораживали отсутствие близкой стрельбы, безмятежный покой, тихое звездное небо. И вдруг утром, чем-то взволнованный комиссар порекомендовал отоспаться.
Эти размышления привели Гридина… на перрон станции Войбокало. На глаза попался старик-железнодорожник с желтыми, прокуренными усами. Начинал с ним разговор Гридин издалека. Понимал, что сразу, с ходу, ему никто не даст справок о движении воинских эшелонов. И на мягко высказанную «сугубо личную озабоченность» услышал объяснение:
— Санитарная летучка уже давно здесь не была. А вот моя племянница из Ратницы работает в военном госпитале, недалеко отсюда, в сосновом бору. Говорит, что там есть медсестры из бывшей летучки.
«Выходит, я нечаянно попадаю на след Вали, Любы … — удивился Гридин. — Надо узнать подробности о них и ошеломить Петра…»
Справа послышался скрип тормозов, вмешался знакомый голос:
— О, ты здесь, Костя!
Гридин оглянулся. Из кабины полуторки выглядывало удивленное лицо комиссара мотострелкового батальона.
— Да, заскочил на минутку. Хотел лишний раз спросить…
— Ну и беспокойный же ты! Опережаешь меня, — перебил батальонный комиссар. — Я справлялся об эшелоне у военного коменданта станции. Не предвидится. Возникает предположение… Махну-ка через переезд, к старшему начальству. На обратном пути захвачу тебя. Впрочем, если не спится и не сидится на месте, прогуляйся пешочком напрямую к лагерю, через лесок, и выясни, что за новые соседи объявились справа от нас.
«Замотался старик. У него дел по горло, а я отвлекаюсь», — мысленно осудил себя Гридин.
— Не горюй, Костя. Выше голову! — торопливо проговорил комиссар и хлопнул дверцей.
Предположив, что назревают важные события, Гридин решил повидаться с Трояном. Бригадный разведчик, возможно, знает и кое-что об этих событиях, и о новых «соседях справа».
За спиной Гридина зарокотал мотор. И сразу стих. Звякнула жесть.
— Товарищ политрук, если вам в Сирокасску, садитесь, — вежливо обратился знакомый шофер, выгладывая из кабины высокого зеленого грузовика.
— Да, да! Мне к разведчикам, — обрадовался Гридин.
«И везет же нынче,- подумал он. — К добру ли все это?» И не заметил, как позади остались десять километров фронтовой дороги. На обочинах замелькали темные, покосившиеся строения Сирокасски.
Из-за стола поднялся щеголеватый писарь — с карандашом за ухом и пухлым «скоросшивателем» в руках — и тихо, бесстрастно проговорил:
— Все уехали. По тревоге. Спецзадание.
— Куда? На чем? Сержант Троян ничего не оставил для меня?
— Нет. А об остальном вам ли спрашивать? — сухо ответил безразличный канцелярист.
Гридин вышел на улицу. Перемахнул через деревянный забор. И двинулся огородами к лесу, над которым висели слоистые дымки.
В нехоженых густых зарослях пробивались из-под прошлогодней почерневшей листвы иголки молодой травы. Местами, освещенные солнечными лучами, они ярко зеленели. Остроконечные березовые листочки блестели, словно покрытые лаком. Вблизи раздавались птичьи голоса.
Вдруг послышался резкий шум и треск. Между деревьями промелькнула тень молодого лося. Как мог так беспечно появиться в шумских прифронтовых лесах этот красавец? Голод? Ищет свою пару?
Гридин свернул к тому месту, где проскочило животное. На ветке осины остался клок светло-серой шерсти, на почве — сбитые, смешанные со свежей землей прелые листья. Через несколько десятков метров слух поразил необычный для леса звук: шипение. «Не паровоз ли под парами? К фронту провели через лес еще одну железнодорожную ветку»? — теряясь в догадках, двинулся он на странные звуки.
В просветах между деревьями струился то ли пар, то ли дым. Запахло жареным луком. Еще несколько шагов. И на небольшой полянке показалась походная кухня. На ее ступеньке стояла девушка в белом поварском халате, с копной рыжих волос, слегка прикрытой пышным колпаком.
— Светы мои! — воскликнула она. — А я чаяла, что опять он. И струхнула малость.
— Если старый знакомый, то чего бояться? — сказал Гридин.
— Старый, но так тихо подкрадывается, будто первый раз, и не услышишь. Выдает себя только тогда, когда начинает есть. Лось.
Рядом затрещали сучья. Гридин обернулся. И удивился: из-за куста вышел ухмыляющийся Мотыльков.
— Ах, вон кто тут воркует, — произнес он тоном наигранного уличения в чем-то предосудительном.
— Фу, ты, шелопут. Нашел, где засаду устраивать, — отпарировал Гридин.
— Я-то — у себя. А тебя, Костя, какой леший занес в чужой огород?
— Оказывается, вы знакомы. Из одной части?.. Ладно, ладно, понимаю: военная тайна… — Девушка продолжала скороговоркой, выгораживая Гридина.
— Я забрел сюда случайно, по следу лося. А ты, Гера, намеренно.
Мотыльков продолжал развязно:
— Мы с Тосей старые знакомые. Ее имя давно впилось в меня. — Он оголил татуировку с рисунком на груди пронзенного стрелой сердца и надписью: ”Тося». Правой рукой попытался обнять повариху за талию.
— Не балуй! Руки… Бесстыдник. У тебя там и другие рисунки припасены. Пристал, как банный лист. Ты уже знаешь, что я этого не люблю. Не показывай перед товарищем свои фигли-мигли.
— Не узнаю тебя, Тося. Это ты перед ним? — кивнул Мотыльков на Гридина.
— За кого ты меня принимаешь?! — вспыхнула она. Затем украдкой скосила глаза на Гридина, чтобы узнать, как тот реагировал на перепалку. И, заметив, что Гридин собирался уходить, решила отправить и Мотылькова. — Бегите, проказники. Скоро сюда нагрянет мое начальство. А ты, Гера, не смей больше отпугивать моего лесного красавца-лося.
Из-за кустов послышались два споривших голоса: старческий, хриповатый и бойкий, молодой.
— Сюда идут начальница нашего прачечного отряда и ее заместитель, — определил Мотыльков. Эти слова вызвали на лице Гридина кислую гримасу: он понял, наконец, что за сосед справа объявился. Госпиталем или летучкой тут и не пахло. Мотыльков поторопился: — Уйдем, Костя, по добру по здорову. Я это начальство знаю — сварливое. — На ходу он бросил: — Тося, вечерком, на старом месте…
— Нет! Баста.
В пути Гридин суховато заметил старому сослуживцу:
— Выходит, Гера, на два фронта действуешь. И местная Тоня, и Тося…
Тот, поняв, о чем речь пойдет, перевел разговор на другую
тему.
— Небось, сам, хотя и в мотострелковом, но танковую форму не снимаешь — надеешься вернуться в экипаж. А по мне, так и в мотострелковом можно совершить подвиг. Вот поверни сегодня твой батальон на передовую, я сразу же попросился бы к тебе.
— Ну и ветрогон же ты, дружок!.. — начал Гридин.
В лесу послышался тревожный шум.
Они обменялись многозначительными взглядами и кинулись в свои подразделения.
Возле парка транспортных машин Гридин встретился с батальонным комиссаром.
— Ладно, ладно, Костя, не докладывай. Соседи нас больше не интересуют. Наш железнодорожный эшелон направлен не на станцию Войбокало, — комиссар снизил голос: — а на другой участок фронта. Мы срочно снимаемся из лагеря и отправляемся в путь. Надо успеть к разгрузке с платформ техники, боеприпасов… Уходим из танковой бригады. Берем с собою подкрепление — «безлошадных», то есть танкистов — добровольцев, не имеющих сейчас танков. Предстоит самостоятельно выполнять важную задачу.
Мотострелки с грустью посматривали на машины, остававшиеся в укрытиях, прощаясь с танкистами.
Мотыльков, понурив голову, виновато протянул руку Гридину.
— Значит, ты не в числе добровольцев. А петушился.
— Я хоть сию минуту… Но мой командир… Говорит, надо подождать Самохина и Моторного с отремонтированными танками…
Колонна транспортных машин вытянулась на правой стороне прифронтовой дороги, головою в тыл, к Волховстрою. Почему не в направлении передовой, где грохотала канонада, никто не знал.
Моросил дождь. Ветровые стекла затуманились.
Сигнал. Зарокотали моторы. Заклубились из-под кузовов выхлопные газы. Колеса застучали на выбоинах старого шоссе.
Ночью переправились на восточный берег Волхова. Потом началась длительная тряска по прибрежным, местами заболоченным проселкам.
Когда гул боя становился все явственнее, вдоль колонны прокатилась команда: «Проверить оружие. Приготовиться к спешиванию»!
Санпоезд останавливался даже на глухих разъездах.
И вот мимо вагонного окна проплыла вывеска: «Вологда”. Перрон бурлил народом.
— Будет переформировка состава, выгрузка легкораненых, — объявила женщина в белом халате. — Вон, к нам уже ковыляет пополнение.
Через минуту у дверей вагона послышались голоса:
— Здесь руки и ноги?
— Тута. Сюда пришкандыбаешь на костылях, а выйдешь на своих двоих. Едем долго, но докторица лечит быстро.
Новички — на костылях, с шинами, повязками на руках — занимали свободные места.
Невысокий коренастый человек, с рукой на перевязи, продолжал с увлечением рассказывать:
— … И вдруг вижу: обоих заволокло дымом — от взрывов мин и снарядов. Как только грохот стих, я кинулся искать командира. «Где капитан»? — кричу. Никто не ответил. Смотрю: комиссар опустился на колено и правой рукой приподнял голову комбата. Мне кивнул: «Посмотри в кустах, что там с комсоргом». Я быстро мотнулся туда — сюда, и наткнулся на человека у покореженного куста. Крикнул:
— Костя!
— Здесь, — ответил в вагоне негромкий голос.
Бойцы переглянулись. Рассказчик умолк, стал удивленно оглядывать раненых.
— Кто отозвался?
— Тот, кого ты звал, Яша, — донеслось из глубины вагона.
Коренастый, осторожно придерживая свою руку в гипсе, направился к раненым, что лежали на полках.
Через минуту раздался изумленный возглас:
— Вот это здорово! Как ты себя чувствуешь?
— Терпимо. А что у тебя с рукой? Мне раненые говорила, что когда ты с последней лодкой пустился вдогонку за мной, все было в порядке.
— Да. А потом что-то вдруг хрястнуло… Но это пустяки. Вот наш капитан Кирьяков… Кто хоть раз увидел капитана в бою, у того неизменно появляется стремление подражать ему. А ты, Костя, даже стал перенимать его походку. Однако и тебе не на шутку досталось в поясницу. Я перевязал. Смотрю, и лопатка кровит. Комиссар, как только я управился, приказал: «Товарищ Зеленков, под личную ответственность переправить на тот берег Гридина!» Ну, мы с Терновым на плащпалатке — к лодке, переплыли Волхов и передали тебя с рук в руки интенданту Сталевичу, благо медсанбат был рядом, в зарослях черемухи.
— Я все это плохо помню.
— Комиссар не покидал плацдарма, пока не увезли последнего раненого. Вечером зацепил и меня небольшой осколочек. Терновой перевязал.
— А как плацдарм?
— Удержали. К наградам многих представили, в том числе Кирьякова, Тернового, тебя.
Вспоминая бои, фронтовых товарищей, Зеленков взбил матрац, поправил Гридину повязки. Потом где-то раздобыл клюквенного морсу.
Дорога была длинной, утомительной.
Через много дней санитарный поезд остановился в Перми. Там его расформировали. Дальше большая группа раненых отправилась пароходом вниз по Каме.
Ночью друзья не могли отвести глаз от огней — никакой маскировки.
На рассвете любовались широкой, спокойной рекой.
После завтрака Гридин вздремнул. И тут же встрепенулся:
— Яша, неужели стреляют?
— И я слышал.
Кто-то из местных успокоил:
— Да это на заводском полигоне идет пристрелка.
Пароход, шлепая спицами колес, неторопливо приближался к
небольшой пристани.
— Оханск, разгрузка, — услыхали пассажиры и потянулись к сходням.
Путь в город открывался узкой и крутой деревянной лестницей.
Тяжелораненых несли санитары, пассажиры и встречавшие, толпившиеся на пристани.
Носилки Гридина подняли и понесли по лестнице два рыжебородых старика. Зеленков шел позади.
— Топеря вы, почитай, дома. Выздоравливайте, входите в тело, — сказал один из них, когда поставил носилки на землю. Он попытался по-военному козырнуть, но вышло карикатурно — растопыренные пальцы так и не дотянулись до малинового околыша выцветшей фуражки.
Второй, в кожаной кепке, покряхтывая, нагнулся, сдвинул носилки к обрывистому берегу, чтоб ранений мог видеть окраину городка и реку. Выпрямился и, поглаживая бороду, залюбовался долиной Камы.
— Какое тихое многоводье!..
— Дедко, по нонешнему времию не больно прохлаждайси. Пойдем, надо быть, вниз. Побегаем маненечко по лестнице взад — вперед, — предложил тоном старшего носильщик в фуражке. Сам он себя, видимо не считал стариком и держался нарочито прямо, отбрасывая густую бороду от груди вперед, словно она ему мешала.
Зеленков бережно поднял голову друга.
Гридин увидел яркие цветы на клумбах, а там, дальше, за ширью реки — зеленые холмы, леса, рощи.
К носилкам подошли две девушки и отрекомендовались:
— Медсестры госпиталя.
Зеленков, тщательно подбирая слова, начал:
— Красивая природа и такие сестрички уже сами по себе целительный бальзам.
Черноволосая медсестра в белоснежном халате пожала плечами: мол, неоригинально заигрываете, и с напускной строгостью сказала:
— Тому, кто надеется поразвлечься на берегах Камы, я бы посоветовала: оставить свои намерения.
— А скажите девушки своему коллеге, не получал ли ваш госпиталь пополнение с Волги, например, из Куйбышева? — Зеленков многозначительно посмотрел на Гридина.
— Нет.
— Жаль. — Но ободряюще подмигнул другу: веселее, и эти девушки хороши.
Вторая медсестра — русая, в ярко-цветистом платье — шагнула к ногам Гридина. Не глядя на него, наклонилась и взялась за ручки носилок.
Брюнетка подошла к изголовью, подчеркнуто — строго скомандовав:
— Люся, внимание! Шагом марш. Раз, два…
Обе выпрямились и двинулись по набережной, слегка покачивая носилками, в такт шагам.
Зеленков сбоку здоровой рукой поддерживал носилочный брезент, ослабляя толчки.
— Стараюсь как-то помочь вам, Люся, — сказал он лишь бы произнести понравившееся имя.
— Вы идете рядом с Мариной. Значит, больше помогаете ей, а не мне, — просто рассмеялась та и оглянулась на подругу.
— Хочется обеим помочь. — Зеленков хватался то за брезент, то за одну из ручек носилок. — Физически ненатренированным девушкам да с такими редкими и красивыми именами не тяжести носить…
— Не надо. Не мешайте, — прервала Марина.
Перед Гридиным тихо и плавно двигалась Люся, стройная, не заслоняя тропинку. А сзади, почти над головой, слышалось дыхание ее подруги — прерывистое, напряженное. Ему казалось, что Марина с усилием подавляет в себе волнение и что будто он с ней где-то встречался.
Зеленков — охотник поговорить, пошутить — молчал. Только после длительной паузы, невнятно промямлил:
— Костя, тебя ничего не беспокоит?
— Нет.
Марина, замедлив шаг, чуть скосила глазами в сторону Зеленкова, будто намереваясь что-то сказать.
В это время мимо них с шумом и смехом пробежали с носилками гривастый мужчина неопределенных лет и рослая девушка. Слегка задев локоть Зеленкова, они выскочили на дорожку со своим раненым.
— Эй вы, неразлучные подружки, почему так тихо бредете, точно молоко везете? Больше жизни. Чай встретили, а не провожаете, — беззаботно бросила на ходу девушка.
— Стеша, допрыгаешься! — вдогонку крикнула Марина.
— Не мост ли впереди виднеется? — спросил Зеленков.
— Через глубокий овраг перекинуты доски, которые с правой стороны немного скреплены жердями, — ответила Марина. Затем участливо добавила: — Смотрите, смотрите, шумливая пара летит прямо на жерди.
Ветхий мостик скрипел и качался под ногами гривастого и Стеши.
Люся осторожно ступала на шаткие доски. Ноги Гридина то и дело резко приподнимались и опускались. Впереди плыло цветистое платье, от которого рябило в глазах.
За оврагом медсестры сошли на обочину тропинки и остановились отдохнуть. Ну вот, самое опасное место позади, — сказала Марина, обмахиваясь платочком.
— Ты еще сил после блокады не набралась, — просто заметила
Люся.
— К чему эти подробности, — возразила с сердцем Марина.
— А почему это надо скрывать? — вставил Зеленков. — Но вы родом с юга, а приехали сюда из осажденного Ленинграда.
— Как вы узнали, что я южанка? — удивилась Марина.
— Вас выдает говор, и еще что-то неуловимое. Впрочем, я ваш земляк, да, пожалуй, и Костя.
— Вон как. — На мгновение в ее взгляде мелькнула некая заинтересованность. — Я эвакуировалась, — вздохнула она так, словно это событие произошло очень давно, и впервые посмотрела собеседнику в лицо.
— Разрешите представиться: санинструктор Яша Зеленков. Рекомендую друга: Костя Гридин, бывший студент, одессит. А вы кто?
— Я?.. Да и я студентка, из медицинского, — ответила Марина и мельком взглянула на раненого. — А моя подружка местная, из Перми.
Люся зарделась и застенчиво протянула руку Зеленкову, затем Гридину.
— Почему жарите на солнце больного? — услышали медсестры рядом строгий голос. — Малинина, опять не по форме одета… Чем так увлеклись, что меня не слышите?
— Земляка встретила, Вера Васильевна, — ответила Марина, кивнув в сторону Зеленкова.
— Будет время. Наговоритесь.
— Наша врач. Душевная женщина, но любит порядок. — Марина становилась разговорчивой. — Представьте себе, Яша… — и она будто нечаянно встретилась глазами с Костей, — моя мама почти ежедневно приходит в госпиталь. Ей все не верится, что я уже взрослая, что забочусь о раненых. Она несказанно благодарна бойцам, которые всю многодневную зимнюю дорогу из осажденного Ленинграда до станции Жихарево делились с нами сухарями, сахаром…
— Вы были в Жихареве? — заинтересовался Гридин. — Вот мы с Яшей участвовали в обороне этой станции.
Марина, тронутая новостью, улыбнулась раненым:
— Какое совпадение! Жихарево запомнилось… Фашистские самолеты бомбили санитарный поезд, расстреливали женщин и детей из пулеметов.
— Наверно, и Костя отражал налет, — заметил Зеленков. — Он с группой бойцов не раз сопровождал на станцию для отправки в тыл ленинградских женщин и детей.
— Вы танкист? — живо спросила Марина, внимательно посмотрев на Гридина. — Командир или штабник?
— Теперь всего лишь раненый, — ответил он.
Медсестры прошли в открытые ворота, где возле приемного отделения госпиталя уже сгрудились раненые.
Гридин с облегчением вздохнул: наконец-то закончились изнурительные мытарства по дорогам. И надо же — рвался на Левобережье Волхова, а очутился на Правобережьи Камы.
Гридин, дожидаясь, пока его отнесут в палату, вспоминал события, происходившие на подступах к Волховстрою.
В конце мая сорок второго они опять по тревоге двинулись к задымленным берегам широкой реки, вдоль лесистых берегов, которой перекатывалось эхо артиллерийской канонады.
Прошло семь месяцев с тех пор, как началось фашистское нашествие на Приволховье. Тогда, в октябре сорок первого, танкисты и мотострелки спешно двинулись из-под Синявина навстречу прорвавшемуся врагу.
Прошли трудные времена зимних морозов и вьюг, весенней распутицы, но бои на волховской земле стали еще более ожесточенными.
Колонна мотострелкового батальона оставила позади речку Сестру, деревню Заречье, которые были рубежами встречи с врагом. На бывшем поле боя, среди ржавых и обгорелых остатков техники, зеленела молодая трава, оживали покалеченные деревья. А долиною Волхова тянуло гарью войны. С юго-запада доносилась артиллерийская канонада, гул самолетов. Люди тревожно поглядывали вверх.
Мотоколонна остановилась. Редколесье вблизи лежневки изрыто воронками. Прозвучала команда: «Спешиться! В укрытия!» В пути такие остановки уже бывали не раз.
Пока подходили отставшие машины, Гридин пошел по лесной тропинке к опушке. Увидев невысокую сосну с уцелевшими двумя — тремя кряжистыми ответвлениями, взобрался на изогнутый сук.
Впереди, меж обглоданными войной березками, блеснула река шириною не менее четырехсот метров. Противоположный берег — темный, покрытый смешанным лесом. Над ним стелились дымы. Эхо доносило замирающие звуки недалекого боя. В пути, перед объявлением привала, начальник штаба говорил, что где-то в этом районе стрелковая часть, переправившаяся на Левобережье, из последних сил отбивается от врага. Может, из-за реки доносились отзвуки рокового боя?
Рядом грохнул снаряд. Сосну так качнуло, что Гридин поспешил спуститься на землю.
Развернув топографическую карту, он определил, что у них за спиной остался крупный населенный пункт Оскуй. Справа дымились Кириши — единственный на Правобережье вражеский узел сопротивления. Его противник укрепил еще зимой, приспособив для обороны кирпичные строения, которые полукольцом окаймляли железнодорожный мост через Волхов. Напротив, на Левобережье, в десяти километрах от Волхова — вершина вклинения советских войск в оборону противника.
А вот и печально известные деревни Березовик, Липовик, Дубовик, под которыми мотострелковому батальону, вместе с другими подразделениями, не удалось с северо-запада отрезать киришскую группировку врага. Неделю назад мотострелки, передав позиции соседям — пехотинцам, — кружным путем прибыли на Правобережье. Если бы не лес, то отсюда, с правого берега был бы виден в бинокль Березовик. Похоже, что форсированием Волхова и ударом на Березовик, можно отрезать Киришский выступ и открыть подвоз всего необходимого для войск по железной дороге с Большой Земли на станцию Кириши и дальше в сторону разъезда Жарок, станций Погостье, Малукса… В конечном счете, это облегчило бы прорыв блокады Ленинграда.
Гридину не было известно, что ликвидация Киришского выступа, расширение плацдарма стрелковой части на Левобережье к тому же значительно облегчило бы положение советских войск, действовавших в районе Мясного Бора, Финева Лога.
Он представлял себе, как было нелегко командованию отрывать от танковой бригады и прикомандировывать к пехоте мотострелковый батальон, в котором немало было танковых специалистов.
Его размышления прервал снаряд, грохнувший рядом. Гридин упал на бруствер старого окопа. Над прибрежными деревьями оседала пепельно-бурая пыль. Видно, второй снаряд врезался в крутой берег Волхова. Гридин поднялся и поспешил туда, откуда слышался оживленный говор.
Тропинка, петляя, вывела к изрытым окопами зарослям, где располагался взвод управления батальона — связисты, посыльные…
На бруствере сидели бойцы, обсуждая проблемы второго фронта.
— Консервированная тушонка — вот и весь «второй фронт». У капиталистов бизнес на первом плане…
Гридин узнал голос санинструктора Яши Зеленкова. Подошел к нему.
Тот копался в сумке с красным крестом.
— Вот, все-таки нашел! — сказал Зеленков и протянул Гридину книгу без начала и без конца. — На станции Волховстрой я спросил земляка из железнодорожной комендатуры, куда путь держал наш эшелон. Так он вместо ответа дал мне эту книжку. Откройте ее там, где заложена клюквенная веточка.
— Видать, твой земляк — поэт с юморком, — говорил Гридин, листая истрепанный, с замасленными краями томик стихов. Под слежавшимися зелеными листочками краснела засохшая сплюснутая ягодка.
— Догадываетесь? — значительно произнес Зеленков. — Едем туда, где придется не слаще, чем вкус этой ягоды. И второй намек: клюква — вечнозеленое растение, даже в этом, северном краю она не боится морозов; значит и мы выстоим, победим.
— Да, мудреные подсказки. Неясно главное — на какой конкретно участок фронта путь держим? Ведь в Приволховье, где мхи, там и клюква.
Гридин сдвинул в сторону спрессованную ветку и на красноватом фоне клюквенного пятна прочел:
Приветствую тебя, воинственных славян
Святая: колыбель…
— Скажи мне Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?
А внизу, под номером страницы — строчка мелким шрифтом: «Лермонтов. Избранное».
— Вот видите! — сказал Зеленков, воспользовавшись паузой. — Намек на то, что нам предстоит приветствовать Новгород.
— Произвольно ты, Яша, расшифровываешь, — заметил Гридин.
— До Новгорода еще добрых восемьдесят километров, а мы уже оставили и железную дорогу и прифронтовую рокаду и проселками подошли к Волхову. Не водным же путем, под носом у противника, будем продолжать двигаться к «Святой колыбели”?
Связист, зачищавший ножиком контакты телефонного аппарата, поднял голову и сказал:
— Мне кажется, что Яшин земляк подсказал нам не только направление маршрута, но и выразил уверенность, что седой Волхов еще тряхнет стариной. Вспомните Буслаева, Садко…
«Война, конечно мало подходящее место для увлечения поэзией, историей, — подумал Гридин. — Но все-таки и это, при случае, помогает поддерживать высокий боевой дух. Сами бойцы подсказывают, какие напрашиваются темы для бесед с ними”, — и он стал читать стихи, отмеченные в книге различными карандашами.
— «Люблю отчизну я…» — зазвучало стихотворение «Родина».
— «Да, были люди в наше время…» — слова из «Бородина».
— Может, и о сегодняшних волховских делах скажут: «Ведь были ж схватки боевые. Да, говорят, еще какие…» — с подъемом произнес Яша Зеленков.
Облик каждого бойца как бы говорил: понятно, сердцу советского человека очень дороги просторы Родины — леса и поля, грибные угодья и клюквенные кочкарники; но здесь мы, прежде всего, бьемся за детище Ленина — Волховскую ГЭС, за город Ленина…
Из-за ветвей рябины появились двое: капитан Кирьяков и лейтенант-пехотинец — из местной стрелковой части. Видно было, что пехотинец на ходу вводил в курс дела командира мотострелкового батальона.
— Воспользуемся затишьем, и не будем ждать всех людей — и лодок маловато — начнем переправу, — рубил комбат капитан Кирьяков в такт шагам. Увидев Гридина, обрадовался: — А, комсомол, я те дам… Включай свой актив в состав авангарда и без шума сматывайся к реке. Там разведчик Терновой возглавляет речной транспорт. Проследи, чтобы люди брали с собой только боеприпасы. А я сейчас, следом…
Через несколько минут командование батальона и бойцы взвода управления сосредоточились в густом лозняке.
Терновой, вычерпывая воду из лодки, негромко сказал Гридину:
— Под Синявином вы не дали мне утонуть в болоте, а здесь я переправлю вас на тот берег, ног не замочите. Сержант Троян — он с разведчиками на правом фланге — говорит, что я стал настоящим начальником переправы.
— Довольно черпать. Садись! Комсомол, прибереги на корме местечко для меня, — задорно подморгнул Кирьяков в сторону западного берега. — Сейчас, как лебеди скользнем. Река — чистое зеркало. А там, в зеленом тенечке, отдохнем на славу.
Никто не ответил. Все представляли себе, о каком «отдыхе” шла речь.
Комбат, поглядывая вверх, как-то озорно, по-мальчишески торопил бойцов. Небосклон, багровея, постепенно мрачнел.
На широкую поверхность реки тяжело падало с запада темное отражение леса. С багровыми переливами горела вода в тех местах, куда не доставали мрачные тени.
Волхов напоминал утомившегося былинного богатыря, который отдыхая, готовился к чему-то грозному, таинственно -неожиданному. Ведь захватчики еще не полностью изгнаны из Киришей и продолжали хозяйничать на землях Левобережья.
Лодки отделились от лозняка, вышли на широкую гладь и врезались в черные, зубчатые тени. Только слабый скрип уключин и легкий плеск весел нарушали напряженную тишину. Восточный берег удалялся.
Они достигли противоположного берега прежде, чем из враждебно-угрюмой западной глубины леса послышался зловещий гул.
— Опоздали, — с удовлетворением произнес Кирьяков. Бойцы увидели на его лице до странности торжествующую улыбку. Он отрывисто скомандовал: — Прыгай в воду! Бегом в лес! Справа осторожнее, не задеть своих.
Дно лодки зашуршало о речной песок. Бойцы, нагруженные оружием, боеприпасами, военным имуществом, попытались было напрямую выбраться на твердый грунт, но комбат повернул их вправо и приказал углубляться в лес по дну илистого оврага.
Над головами раздался свист, а на воде поднялись белые фонтаны. Снопы водяных искр рассыпались веерами, подпираемые снизу черными, рваными столбами ила. В воздухе завыли осколки. Невидимая смерть с треском вламывалась в кусты, прошивала ветви деревьев, вгрызалась в намывную косу.
Берег вмиг опустел. Те, кто был на веслах, распластались под бортами лодок. Кирьяков, стоя, давал указания Терновому. Оба — высокие, крепкие — будто бросали вызов треску снарядов.
— Весь свой караван ”судов» гони обратно. И чтоб люди были целы, я те дам… Да сам не торчи, как аист. Марш в укрытие!
— Разрешите из реки прихватить на ужин глушоного леща?
— Не разрешаю. Приказываю кататься с ветерком через Волхов взад-вперед до тех пор, пока не перевезешь весь батальон.
Как только бойцы первой мотострелковой роты ступили на западный берег и установили контакт с немногочисленным подразделением пехотинцев, началось наступление.
— Здесь нет четкой линии фронта, — информировал Кирьякова командир стрелковой роты. — В лесу бродят группы гитлеровцев и наших. Так что надо разобраться.
— Ясно. Орлы! Отхватить плацдарм как можно глубже и шире! Комсомол, вперед! — распорядился комбат. — Связисты, встречайте мотострелков, которые будут прибывать с восточного берега, и направляйте их вслед за нами.
Лес огласился ружейно-пулеметной пальбой. Вначале трудно было сориентироваться, кто и откуда стрелял. Пули взвизгивали то слева, то справа, то сзади. Падали сбитые сучья, откалывались от деревьев щепки.
К ветвистой сосенке прибежал капитан Кирьяков. И сразу поправил Гридина:
— Уклоняешься, брат, влево. Махнем вон под расщепленное дерево.- Показав рукой вправо, капитан добавил: — Надо учитывать тактику врага. Вишь, норовит переть сплошной цепью, по уставу, в центре офицер в фуражке. — Во время перебежек Кирьяков уточнял: — Офицер отстает… Где? Смотри… — и он залег на новом рубеже. Трасса автоматной очереди устремилась под основание молодых елок.
Возбужденная веселость Кирьякова передавалась Гридину. Все казалось элементарно. Никаких неожиданностей. Комбат удивительно все знает и действует уверенно. И бойцы наступали.
Вдруг — заминка. Людей прижал к земле огонь невидимого врага.
Сейчас все прояснится. — И капитан Кирьяков метнул гранату в баррикаду из сваленных деревьев, над которыми поднимались сизые дымки выстрелов. Он тут же сам кинулся к тому месту, где еще не рассеялся дым от взрыва. — Здесь мой НП, — объявил комбат, взбираясь на кучу бревен. Эхо взрыва еще одной гранаты прокатилось над лесом. Затем с возвышения баррикады застучали длинные очереди командирского автомата ППШ.
— Ребята, мы должны быть впереди наблюдательного пункта комбата, — крикнул Гридин. — Перебежками на расщепленную сосну, за мной!
Бойцы обошли баррикаду, углубляясь в лес. Гридин оглянулся на треск сучьев и удивился:
— Товарищ капитан, и вы тут. Будто нам не доверяете. Разрешите молодежи самостоятельно продвинуться вперед от вашего НП на уставную дистанцию.
— Не возражаю. Но и мой НП — в движении.
Комбат решил перемещать свой НП скачками, вслед за передовой линией бойцов. А на месте бывшей баррикады противника приказал начальнику штаба создать командный пункт батальона, установить телефон, наладить связь с ротами и начальством.
Мотострелки настойчиво разрывали боевой порядок противника — цепь. В зарослях замелькали темно-зеленые сгорбленные фигуры гитлеровцев в касках, показалась офицерская фуражка с березовыми листочками на околыше. Офицер торопил подчиненных.
Гридин, прижавшись к шершавой коре ели, ударил по ним. Лес так грохотал стрельбой, что ответных выстрелов нельзя было различить. Сменил позицию. Еще и еще раз нажал на спусковой крючок автомата. Впереди, совсем близко, брызнули с наклоненного к земле дерева белые щепки, а из-за него поднялась голова комиссара батальона.
— Костя, поаккуратнее, свет мой. Я к тебе на выручку, а ты в меня палишь.
— Виноват… Но там был офицер.
— Срезал ты офицера, а я — тех, что спешили на подмогу.
— Не шастать впереди стволов, — вмешался Кирьяков.
— Костя! берегись слева! — предупредил комиссар. — Сейчас чесанет.
У высокого пня шевельнулся человек в фуражке с высокой тульей. Двое в пилотках выглядывали из-за поваленного дерева.
— Кусты с отблеском металла мои. Пулеметчик под сухой елью твой… — ориентировал командир батальона.
— Аглушевич, вон тех кроши, — невольно подражал Гридин интонации комбата Кирьякова и торопливо бил из автомата по силуэтам с кожаными ранцами за плечами, перебегавшими от дерева к дереву.
Под вечер батальон натолкнулся на прерывистую линию обороны: дзоты, завалы из бревен, жердей, хвороста. Враг простреливал подступы к ним перекрестным огнем.
— Мы прошли всего семьсот метров, — сказал капитан Кирьяков. — Мало. Чтобы взять больше, надо подтянуть силы. Окапывайся! Одновременно разведать, изучить, что творится слева, справа.
Бойцы приступили к укреплению захваченного рубежа.
Лодки с арьергардом батальона причалили к западному берегу, когда над Волховом поднялась луна и вражеские снаряды разбрасывали по зеркалу реки каскады воды, разрывали золотую лунную дорожку, сверкающие осколки которой опять заполняли разрывы.
Капитан Кирьяков во всеуслышание объявил:
— Теперь, братцы, на сухопутье нам водный транспорт ни к чему. Все лодки отправить на восточный берег.
Комиссар батальона, скручивая большую цигарку желтыми, огрубевшими пальцами, добавил:
— «Каждый должен твердо знать: назад нам пути нет! И речи не может быть, что в случае неудачи можно было бы вернуться на восточный берег.
Капитан Кирьяков направился с командирами рот на рекогносцировку. Каждому подразделению был определен участок на переднем крае, который предстояло укрепить в течение ночи с тем, чтобы, утром, если потребуется, и отстоять захваченный рубеж, и возобновить наступление.
Командир мотострелковой роты — старший лейтенант с забинтованной головой — сетовал:
— На моем участке раз копнешь и вода, а на карте — возвышенность.
— Радуйтесь. Вы — в центре боевого порядка батальона. Соседи будут бегать к вам утолять жажду, когда станет жарко. Завтра, может, с раннего утра начнется… — сказал начальник штаба батальона старший лейтенант Рябинин. Ковырнув носком сапога землю, серьезно пробасил: — Болото всюду. Поэтому надо срочно сооружать наземные дзоты. Строительного материала — по горло. Инженер, покажи, с чего начинать.
Ужинали поздно. Ординарец капитана Кирьякова сварил уху. И сразу был вызван рядовой Терновой. Тот прибежал и вытянулся перед комбатом, как жердь.
— Не моя вина, товарищ капитан. Рыба сама лезла в руки… А я, как вы приказывали, только то и делал, что катался на лодочке от берега к берегу.
— Заправляй арапа. Фашист глушил, а ты подбирал. Напару, значит… Попадет тебе от местных остряков.
— Я думаю, товарищ капитан, что этого разведчика не случайно сплавили из бригады к нам, — вмешался писарь хозчасти. — Хватал глушоного леща без всякой ответственности, осторожности и страха. Видно, притупились все чувства…
— А чтоб восстановить их, всем отдыхать! — неожиданно распорядился Кирьяков. — А я прогуляюсь, — и направился в сторону первой роты. Ординарцу, кинувшемуся сопровождать, приказал: — Отставить! Спать!
Гридин лежал на гладком, холодном столе, понимая, что скоро его наверняка усыпят.
Время в операционной будто остановилось. Но вот он ощутил над своим распростертым телом легкое движение прохладного воздуха. Это кто-то снял покрывало. Слышались негромкие шаги, позвякивания металлических инструментов, сдержанные перешептывания. Казалось, он чувствовал на себе чужие взгляды. Кожа между лопатками невольно подергивалась. И он робко сказал:
— Доктор, нельзя ли прикрыть меня? Знобит. — И тут же понял, что сказал нелепость.
Тем не менее, хирург велела медсестре накрыть больного простынью. Затем переговорила с ассистентом. И тот обратился к Гридину:
— Что ж, больной, будем освобождаться от лишнего металла под местной анестезией?
— Готов с наркозом и без него. — После паузы Гридин добавил: — Вам виднее.
Над ухом послышалось едва уловимое, теплое дыхание:
Все будет хорошо. — Женщина-врач, выждав несколько секунд, громко потребовала: — Марина, шприц!..
Гридин с досадой подумал: и надо же случиться так, чтоб Марина оказалась операционной медсестрой, а Люся — палатной. Была бы возможность, встал бы и сбежал.
У изголовья пахнуло легким свежим запахом ромашки. И он догадался: подошла Марина. Она что-то прошептала. Он не расслышал.
К действительности вернула негромкая, подозрительно -хлопотливая возня вокруг стола.
— Ну вот, еще один укол,- заметила врач будто мимоходом. Ударение на последнем слове, явно предназначенное для слуха оперируемого, особенно насторожило. Следом — резкая боль.
— Тут, пожалуй, не шприц, а скальпель.
А в ушах продолжал звучать шепот Марины.
Между тем, врач вовсю орудовала хирургическими инструментами. И он мысленно требовал от себя: не вздрагивай! Не крикни!..
Вдруг опять резанула нестерпимая боль. Что-то с металлическим звоном упало в таз.
Пот заливал глаза. Стиснул зубы и услышал скрежет.
— Глубоко засел осколочек, — разобрал он слова врача.
Что-то передвигали, что-то звенело. Из коротких реплик до Гридина дошло только одно слово — «маска”.
Врач наклонилась к нему и негромко сказала:
— Теперь все просто. Удалим металл так, что и не услышите.
Марина накрыла ему рот большой влажной марлей — запахло эфиром. Попросив глубоко дышать, добавила:
— Считайте…
Гридин очнулся на своей койке. Попробовал шевельнуться и почувствовал боль во всем теле.
— Что вы со мной сделали? — пробормотал он. — До операции чувствовал себя почти здоровым. Теперь головы не повернуть.
Перед ним стояли Люся и Марина.
— Посмотрите, от чего освободились. — Марина поднесла к его глазам ладонь, на которой лежали черные осколки.
Выздоровление шло быстро. Через несколько дней Гридин уже помогал комсоргу госпиталя Люсе Малининой готовить беседу о событиях на фронтах Великой Отечественной войны.
— Обычно перед началом беседы прошу раненых не задавать мне вопросов, — призналась Люся.
— Почему? Наоборот, надо пересыпать свою речь вопросами и ответами. Беседа получится живой, непринужденной. Давайте первое занятие проведем вместе. Затем материал повторите в другой палате самостоятельно.
Она впервые задержала свой взгляд дольше обычного на его оживленных светло-коричневых глазах.
— Я только могу решиться говорить перед чужими, а чтоб вы… — Люся резко оборвала фразу и густо покраснела.
— Хорошо. Повесьте географическую карту возле моей койки. Сегодня я выступлю с вашей темой. Послушаете. Выскажете свои замечания. Обсудим их. Потом с учетом моего опыта продолжите занятия в других палатах. Вы мне поможете — лежа я не могу водить указкой по карте.
В этот день он утомленный уснул задолго до отбоя. И во сне очутился на Волхове.
На волховском плацдарме утренняя заря побеждала мутно-молочную дымку. Мотострелки мало-помалу стали различать со своего рубежа лиственные и хвойные деревья на стороне противника.
Терновой ругал сырость, укрепляя жердями стенку окопа.
На наблюдательном пункте появился Аглушевич. Расширяя амбразуру в дзоте, он пророчески говорил:
— К непогоде. Без росы и травы не растут.
Рядом проснувшийся Гридин удивлялся: сон так походил на то, что недавно происходило. А какова явь? Он стал оглядываться. Невдалеке, на небольших лужайках, где на фоне травянистой зелени выделялись коричневые стволы сосенок, послышался какой-то шелест, и над вершинами деревьев замелькали тени.
— Это перелетают коршуны, улучшают свои позиции, — сказал Аглушевич.
— Не зря птица шарахается, — заметил Терновой, насторожившись.
И действительно, из чащи засверкали огни.
Еще не стихло в лесу перекатное эхо первой автоматной очереди, как прозвучал голос капитана Кирьякова:
— Всем на свои места! — и он, отдыхавший тут же на НП, передвинулся к Гридину. — Посторонись чуток. С постели — прямо за рабочий стол, малина!
Оба залегли под защитой бревенчатой стенки, зажатой двумя рядами березовых кольев. И всматривались в сторону противника. Тонкие жерди вздрагивали от ударов пуль. Со стенки осыпался песок.
— Не отвечать! — велел комбат передать по цепи. — Пусть противник обнаружит себя как следует.
— На прогалине с мелким кустарником — три солдата с пулеметом, — доложил капитану Гридин.
— Лужайку слева переползают четыре… Шесть… О, десять… — сообщил Аглушевич.
— Вот это другое дело, — как бы обрадовался комбат. — Пулеметчик, по групповой!.. Остальным — в своих секторах обстрела… Огонь!
Расчет вражеского пулемета на прогалине будто уперся во что-то. Солдаты падали, стонали.
К пулемету бросились из кустов новые гитлеровцы.
— Огонь! Огонь!.. — заторопился комбат.
Когда выстрелы затихли, он выполз из-за стенки. Приподнялся. В дальнем углу прогалины темнело несколько трупов. В стороне от них торчал ствол пулемета.
— Не утащили. Аглушевич, вперед!.. Стоп! Ухарство отставить! Не перебежками, а на брюхе, — приказал капитан Кирьяков и достал из сумки гранату.
Из дальнего осинника послышался треск сучьев, приглушенный гортанный говор.
Аглушевич привстал. Метнул по кустам одну за другой две гранаты, а связку — под ствол крупнокалиберного пулемета.
Приполз в крови и в грязи.
— Ранен? — встревожился комбат.
— Нет. Поцарапался.
— Очки втираешь, я те дам… А это что? — Капитан ткнул пальцем в окровавленный рукав гимнастерки.
— Касательное…
— Санинструктор Зеленков, перевязать и определить боеспособность этого детинушки.
Мотострелки продвигались вперед, выравнивая и улучшая свои позиции. После непродолжительного затишья лес затрещал частыми взрывами. Противник ударил из минометов, затем — из орудий. И почти без паузы гитлеровцы двинулись в контратаку с криками и автоматной пальбой. Разрывные пули, задевая ветки, хлопали повсюду. Комбат и Гридин с группой бойцов взвода управления батальона, подпуская врагов на близкое расстояние, била в упор по ясно видимым целям.
Наблюдательный пункт комбата обосновался в цепи мотострелков, у трех берез, которые росли из одного корня. Неглубокие окопчики, оборудованные возле комлей деревьев -близнецов, полукругом окаймляла невысокое дерево — земляная стенка.
К двум часам дня пальба в лесу стала редкой и вялой.
— Фриц обедает, — сказал капитан Кирьяков. — И мы отдохнем.
Гридин прошел по всей цепи и показал бойцам, как улучшить свои позиции.
В течение первых суток мотострелковый батальон отразил три вражеские контратаки. Потом гитлеровцы отказались от вылазок, стали тщательно маскироваться. И тут начали действовать снайпера, комсомольцы-истребители.
В одном из подразделений бойцы жаловались Гридину:
— Вы говорите, что наша задача изматывать врага. Но как? Он не дается.
— А вот так, — сказал капитан Кирьяков, неожиданно появившись возле дзота.
Из-за его спины выглянул Аглушевич со снайперской винтовкой в руках, улыбаясь: дескать, сейчас увидите.
— Костя, — обратился Кирьяков к Гридину, — предупреди фрицев по-немецки, что свинячить в чужом лесу — видеть смерть на носу. И особенно внятно втолкуй следующее. Перед нашими окопами лежат ефрейтор Фриц Тряпке и рядовой Ганс Труппке — из третьего батальона, 311-го пехотного полка 217-й пехотной дивизии, что их командир обер — лейтенант Шмутке — трус, прячется за спиной своих подчиненных. Может, неправда? Анну-ка, мюнхенец в пенсне, попробуй показаться из-за кустов. Что боишься сверкнуть окулярами? Слабо!
Гридин выполнил требование комбата.
— Пустая трата слов, — пренебрежительно хмыкнул Аглушевич и громко добавил по-немецки: — У фашиста один на один кишка тонка.
И что же? На прогалину вынырнул гитлеровский офицер, блеснув очками. Приставив к животу автомат, затрясся бешеной пальбой в направлении укрытия, из-за которого говорили Гридин и Аглушевич.
В ответ прозвучал один-единственный выстрел из снайперской винтовки, и гитлеровец сначала уронил автомат, а затем и сам рухнул на землю.
Капитан Кирьяков всегда бил без промаха.
— Учтите, ребята, это для юмора, — серьезно разъяснял он. — Себе я могу позволить такую вольность, а вам категорически запрещаю. Придумайте что-либо похитрее. Разумный почин комсомольцев всегда поддержу.
Над верхушками деревьев, на юго-западе, лилово-дымчатые облака собирались в темно-синие тучи. Вскоре над ними вспыхнул ярко — белый зигзаг. Звучно захлопали первые капли.
Подозреваю, что фашист может полезть во время дождя, — сказал Кирьяков. — Он, бывает, перенимает нашу тактику.
Полил теплый майский дождь.
Мотострелки после жарких схваток обрадовались освежающему душу с неба.
— Приготовиться к бою! — строго приказал комбат.
Как он и предвидел, гитлеровцы усилили огонь. В раскаты грома вклинилась вражеская канонада. Тон задавали «ишаки” — фашистские минометы. Артиллерийско-минометный огонь на плацдарме грохотал до тех пор, пока не утих дождь. И по всему фронту враг перешел в контратаку.
Это было сверх всякого ожидания. Из-за деревьев выкатывали темно-зеленые цепи гитлеровцев. Дело дошло до гранат, рукопашной.
В центре плацдарма позиции первой роты переходили по нескольку раз из рук в руки.
Комбат кинулся к телефону и попросил дать отсечный огонь артиллерией. Через несколько минут поднялся сильный грохот. Толпу гитлеровцев разметали сосредоточенные взрывы тяжелых мин. Со стороны рубежа первой мотострелковой роты раздалось «Ура»!
— Ей-бо фашист внакладку фуганул по своим! — крикнул Аглушевич.
— Да плюс «Катюши» из-за Волхова, — добавил комбат.
Рябинин потянул Кирьякова в укрытие, говоря:
— Дмитрий Иванович, надо поаккуратнее. Тут шальных — спасу нет. И чужих, и своих.
Контратака врага отбита. Командование батальона собралось на лужайке, возле командного пункта.
— Сегодня 31-е мая, — заговорил капитан Кирьяков, переводя дыхание. — Очевидно, фашист планировал разделаться с нашим плацдармом к концу мая, подтянул тяжелые орудия и минометы. За время боев двенадцатая и — я убежден — последняя контратака захлебнулась. Врагу в мае не хватило тридцать второго числа…
Слова комбата прервало натужное, со скрипом мычание фашистского «ишака». Все припали к земле. Только Терновой продолжал оставаться на своем, давно облюбованном месте — между двумя корягами, вывороченных снарядами.
— Опустись ниже, Степан. Шальной заденет, — посоветовал санинструктор Зеленков. — Не прибавляй мне лишнюю работу.
— На моем «энпэ»(НП) уже побывала мина. Второй раз не попадет.
Лес наполнился грохотом. Казалось, плацдарм опрокидывался куда-то в бездну. И сразу стало тихо. Только там и сям падали комья земли, обломки деревьев, осколки.
Люди поднимались, отряхивались от земли, окликивали товарищей.
— Терновой, где ты? — крикнул Зеленков, выбираясь из рытвины. Он не узнавал того места, где несколько минут назад находился разведчик. На месте бугра с ответвлениями коряг чернела воронка. Санинструктор шагнул к ней. О, чудо! На дне сидел Терновой. В правой руке — автомат, в левой — разорванная в клочья полевая сумка.
Долго длилась тягостная пауза. Наконец, Терновой нарушил ее, заикаясь:
— Ч-что уставились на меня, к-как на верблюда?
Посыпались вопросы:
— Степан, живой?
— Как ты в яме очутился?..
Тот шевелил бледными, сухими губами:
— Н-не знаю. Уверен, однако, что рановато.
Санинструктор ощупывал Тернового, говоря:
— Ничего не нахожу… Наш Степан, что кошка — как ты его ни
кинь, а он все на ноги встанет.
С помощью Зеленкова Терновой выбрался на ровное место. И качнулся. Его поддержали. Бледно-серое лицо начало розоветь. Губы скривились в вымученную улыбку:
— Это шутка… Не первоапрельская, а майская…
— Не скапливаться! Разойдись! — крикнул Кирьяков.
Увидев группу бойцов, пересекавшую поляну, он спросил:
— Кто там старший? А, ты, Костя… Где столько народу набрал? Почему не оврагом ведешь?
— Эти бойцы остались без командира. Напрямую ближе к трем березкам. Выполняю ваш приказ — пока фашист не опомнился, отобьем свой наблюдательный пункт.
— Э, нет, братцы. Подберемся овражком и контратакуем под основание вражеского вклинения. Сворачивай влево. Связист, тяни за мной провод.
Из-за леса вновь донеслось скрипучее мычание «ишака”. Однако его тут же заглушила музыка «Катюши». Вдобавок на небе сверкнула молния. Казалось, огненная стрела вонзилась в березняк, захваченный противником. Лесом прокатилось эхо грома. А в той стороне, где находились три березки, земля застонала от тяжелых взрывов. Там же слышалось яростное состязание очередей автоматов ППШ и «шмайссеров».
Кирьяков и Гридин торопливо обходили большую лужу. И вдруг обоих обдало брызгами воды, комьями мокрой земли. Комбат вздрогнул, повернулся вправо, шагнул к холмику и опустился на него. Как бы раздумывая, лег навзничь. Казалось, ему, наконец, удалось найти удобное место для отдыха.
Гридин, раскинув руки, упал на куст боярышника. Обхватив его, будто почувствовал колючие шипы и стал сползать на траву. Из правой лопатки, с шеи текло, расползаясь, что-то горячее, липкое.
Он еще успел услышать:
— Комбат убит.
Ноги и руки Гридина судорожно задергались. Он будто пытался встать, хотел увидеть, что произошло. Но резкая боль туманила глаза. Стал задыхаться — возможно, от едкого запаха тротила. А сквозь какой-то тяжелый гул пробивались слова: «Комбат убит». Наконец, Гридин сполз с куста, растянулся на мокрой земле. И к нестерпимо резкой физической боли прибавилось неизбывно тяжелое: «Убит, убит Кирьяков…»
Набережная. На скамейке — двое.
Внизу сверкала, искрилась вода. Вдали, по течению Камы, за излучиной, серебристая лента реки постепенно тускнела, сливаясь с предвечерней дымкой.
С верховьев медленно шел пароход. Лучи заходящего солнца зажгли в иллюминаторах красные огни. За кормой разбегались к берегам волны. Прыгая на них, к бакену шла лодка — пора зажигать огни. Вот и в густой тени прибрежного леса, накрывшей полреки, засверкала световая дорожка, как бы соединяя бакен с берегом. Свет и его отблески дрожали, ломались, но яркость все усиливалась.
— Пойдем, дедко, неча рассиживать по нонешнему времени, — шевельнулся один из тех двоих, что сидели на прибрежной скамейке.
— Чудно: солнце только что скрылось за лесом, а река уже в огнях, — отозвался второй, неохотно поднимаясь.
— Невидаль… Живее!.. Вон сюда идут из госпиталя.
— Постой на часок. Слышь — песня… Может, выудим у раненых что-то о новом недорогом танке.
— Ты что?.. Выдать нашу тайну? У нас своя песня… — рассердился нетерпеливый старик, топчась на месте и беспокойно теребя окладистую бороду.
Второй невозмутимо поглаживал, прижимая к груди свои рыжие волосы. Затем застегнул белые пуговицы на темной косоворотке и медленно двинулся за товарищем, кряхтя.
Вдоль набережной перекатывался звонкий тенорок:
Северный ветер кричал «крепись»!
Пой песню, пой.
Один из них вытер слезу рукавом,
Ладонью смахнул другой.
На краю цветочной клумбы вырисовалась группа молодежи. Впереди шла девушка в темном платье. Она подбежала к скамейке, взялась рукой за спинку и повернулась лицом к реке. С минуту не отрывала глаз от уходившего парохода. Потом села на скамейку. Опираясь на палочку, подошел Гридин.
— Репетиция не отменяется? — спросил он Марину.
— Думаю, что нет. — Она указала на молодежь, небольшими групками стоявшую на берегу: — Вон, сколько собралось… Садитесь, — обратилась к Гридину. — Вот только Андрей Петрович запаздывает. — Она имела в виду руководителя художественной самодеятельности госпиталя.
Гридин неуклюже опустился на край скамейки.
Вскоре подошел Андрей Петрович. Началась репетиция пьесы Гусева «Слава», которую кружок готовил к постановке.
Марина вздохнула и будто на сцене наигранно произнесла:
— Уф, я устала.
Гридин высокопарно продекламировал:
Прошу вас, посидите,
Товарищ, будущая жена.
Скамья. Природа. Громкоговоритель.
Значит, гарантированная тишина.
Слова подкрепил избитым театральным жестом.
Приняв горделивую позу, Марина откинулась на спинку скамейки и, словно по тексту, прочла:
— Кама красивая.
— Вечер к лицу ей, — отозвался Гридин, вглядываясь в страницу из записной книжки.
— В домах за рекою огни зажигаются. Люди работают. Смеются. Танцуют. И все это вместе называется жизнь? — понизив голос, сказала Марина, придав фразе вопросительную интонацию.
— Э, нет, молодые люди. Так не пойдет, — вмешался недовольным голосом Андрей Петрович. — Вы, товарищ Гридин, говорите слишком возвышенно, чересчур артистически. А Марина вообще играет не свою роль. Слово «смеются” произнесла тоном сожаления и грусти. И текст не выучила. Причем здесь Кама? Лена в пьесе восхищается Москвою.
— В пьесе действует выдуманная драматургом Лена, а здесь — реальная Марина, — вставил с усмешкой Зеленков.
Андрей Петрович терпеливо поправлял, показывал, уговаривал. Репетиция затянулась допоздна. Только после того, когда было полностью отработано одно действие, руководитель отпустил «актеров” по домам.
— Марина, устрой там все так, чтоб за Васей не числилось сегодня самоволки, — крикнула Стеша, увлекая за собой рослого старшину. Он обернулся, хотел что-то сказать, но девушка скороговоркой зашептала ему на ухо: — Мы с тобой, Вася, как умеем, так и сыграем свою пьесу. Кому до этого, какое дело!
— Стеша перешла все границы, — возмутилась Марина. — Как прилипла на Каме к носилкам старшины, так до сих пор не отстает.
— Ничего страшного, — улыбнулся Андрей Петрович. — Стеша уже прихвачена временем. Да и старшина в годах. Кто знает, какая судьба его ждет. Скоро он вернется на фронт. И, возможно, ему больше не придется стареть…
— Будет вам! — резко оборвала его Марина. — Зачем так безжалостно?.. — и стала догонять Гридина и Зеленкова, которые вместе с Люсей шли впереди.
— Как хорошо иметь верного друга! — с чувством сказала Марина. — На фронте дружба проявляется главным образом в мужественных поступках. Вот вы, например, остановили кровотечение у Кости на берегу Волхова…
— Да я просто оказал первую помощь, — заметил Зеленков. — Это моя обязанность. А дружба? Она проявляется в беде и в радости. Мы специально не искали друг друга, чтобы подружить. Дружба приходит постепенно, незаметно. Это награда за добро… На днях я уезжаю. Но не думаю, что Костя останется здесь в одиночестве. Вы, Люся и Марина, видно, дружны между собой. Хотелось бы надеяться, чтобы это благородное чувство коснулось и моего фронтового товарища.
— Наша дружба несколько своеобразна, — сказала Марина. — Мы никогда не спорим.
— Я всегда соглашаюсь с Мариной, — вставила Люся.
— Главное, мы всегда говорим друг другу правду. И это никогда нам не вредит, — продолжала Марина. — А моя мама утверждает, что: «Говорить правду — терять дружбу». Как это понимать?
— А она не добавляет, что с глупым другом только наплачешься? — улыбнулся Зеленков.
— Нет. Но предупреждает, что если раздружится друг, то он хуже недруга. Я считаю, что в основе взаимной привязанности людей лежит равенство. Если Люся соглашается с вами добровольно, и вы не подчеркиваете своего превосходства, значит, у вас настоящая дружба. Конечно, об этом со стороны судить не просто.
— Мы на работе помогаем друг другу, не сердимся по пустякам. А как у вас с Костей? — все более оживлялась Марина.
— Мы сблизились на фронте, хотя у нас разные характеры, образование, воинские звания… Да и возраст не одинаковый — я старше Кости на восемь лет. И все-таки мы очень дружны. Правда, Костя?
— Согласен. У меня есть еще один друг со школьной скамьи. Петро. Очень впечатлительный, с неиссякаемым воображением. Мне этого недостает. И получается, что мы с Петром дополняем друг друга.
— Мне кажется, — как бы про себя рассуждала Марина, — что людям с одинаковыми характерами, привычками дружить трудно. Думаю, что дружба всегда должна обогащать людей.
— На себе это чувствую. — Люся дружелюбно посмотрела на подругу.
— Ну а вы, Марина, что скажете о дружбе между парнем и девушкой? — спросил Гридин.
— Боюсь, что она часто перерастает в сильную привязанность. И моя мама утверждает, что последствия могут быть самыми безрассудными, — и она поспешно устремилась к Гридину, который шагнул на скрипучий мостик, боясь, как бы парень не оступился.
На середине мостика Марина замедлила шаги.
— И мой друг детства — за рассудок … — словно вспоминал что-то Гридин. Минуя мостик, продолжил: — Но он особо воодушевлялся, когда говорил, что чувства дают человеку крылья…
— Правильно, — бодро поддержал Зеленков. — Только пресмыкающиеся не мечтают о полетах. Я тоже спал и видел себя летчиком, а вот оказался санинструктором. — Он остановился у последнего столба, к которому крепилась отшлифованная руками жердь. В заключение выразительно произнес: — Покидаю этот овраг в надежде, что теперь уж Костя в него не свалится.
— Да, пожалуй, он достаточно твердо стоит на ногах, — сказала Марина в тон Зеленкову.
— Я-то на своих двоих, — задумчиво проговорил Гридин. — А как там, на Волхове, мой земляк Петр Троян? По-прежнему ли веселый, неунывающий. Не ранен ли?..
— Как видно, ваш друг везучий, — сказала Марина.
— Обычно веселому человеку беды не страшны, — добавила Люся.
— И с Петром ничего плохого не должно случиться.
— И я так думаю. Но уже пора бы ему ответить на мои письма.
Троян почти бежал. Начатое письмо Косте решил дописать после первых шагов на новом поприще.
Он остановился на берегу река.
Волхов тихо и спокойно нес свои воды в Ладогу. На высоком прибрежном плато шелестела молодая листва кустарников, в траве пестрели цветы. У переправы темнели глубокие свежие воронки. В воде одной из них, соединенной проливчиком с рекой, кувыркалась в завихрениях зеленая ветка. Вот, поди, ж ты, удивлялся Троян, и на воде в небольшом водоемчике сказывается течение могучей реки — ишь, как носит, перевертывает веточку…
— Товарищ сержант, — нарушил чей-то голос размышления Трояна, — сейчас будет транспорт.
Он оглянулся. Внизу, из замаскированного ветвями окопчика, выглянула голова в зеленой каске, сверкнул штык винтовки.
— С минуты на минуту сюда подойдет интендант с обедом. А у него лодка… Посидите, товарищ сержант. Не торопитесь, туда завсегда успеете, — продолжал боец, кося тревожными глазами то за реку, то на небо.
Через несколько минут на спуске к Волхову показались согнутые под тяжестью вещмешков и бачков-термосов бойцы. Они двигались от укрытия к укрытию перебежками и остановились у жиденького ольшаника. Не снимая с плеч поклажи, двое присели возле кустиков. Третий — в комсоставской форме, небольшого роста, жилистый, с выбивавшимися из-под пилотки буйными кудрявыми волосами — снял заплечный груз и проворно кинулся к реке, на ходу бросив бойцу в окопе:
— Здорово, Митрич! Все в порядке?
— Так точно, товарищ начальник. Торопитесь, пользуйтесь тем, что фриц минута в минуту, в аккурат, начал обедать.
Подождав, пока «начальник” вывел из лозняка спрятанную там лодку, Троян спросил:
— С вами можно перебраться на тот берег? — и достал из кармана для обоснования своей просьбы предписание.
— Подсобите мне. Для начала захватите вон под кустом мой рюкзак. Эй, отцы! — крикнул он своим спутникам. — Ко мне!
Пожилые бойцы, удивительно похожие друг на друга, проворно двинулись к воде. Едва они успели вместе с Трояном влезть в лодку, как скрипящая посудина выскользнула из лозняка. Один из бойцов сразу сел на дно лодки, суетливо вытирая пот со лба. Второй, с видом безразличия спокойно присел на корточки.
— Что согрелись? — мягко начал Троян в порядке знакомства.
— Не успеваем остыть. Темп любит… — сказал вспотевший боец, косясь на лодочника.
— А начнешь прохлаждаться, фашист сразу отправит в подводное плавание, — вставил напарник, сидевший на корточках.
Чтоб отвлечься от тягостного ожидания вражеского артобстрела, Троян кивнул в сторону «начальника»: — Строгий?
— Еще какой! Строже комбрига, — шепнул мокрый от пота боец. — До смерти всех загонял. Даром, что интендант второго ранга.
— Дюжий. Может гору своротить. Волхов переплывает и то — больше под водой, — добавил второй.
Между тем гребец энергично работал веслами. Его жилистая шея круглые плечи, руки, ноги под тканью хлопчатобумажного обмундирования так и играли мышцами. Троян впервые встретил интенданта — молодого и спортсмена.
Шуршащий песок под днищем резко затормозил утлую посудину.
— Приехали, — наконец подал голос сумрачный интендант. — Живо выгружайся. Тряскин, опять сахар замочили? Какой вы несуразный. Зарабатываете новый наряд вне очереди — ночью картошку чистить.
К реке подошел комиссар мотострелкового батальона.
— Здравствуй, Сталевич! Сегодня вы успели вовремя, и, вижу, благополучно. Тишина-то, какая!
Троян представился батальонному комиссару.
Слова уставного рапорта странно подействовали на интенданта. Сначала Сталевич открыл рот. Потом ожесточенно почесал затылок.
— Вон, оказывается, кого я привез на место комсорга Гридина, — с горечью произнес интендант. — Замену, точнее — соперника. — Обращаясь к бойцам, добавил: — Почему остановились? Скорее несите пищу на командный пункт.
— Не расстраивайтесь, товарищ Сталевич. Вы в моем резерве. Разъясняю, что у кандидатов на передовую соперников не должно быть… А сержант Троян прислан командованием и политотделом бригады заменить своего земляка. Когда нашему полку прибыло, то однополчане радуются, а не горюют.
— Эх, доля моя, доля!.. — громко переживал Сталевич. — Так из-за какого-нибудь шального глупого осколка может закончиться моя служба с печатью интенданта. Напоминал же, что тыловая работа — не мое призвание. Я должен быть там, где совершаются настоящие дела…
— Уточняю ваши рассуждения. На войне не мы выбираем профессию, а профессия выбирает нас, — сказал комиссар.
В дальнейшем события развернулись так, что интенданту Сталевичу больше не пришлось сетовать.
Слово «соперник», услышанное от Сталевича, вызвало у Трояна чувство гордости и напомнило о большой ответственности. С чего начинать? Какую проявить инициативу, чтобы быть достойным Гридина и Сталевича.
Из задумчивости вывел Трояна батальонный комиссар:
— Я представлю тебя управлению батальона, а ты расскажешь о встрече с полковым комиссаром Кузнецовым и раздашь листовки с обращением Военного Совета армии, которые начальники служб будут разъяснять бойцам.
А через час и Троян читал мотострелкам обращение Военного Совета:
— » Ваша удары по врагу, каждый ваш шаг вперед есть вклад в дело окончательного разгрома врага нашей Родины — немецко-фашистских захватчиков. Это приближает час освобождения великого города Ленина от немецкой блокады”.
Эти слова вызвали горячие отклики.
В ответ на обращение старшего командования я овладею снайперским искусством, стану истребителем, — сказал молодой боец.
— На Волхове аукнется, на Неве откликнется.
— Соколу лес не диво…
— «Военный Совет за мужество и доблесть, — продолжал Троян, — объявляет благодарность всем бойцам, командирам и политработникам… Товарищи, вашим мужеством и доблестью гордятся все части Армии. Так громите еще крепче подлых захватчиков, выбивайте фашистскую мразь из опорных пунктов, беспощадно уничтожайте живую силу и технику противника”.
— За капитана Кирьякова, за кровь политрука Гридина — смерть гитлеровским оккупантам! — откликнулся Аглушевич, которого поддержали многие голоса.
И уже к вечеру десятки новых бойцов под руководством опытных истребителей стали выслеживать на передовой цели. И как только где-либо появлялся вражеский силуэт, или подозрительно шевельнулась ветка, сразу туда летела пуля.
Ночью четверо комсомольцев — разведчиков во главе с новым комсоргом сержантом Трояном проникли во вражеское расположение. Завязав перестрелку с шестью гитлеровцами-мотоциклистами, они троих уничтожили. К уцелевшим фашистам подоспела подмога. Вначале обозначилось огневое полукольцо, потом — кольцо. Во вспышках ракет, казалось, будто враги напирали стеной. Троян задыхался от злобы и отчаяния. Но тут лучи вражеской ракеты выхватили из мрака возвышавшееся среди заболоченных обочин полотно дороги. И в воображении Трояна на мгновение возникла картина памятного ночного боя разведчиков на железнодорожной насыпи. «Не обороняться, а атаковать врага по-соколиному, как любил Гридин», — подумал Троян и сразу же сориентировал товарищей на место прорыва. Путь расчищали автоматным огнем и гранатами, которые подобрали у разбитого мотоцикла.
Из окружения разведчики вынесли трофеи: три сумки с топографическими картами, документы, гранаты, магазины к «шмайссерам”. У каждого было по два автомата — свой и трофейный. Но и потери нелегкие — трое раненых, из них один тяжело, его несли.
— Раньше за гитлеровцами не водилось такой активности ночью, — сказал комиссар, выслушав доклад комсорга-разведчика.
— Главная трудность в том, что ночной мрак какой-то мутно белесый. Среди деревьев очень трудно различить вражеские тени, — делился впечатлениями Троян.
Выполнив задачу на плацдарме, мотострелковый батальон вернулся на восточный берег Волхова. Но отнюдь не на отдых.
— Сегодня с большим опозданием прибывают сюда, на Правобережье, наши танки, — доверительно делился с Трояном Сталевич, угощая завтраком. — Знакомый писарь шепнул мне, что в первом танковом батальоне нет комсорга. Я напомнил комиссару о том, что перед войной мне выпало немного учиться на танкиста…
«И я не прочь вернуться в танковый батальон, — подумал Троян. — Выходит, теперь Сталевич мой соперник”.
Гридин простился с фронтовым другом и долго стоял на пустынной набережной, провожая взглядом уходивший пароход по зарозовевшей реке все дальше и дальше. Когда пароход скрылся за высоким выступом берега, стало совсем грустно. Неужели они рассталась с Зеленковым навсегда?
В палату возвращаться не хотелось. И он бродил вдоль берега. Вот и от Петра ни строчки. Что с ним? Жив ли?.. Ведь он обычно аккуратно отвечает на письма.
Гридин сел на скамейку. И задумался. Он даже не сразу заметил молодого парня, который, прихрамывая, приближался к нему, роясь в почтовой сумке.
— Наконец и вам что-то есть! — оживленно сообщил почтальон, потрясая конвертом.
— О, спасибо, спасибо! — воскликнул Гридин, принимая долгожданное письмо.
Он нетерпеливо извлек из конверта несколько мелко исписанных ластиков и вырезку из газеты — очерк Петра Трояна «Дом с голубыми наличниками». Прочитав письмо, Гридин принялся за очерк.
В очерке рассказывалось, как новый командир мотострелкового батальона старший лейтенант Рябинин в ходе наступления танковой бригады завязал бой за поселок, где он родился и вырос.
На пути наступающих высился превращенный врагом в неприступную огневую точку дом с голубыми наличниками. В минуту короткого затишья из подвала окраинного строения выбежали навстречу освободителям опухшие от голода женщина и дети. Они сказали Рябинину, что его семья прячется в подполье своего дома — дома с голубыми наличниками.
Танк Мотылькова заходил к вражеской огневой точке с фланга. Из окон и подвала дома полыхали выстрелы. Рябинин на мгновение замер. Горько и больно было видеть в ту минуту родной очаг. Казалось, совсем недавно Рябинин красил в голубой цвет новенькие резные наличники… Скомандовать, минометчикам ударить зажигательными? Но в доме не только враги, там и свои — родные, дети. Нет, лучше попросить танкистов…
… Танк остановился в густом палисаднике, возле бани. Но в моторе вдруг оторвался шатун. Тридцатьчетверка вышла из строя.
Старший лейтенант Рябинин свернул к своему дому через ручей и фруктовый сад. Вкруговую, задворками. По-пластунски, перебежками … Сквозь ветви смородины увидел вспышки огней и… упал с перебитыми ногами.
Ночью к дому подошел танк Ермака с мотопехотой. Аглушевич вытащил с поля боя комбата и освободил его родственников.
Гридин спрятал письмо в карман. Все ясно. Надо ускорить лечение, и с первой партией выздоровевших проситься на фронт.
Июньская ночь. Белая. Прозрачная и призрачная.
Деревни Новинка и Плавницы, химкомбинат — район юго-восточнее Киришей — стали местом длительных и трудных боев. Враг старался любой ценой удержать свой единственный плацдарм на восточном берегу Волхова.
Троян вывел разведчиков на исходные позиции. С часу на час ожидалось прибытие танков с лесного железнодорожного разъезда. Разведчикам необходимо было уточнить на новом участке фронта линию переднего края обороны противника, разведать противотанковые средства.
… На небе рассеянными, блеклыми красками проступала вечерняя заря. Пять разведчиков во главе с Трояном, извиваясь ужами, ползли между луговыми кочками. Позади остался низкорослый кустарник. Вблизи — ни звука. Только легкий шелест листвы и сдержанное дыхание. В нос ударяли запахи свежей зелени, пресного ила, кисловатой гнили и какого-то тошнотворного зловония.
Опытные разведчики продолжали тщательно маскироваться, стараясь не высовываться из мокрых рытвин в почве. Когда начался еле заметный подъем, остановились. Рядом с кустистой кочкой поднялась голова Трояна и слилась с ней. Глаза пристально вглядывались в белесую мглу. Вдруг разведчик приник к кочке, поднял руку: «Внимание”! Все в недоумении замерли, не понимая причины тревожного сигнала. А Троян, смутно различив перед собою несколько светлых бугорков, выжидал. Но едва разведчики двинулись дальше, как один из странных ”бугорков” шевельнулся. Потом другой… Троян озабоченно оглянулся: все ли соблюдают требования маскировки. Осторожно приподнялся и тут же отпрянул. О, черт! Впереди — что-то непонятное, похожее на белые привидения.
Справа из травы осмотрительно высунулась голова разведчика в танкошлеме, слева — пилотки младшего сержанта Аглушевича и Тернового.
— Что это? Стрелковая цепь? Все в белом, — шепнул Аглушевич.
Троян бросил камень. В ответ — ни звука. Никакого движения.
Глаза сержанта болели от напряжения.
— Прикройте меня. Я поползу, — тихо произнес он.
— Сними автомат с предохранителя. Приготовь гранату, — напомнил Аглушевич.
Троян осторожно двинулся по-пластунски.
Вот этот странный светло-серый силуэт. Разведчик сдвинул стебли травы и обмер. Потом коснулся стволом оружия плеча человека. Тот не шевельнулся.
— Похоже — труп нашего бойца, в маскхалате, — сказал Троян, когда подползли товарищи.
— С зимы горемыка лежит, — заметил Аглушевич.
— Чудаки мы. Не могли раньше догадаться, — хмуро вставил Терновой. — Не иначе, как здесь, на подходе к Киришскому мосту через Волхов выдохлось наше зимнее наступление.
— Да, — подтвердил Троян. — Недоставало одного рывка, чтобы добежать до Волхова. Полегли в снегах. Наш фронт перешел к обороне, и они остались в ничейной зоне. Может, считаются пропавшими без вести? — Он подполз к трупу.
В вытянутой руке погибшего — автомат ППШ. При бледном полусвете виднелись сморщенные высохшие пальцы, обтянутые серой кожей. Они как бы срослись с черной сталью оружия.
— Троян легко разорвал обветшалый маскхалат. Стал расстегивать на груди полушубок и… голова в тяжелой каске отвалилась.
Аглушевич срывающимся шепотом посоветовал:
— Осторожней.
Троян помолчал. Он достал из-под полуистлевшего маскхалата документы и медальон с домашним адресом.
— Так и есть. К убитым никто не подходил, — обернулся он к разведчикам. — Мы первые. Все. Это еще не передний край. Каждому выбираться на свое направление. Действовать, как запланировано. Не выставляться — у развалины с печной трубой наверняка вражеский секрет. Если позволят условия маскировки, подбирать документы, медальоны.
— А следует ли отвлекаться на то, что не предусмотрено заданием? — усомнился Аглушевич.
— По-возможности, Володя, следует. Но не нагружать себя оружием. Вон его полно среди вражеских черных трупов в канаве. Поддерживать зрительную связь друг с другом, — шепотом, но внятно командовал Троян.
Каждый приступил к выполнению своего задания.
Троян осмотрел еще два трупа. Затем стал взглядом искать товарищей. Хотя за каждым из них в примятой траве тянулась темная дорожка, казалось, что друзья бесследно исчезли, и он один остался перед канавой, в которой поблескивали вражеские каски.
Потом, много позже, Троян записал в дневнике свои впечатления, вновь пережив события памятной ночи. Цепь павших героев в белых маскхалатах, а напротив — злополучная канава, из которой, казалось, выглядывали фашисты в рогатых касках… И в голове стучало: все мертво, всюду мертвецы… На ум пришли стихи Пушкина:
Усеял мертвыми костями?..
Кто на тебе со славой пал?
… смолкло ты
И поросло травой забвенья…
… Троян полз и полз.
Вдруг жидкий мертвенно — бледный туман прочертила вертикальная огненная струя. В светло-голубоватой вышине она с треском и скрежетом согнулась, затем на утолщенном конце взорвалась кровавая вспышка. Над лугом повисло несколько ракет. Перед глазами, как из-под земли, выросла темная груда развалин. Гулко застучал крупнокалиберный пулемет. В эхо вплелись, захлебываясь, звуки оружейной пальбы. По траве с отблесками бороздили, перекрещиваясь, строчечные огненные линии. Рявкнули мины. Передний край противника, наконец четко обозначился.
Разведчики увидели друг друга. Подступы к вражеским огневым точкам — как на ладони, различались мельчайшие подробности. Запомнить все это, доставить танкистам, артиллеристам.
И позиции мотострелкового батальона оживились. Застрочили пулеметы. Ударили пушки, минометы. Море огня и света.
Ночи, как и не бывало.
К брустверу длинного окопа мотострелков подползли три разведчика, волоча за собою на плащ-палатке двоих раненых товарищей.
Первые солнечные лучи осветили измученные, грязные, потные лица, окровавленные марлевые повязки на наспех забинтованных ранах.
Навстречу поднялся из-за укрытия командир роты.
— Сюда, братцы… Осторожно! Опускайте раненых на дно траншеи, — сказал он.
Заскорузлая плащ-палатка шевельнулась. Послышался голос:
— Считайте, что мы выбрались из открытой могилы, и не хочется опускаться на дно холодной ямы. Тянет к солнцу.
— Правильно. Оно могло быть и хуже, — добавил раненый Троян, приподнявшись на локте. — Разрешите нам устроиться вон под той ветвистой березой. Оттуда, с возвышенности, мы покажем, где маскируются вражеские огневые точка, заболоченную канаву, которая не обрадует танкистов.
Мотострелки помогли разведчикам разместиться. Троян, упираясь о шершавый ствол дерева, доложил о результатах вылазки.
В медсанбате над койкой Трояна склонился техник-интендант Сталевич.
— Главное, вы разведали, что вдоль железной дороги, через луговую низину с заболоченной широкой канавой танки не смогут пройти. Это очень важно. Правда, вылазка дорого обошлась…
— Жаль, что не успели изучить подступы к Киришам по открытому полю вблизи Плавниц. Этот путь, хотя и в два раза длиннее, чем вдоль дороги, но зато под гусеницами танкист ощутил бы твердую почву. Надо доразведать, выяснить, есть ли мины… Затем рвануть на больших скоростях… Пятьсот метров открытого поля и дальше кустарником, что северо-восточнее Плавниц, прямо на Кириши.
— Заманчиво. Пока ты в медсанбате, мне приказали исполнять обязанности комсорга мотострелкового. Для начала хочу просить разрешения участвовать в очередной вылазке разведчиков.
— Да, Алексей Исаевич… — Бывший студент Троян по привычке обращался по имени и отчеству к Сталевичу, старшему по возрасту, окончившему исторический факультет Минского госуниверситета. — Было бы хорошо довести начатую разведку до конца. Люди в нашем взводе хорошие… — и Троян охарактеризовал боевые качества воинов, с которыми не раз ходил в разведку.
— Спасибо, друже. Постараюсь не ударить лицом в грязь.
Вылазка группы разведчиков Сталевича закончилась, когда утренняя заря теряла свои краски, и туманное предполье стали рвать мины, снаряды, пулеметные очереди.
С обеих сторон поднялась пальба.
В сплошном грохоте, в пороховом дыму, с ничейной зоны ползли к своим окопам разведчики. Из леса на востоке нарастал металлический скрежет гусениц советских танков.
Первыми подошли к исходному рубежу на правом фланге тридцатьчетверка Мотылькова, а на левом — Ермака. В середине, отставая от них, выбирался из болотистой луговины экипаж Самохина с привязанным к гусеницам «бревном-самовытаскивателем».
Враг неистовствовал, обстреливая передний край мотострелкового батальона. К окопам подползали разведчики. Раненый в ногу Аглушевич, преодолевая слабость и боль, тащил к своим оглушенного языка. Товарищи помогали ему выбраться на бруствер.
Сталевич ухватился за ветки кустарника, подтягивась вперед. И вдруг почувствовал оглушающий удар по голове…
Канонада с обеих сторон не унималась. Разведчики сидели под березой, возле танка Мотылькова.
— Ну и ночка была, — пробурчал кто-то.
— Сущий ад. Проклятье! — отозвался Сталевич, осторожно коснувшись рукой окровавленных бинтов на лбу. — Но я не вышел из строя. Царапинка на шее уже засохла. И шум в ушах стихает.
— Вон врач бежит сюда. Посмотрим, что он скажет,- заметил комбат.
— Черт те, что получилось, — возмущался Аглушевич. — Выходит, Алексей Исаевич прикрыл своим телом гитлеровского выродка, и второй раз даровал ему жизнь. Дорого обошелся язык.
Комбат велел Аглушевичу показать танкистам на местности заболоченные участки и районы огневых позиций противотанковых орудий.
— Перед выходом на открытую поляну вон в густой траве проходит осушительная канава, на карте ее нет. За ней — стрелковые ячейки, — говорил разведчик. — Мин на подступах к ним не обнаружено. Противотанковых орудий тоже нет. Если бы не эта канава, то направление атаки, обозначенное на ваших картах, кратчайшим путем вывело бы на окраину Киришей.
— Все ясно, — нетерпеливо отозвался Мотыльков. — У меня на жалюзях припасен колейный мостик. — И обратился к комбату: — Разрешите под шумок пальбы да под прикрытием дымки рвануть через канаву?
— Не пороть горячку! — Комбат жестом остановил подчиненного. — Маневр танков надо сначала согласовать с соседями и доложить обо всем старшему командованию.
… Танкисты и мотострелки, атаковавшие врага на левом фланге, добились наибольшего успеха. Они прорвались между Новинкой и Плавницами на восточный берег Волхова. Повернули на север и наступали в направлении южной окраины Киришей. Однако противник ударил по ним из орудий, расположенных на западном берегу реки.
Тридцатьчетверка старшего лейтенанта Ермака на мостике через ручей резко повернулась влево вокруг перебитой гусеницы и сползла в воду. Самохин поспешил на выручку. Танкисты соединили машины буксирными тросами. И вскоре обе оказались в укрытии перед оврагом-ручейком. Но ручеек был для них непреодолимым препятствием.
И танки только огнем с места поддерживали наступление мотопехоты.
Мотылькова неудача преследовала с самого начала. Подойдя к осушительной канаве, он остановился. Радист-пулеметчик под вражеским обстрелом выскочил из танка, столкнул с жалюзей на землю колейный мостик. Ползком подтащил к канаве одну пару сосновых брусьев, соединенных скобами, затем вторую. Снаряды и мины стали рваться совсем рядом. На помощь танкисту бросились два бойца из мотострелковой роты. Во время укладки брусьев их заволокло дымом взрывавшихся снарядов. Потом Мотыльков увидел бойца в каске, который тащил вдоль канавы раненого радиста-пулеметчика и оружие своего напарника.
Башня тридцатьчетверки вызванивала от ударов осколков и пуль.
— Вперед! — скомандовал Мотыльков. — Придется идти в бой без радиста-пулеметчика.
— Перекос… — доложил механик-водитель. — Левая пара брусьев висит на ветке кустарника, на честном слове.
— Осторожно трогайся, придави ее гусеницей к земле и на малом газку пройдешь.
Но придавить брусьями ветку кустарника не удалось. Подтолкнутые гусеницей брусья сползли в канаву и машина завязла.
Мотылькову ничего не оставалось другого, как ударить с места из пушки и пулемета по ясно видимым вражеским огневым точкам.
Бойцы мотострелковой роты между тем уже тащили к застрявшему танку жерди, камни. Другие, преодолев канаву, под прикрытием танкового огня продолжали наступать.
Сталевич, казалось, справился с контузией. Все удивлялись: ну и сила воли!
Но врач из медсанбата не поверил в «чудо». Он долго обследовал рану на шее, ушибы головы, и, встречаясь с непреклонно-требовательным взглядом пациента, озабоченно потирал лоб. И все-таки разрешил бывшему интенданту остаться в строю с тем, что он вернется снова в тыл, на продовольственный склад.
Однако не прошло и часа, как Сталевич с разведчиками и бойцами мотострелковой роты ворвался во вражеские окопы на южной окраине Киришей. Выбросив из траншей каски, цилиндрические коробки противогазов, покореженные «шмайссеры”, столкнув с брустверов трупы гитлеровцев, комсорг овладел участком первой линии обороны противника.
Вскоре на захваченном рубеже стало тесно. Сталевич, Терновой и Аглушевич выбрались на пустырь, примыкавший к химкомбинату. Маскируясь среди низкорослого кустарника, бойцы ползли вдоль телефонного кабеля туда, где слышались выкрики: «Шнель!.. Шнель!.. О, майн гот!..»
Гитлеровцы вдруг кинулась к своим ранее оставленным окопам. Но окопы уже были заняты советскими бойцами. Среди контратакующих врагов стали рваться мины. Все попадали. В клубах дыма и пыли, однако замаячила сгорбленная фигура на бруствере, и неожиданно в руки Аглушевича вскочил запыхавшийся ефрейтор со «шмайссером” на шее и с катушкой красного кабеля в руках. Криком отчаяния гитлеровец вызвал со стороны своих бешеную стрельбу.
— Допроси языка, Володя, — велел комсорг Аглушевичу.
Когда пленный назвал полк, с которым мотострелковый встречался ранее на плацдарме, Терновой ахнул:
— Ну и «сдружились”! Мы — на Правобережье и знакомые фрицы сюда же.
— Володя, немедленно отведи этого гуся на КП дивизии. Предупреждаю: живого! Сдашь и, как легкораненый, останешься во взводе охраны штаба.
— Есть доставить языка живого! — козырнул Аглушевич и, повесив на гитлеровца катушки с кабелем, телефонный аппарат, сумки с немецкими бумагами, картами, отправился с ним в тыл.
В поле зрения Сталевича слабо виднелась за кустарником трансформаторная будка. И тут же — решение: укрепиться в ней! Он вылез из окопа, за ним остальные бойцы. Мгновенным штурмовым ударом они овладели небольшим укреплением на подступах к киришскому химкомбинату. Противник не пытался вернуться. Но огонь с его стороны все усиливался.
Вдруг ружейно-пулеметную трескотню стал заглушать рев моторов, доносившийся… с неба. И сразу все потонуло в мощном грохоте бомбежки. На головы бойцов сыпались кирпичи, обломки дерева, спутанные электропровода.
Сталевич и Терновой с несколькими бойцами извлекли из-под развалин раненых, перевязали, и, заняв оборону в грудах щебня, до вечера отбивались от наседавших врагов.
Люди взволновались, но реагировали сдержанно.
Гридин вытер пот со лба. Недовольный своим пространным — как ему показалось — заключением, он отошел от трибуны. Мысленно корил себя, что эпизод о подвиге уральца Захарова — таран на горящем Т-34 полевой артиллерии противника — описан им, Гридиным, короче, чем действия Моторного на легком танке во вражеском тылу. Потом слишком увлекся рассказом о патриотах Сибири. И, наверное, получилось, будто уральцы — в стороне от патриотических начинаний. Видимо, надо было подобрать местный материал.
Ныли раны. Он поискал глазами, где бы присесть, но подростки и даже пожилые люди сидели на подоконниках, на полу, в проходах между рядами скамеек.
Слушатели и не расходились, и не заговаривали, как это иногда бывает после выступления незнакомого докладчика.
Гридин, переминаясь с ноги на ногу, обратился к залу:
— Может, у кого-нибудь есть вопросы?
К немалому удивлению политрука, жители поселка заговорили совершенно о другом:
— Какой фронт больше — в германскую или в нонешнюю войну?
— Буржуи Америки и Англии всерьез или для отвода глаз толкуют о выступлении против Гитлера?
— В чем фронтовики нуждаются? Хватает ли оружия, патронов?
— По каким нормам в армии выдается продовольствие?
— Как относятся немецкие коммунисты к войне, развязанной Гитлером?..
Докладчик устал, выдохся, но не оставлял без ответа ни одного вопроса.
С полу поднялся, скрипя протезом, пожилой человек.
— Вы говорили о зверствах оккупанта… Непонятно, что он этим хочет доказать?
— Вообще, что такое фашист? — поторопился дополнить чей-то густой бас.
В зале прокатился легкий шум. После паузы Гридин заговорил:
— Итак, что такое фашист?.. Соедините дикаря-людоеда, самого мрачного инквизитора средневековья, меднолобого тевтона, типичного пруссака-солдафона… Вспрысните под кожу этого чудища лошадиную дозу сыворотки, приготовленной из слюны и крови сумасброда Гитлера, и получится фанатик-фашист.
Сверх ожидания, в зале прорвался гул одобрения. Нашлись охотники прокомментировать ответ докладчика.
Выступил белоголовый старичок с карандашом за ухом — учетчик с лесоучастка. Самообольщаясь популярным разъяснением слов «инквизитор”, «тевтон», он бойко сделал заключение:
— Ясно одно: фашист — это бешеная тварюга, которую надо прикончить как можно скорее.
В центре зала поднялся могучего сложения человек с окладистой бородищей. Гридин узнал в нем носильщика с пристани.
В притихшем зале зазвучали твердые, веские слова:
— По нонешнему времию в речах мало проку. Надо делу быть.
С подоконника раздался голос:
— Дай срок, будет прок.
— Не перебивай, Архип. Мы тута с дедком, — он показал на соседа слева, такого же бородатого, как и сам,- уже третий раз, сынок, слушаем твои доклады… Когда ты выступал в Оханском Доме культуры, у нас возникло к тебе важное дело, но не обратились — больно много в зале было незнакомого народу. Сегодня приехали следом за тобою в этот поселок. Это наша отчина и дедина. Здесь я, как дома, прямо спрошу: сколько стоит боевой конь, на котором, как ты сказывал, осветил свой геройский путь наш дорогой земляк уралец политрук Захаров Ефим Ильич?
Гридин опешил от неожиданности. Потом, собравшись с мыслями, ответил:
— Приблизительно, тысяч двести пятьдесят.
— Да… — вздохнул старик и принялся энергично теребить бороду. Вопросительно посмотрел на товарища слева.
Тот с таким трудом провел ладонью по своей бороде, будто она была из стальной проволоки. И отозвался еле слышно:
— Брать тяготу невмоготу? Нет, не сила.
— А ты? — перевел взгляд на вертлявого соседа справа.
Но и тот сник, низко опустив голову. Зал напряженно ждал. После минутного раздумия старик сжал бороду в кулак. Глаза молодо блеснули:
— А скажи-ка, сынок, какая цена той маленькой танке, на которой, по твоим словам, водитель Моторный Иван Митрофанович забрался в самое нутро захватчика, засел в его печенках?
— Сто тысяч.
Все трое встали, вытянулись по-военному. Средний твердо сказал:
— Передай, товарищ политрук, своим танкистам, что мы положились по нонешнему времию подарить вам танк.
В зале поднялся шум:
— Ну и деды! Такой подарок фронту!
— Вот это дело!..
— А что мы хуже рубцовцев?
— Не хуже, но те затеяли сбор средств на целую танковую колонну, и назвали ее «Алтайский комсомолец».
— Должно, там — молодежь… Есть, кому и за рычаги взяться. И мы не лыком шиты…
Кто-то из тройки выделился бойким, подчеркнуто молодецким голосом:
— … И сядем в наш танк экипажем. Поедем на фронт, и лично вручим боевую машину лучшим танкистам с наказом отомстить врагу за смерть нашего земляка.
— Не знаю, как и благодарить вас, — проникновенно произнес Гридин.
— По нонешнему времию, не трудись, сынок, с благодарностями. Мы за подарок требуем отдарок — разгромите проклятого оккупанта!
В зале разразился гром аплодисментов. Прорывались голоса:
— Вот это настоящие танковые шефы!..
— Как в песне: «Три танкиста, три веселых друга…»
— Не зря бородачи вторую неделю шушукаются.
— По секрету заговор против Гитлера оформляли.
Они этот заговор зачали еще в молодости, когда работали втроем на золотом прииске. Помнится, вели длительную тяжбу с германом — управителем из-за какого-то золота.
Известно, работяги свое требовали, а живодер — иностранец спервоначалу обещал процент за открытие золотоносной жилы, но потом норовил не сполнить обещание. Частично только ублаготворил…
— Молодцы, трудяги. Не профинтили золотишко.
— Берегли про черный день. И, вишь, употребят теперь против фашиста.
— Кум! А кум!.. Надо и нам подумать…
С задних рядов послышался густой бас:
— Мир, дай сказать. И меня раззадорило… Товарищ политрук, кажись, ноне танковый экипаж увеличился… Имею желание стать четвертым танкистом. Не за так… Говорю предметно: во что обойдется комплект снарядов для танка?
Гридина никогда не занимали цены, он их не знал. Что делать? Не хотелось показать свое невежество. Главное, надо было как-то поддержать ценный почин. И он начал издалека вслух рассуждать:
— Командир как-то нам говорил, что кто промажет из танковой пушки, тот, кроме всего прочего, сожжет пару хромовых сапог. Вот вам стоимость одного танкового снаряда. Ее надо умножить на боекомплект… Выходит, примерно, сорок две тысячи рублей. Плюс патроны… Да, виноват, эти подсчеты веду для среднего танка Т-34.
— И правильно делаешь. Это наша лучшая уральская машина, — и широкоплечий детина с пустым рукавом стал протискиваться к старикам. — Нужда цены не ждет.Я уже всех опередил расчетами и порешил: докладаю до легкого танка ровно столько, чтоб получилась красавица тридцатьчетверочка, и загружаю ее комплектом боеприпасов. Вот теперь есть из чего и чем бабахнуть по бешеным колбасникам!
Зал загремел новыми аплодисментами. Люди ликовали:
— Силен наш старатель Прокоп. Медведя победил в лесу ценою своей руки, а Гитлера хочет достать стальными гусеницами и снарядами.
— И достанет. Взялся за важнецкое дело. Святой долг сполняет.
— Браво! Дельные объявились четыре танкиста! И самый новый танк знают. Военную тайну постигли. Видать, с военными знакомы…
— У нас, уральцев, с фронтом и лен не делен.
— Верно! Дружба…
— Это главное. С ней танковый экипаж на фронте нерушим.
В постановлении стихийно возникшего собрания поселка был один пункт: «Усилить помощь фронту. Поддержать почин — начать сбор средств на постройку танков».
Гридин вернулся из пропагандистской командировки в госпиталь. И с ходу выступил в своей палате с отчетом о поездке. Пришли выздоравливающие из других палат. Просторное помещение превратилось в Ленинскую комнату. А краткое сообщение политрука вылилось в продолжительное собеседование не только о делах в тылу, но и о положении на фронтах Отечественной войны. Люди слушали Гридина, не отрывая глаз от географической карты Европейской части СССР. Территории, южнее Ленинграда, Белоруссии, западнее Москвы, всей Украины испещрены пометками цветными карандашами, загрязнены подчистками, исправлениями надписей. Замусоленные участки карты, с подклеенной с оборота марлей, вытянулись с запада на восток темным клином, вершина которого упиралась в крутую излучину Волги. Фронтовики горячо обсуждали военные события, положение в тылу.
После отбоя Гридин долго не мог уснуть.
Гридин замялся. Машинально заложил пальцы под ремень и согнал назад с живота и боков складки гимнастерки.
— Вас не долечили?
Его руки опустилась по швам. Стройная фигура с тонкой талией вытянулась по стойке «смирно”. Выстиранное и тщательно отутюженное обмундирование, начищенные до блеска металлические части портупеи, зеркальный глянец хромовых сапог — весь внешний здоровый вид говорил сам за себя. И в то же время на лице — некоторое замешательство.
— Виноват. Мне думалось, что медицинский вопрос вчера был решен комиссией госпиталя с вашим участием.
Военный комиссар госпиталя неестественно согнул свою левую руку в локте, достал двумя пальцами в черной перчатке из папки какие-то бумаги и вышел из-за стола.
— Нет, мой вопрос к вам шире медицинского.
Бумаги насторожили Гридина. Но в простом, открытом взгляде военкома была искренняя готовность принять участие в разрешении каких-то затруднений.
Политрук нетерпеливо сказал:
— Я узнал, что госпиталь отправляет меня в Горький, в резерв.
— А вы куда хотели?
— На Волхов. К боевым друзьям. Получил письмо — меня ждут. Направьте туда.
— Ваше желание вернуться в родную танковую бригаду мне понятно. — Комиссар поправил очки и продолжил: — Тут два письма касательно вас. В одном из них наши уральцы — инициаторы патриотического почина — просят командировать вас вместе с ними — «четырьмя танкистами» — на завод для получения танка, и затем — на фронт.
— Тогда надо сразу же ехать!
— Не горячитесь. Я сегодня созвонился с компетентными товарищами и выяснил, что боевая техника, изготовленная на средства трудящихся, направляется на фронт не самостоятельно, одиночными машинами, а централизованно.
— Понятно.
— А теперь послушайте второе письмо, — и военком стал читать:
— «Командование танковой бригады просит отправить после выздоровления в нашу часть политрука Гридина Константина Николаевича. Всякий раз, возвращаясь из разведки, он доставлял ценные сведения о противнике. В бою проявлял мужество и отвагу…»
Гридин не мог сдержать смущенной улыбки — уж очень высоко оценивали его боевые дела, казалось, что по сравнению с товарищами — фронтовиками, он не так уж много сделал. И решил, если вернется в бригаду, то непременно попросится в экипаж танка.
— Что скажете?
— Думается, что данная мне характеристика — не столько оценка настоящего, сколько щедрый аванс на будущее. Прошу дать указание быстрее выписать мне проездные документы до Волховстроя.
— Больно ты горяч, — произнес комиссар, перейдя на «ты». — Похвально, что вы хорошо воюете, — от «вы» опять повеяло официальностью. — И здесь не сидели, сложа руки — танк заработали. Но… Мы не распределяем выздоровевших военнослужащих, по воинским частям. Придется вам все же ехать в Горький. В ваш пакет мы вложим письмо командования. Там разберутся. Спасибо за содержательные беседы, доклады, политические информации. Доброго пути.
Настало время отъезда. Гридин завернул в газету сухой паек, перевязал сверток бинтом, ощупал в кармане сопроводительный пакет, и на этом закончились недолгие сборы в дорогу. Простился с врачами, медсестрами, больными по палате и направился к пристани.
От порывов ветра скрипели деревья.
— Это похоже на бегство, — услышал сзади знакомый голосок.
Круто обернулся. Люся! Она протянула ему руки. Ее губы подергивались.
Чувствуя свою вину, он пытался объясниться:
— Извини. Я вас… тебя искал и не нашел. Спешу, боюсь опоздать.
— До отплытия парохода еще пятнадцать минут. Не убегай так торопливо…
— Спасибо, Люсенька, за добрые слова, чувства…
— Ты очень изменился. Похудел или возмужал… А через время совсем станешь неузнаваем. Подарил бы фото на память.
Позади осталась набережная, крутая и узкая лестница. Возле трапа толпились пассажиры. До отхода — семь минут. Гридин достал из кармана маленькую любительскую фотокарточку и, черкнув несколько слов на обороте, проставил дату: «12.09.1942 г.н
Люся взяла карточку и спрятала ее в боковом кармане куртки.
— Очень, очень благодарна… — Ее глаза блестели. — На всякий случай запомни… и она назвала свой пермский адрес.
По лестнице сбегала Марина с белым свертком под мышкой. Приветственно взмахнула рукой, что-то крикнула. Но слова заглушил гудок парохода.
Гридин шагнул на палубу.
— Ой, чуть не опоздала, — сказала Марина, запыхавшись.
— В таком случае, мне легче — не я один…
Еще один скрипучий гудок.
— На, возьми, Костя. Мама передала тебе на дорогу пирожки и наш ленинградский адрес. — Марина протянула светок. — Желаем тебе успешно прорваться к Ленинграду. И помни, что у нас ты всегда будешь желанным гостем.
Ее длинные ресницы часто-часто заморгали, пряча увлажненный блеск глаз.
— Твоя мама позаботилась. А я ничего не подарила Косте на память, — проговорила Люся.
Гридин обернулся к ней. Встретился с чистыми голубыми глазами и подумал: «Мы расстаемся друзьями. Значит, обменялись бесценными подарками».
Он взял за руки девушек и ласково пожал их маленькие теплые ладони.
Пароход забил плицами по воде, зашипел паром. Пристань стала отдаляться.
Гридин помахал рукой:
— Не поминайте лихом!
Девушки отвечали наперебой:
— Вспомним добром.
— Не забывай. Ждем… А, может, и мы скоро за тобой вдогонку, на фронт…
Пристань уходила все дальше и дальше. Вместе с ней удалялись Марина и Люся — такие похожие и непохожие друг на друга.
Он почувствовал, что проходят минуты, которые никогда не возвратятся, как не потечет вспять вода Камы из Волги.
Гридин взбежал на верхнюю палубу. Видимость с нового места не улучшилась. За кормой бушевали серые волны с белыми гребнями. Под пасмурным, облачным небом река выглядела мрачной и холодной.
На разгоряченное лицо Гридина упали ледяные капли дождя.
Искры вспыхивали над трубой и сразу же гасли во тьме.
Пассажиры кутались от сырости и холода, а Гридину было жарко. Он перешел на корму, поглядел на бурлящий фарватер Камы, на смутные берега, размытые дождем и мраком. Потом нашел среди ящиков под брезентом укромное местечко, уселся поудобнее и задремал.
Проснулся от хриплого гудка. Остановка у крохотной пристани с надписью «Елово». Справа, на высоком берегу — две ели, точь – в — точь такие, как те, что на оханском усеченном холме. Любопытно…
Гридин сошел на берег, хотелось сбегать на почту и дать Люсе и Марине телеграммы.
Через несколько минут девушка в почтовом окошке подсчитывала количество слов в телеграммах.
Гридин торопил:
— Скорее, гражданочка, иначе, если я не успею на пароход, то придется искать попутный транспорт.
— Не беда. Дадим приют на ночь. Потом нагоним, — задорно сверкнула из-за перегородки телеграфистка чуть раскосыми глазами.
Но он успел.
Речное путешествие продолжалось целые сутки. Берега по-прежнему выглядели унылыми, неприветливыми. Примелькались тяжелые, суровые волны за кормой.
Шагая вдоль перил по палубе, Гридин думал: «Куйбышев радом… Жаль, что не по пути. От маршрута не отклонишься. Да и Надя, видимо, уже окончила курсы и уехала к месту назначения».
Настроение было неважное и по другой причине. Хотелось есть, а сверток с пирожками и сухим пайком забыл на почте в Елово. Хоть бы добраться до какого-либо военно-продовольственного пункта.
Наконец, впереди, показался крутой берег, с которого спускалась к реке ступенчатая красная стена. На фоне современныхзданий резко выделялась белая старинная башня.
На палубе чей-то бас с гордостью возвестил:
— Кремль. Горький.
В штабе резерва политсостава Гридин получил документы в свою танковую бригаду, и по пути должен был сопровождать команду бойцов в Пермское пулеметно-минометное училище. Именно в этом училище находился теперь Яша Зеленков, от которого перед самым отъездом из госпиталя Гридин получил письмо.
Сдав в училище горьковскую команду, Гридин остался в комнате дежурного ждать Зеленкова.
Дежурный вскоре появился с неожиданным сообщением:
— Сержант Зеленков убыл добровольцем под Сталинград.
«И Надя, возможно, под Сталинградом», — подумал Гридин.
Он долго бродил по городу. До отхода поезда в сторону Волхова оставалось 12 часов. Было воскресенье. В этот день Люся собиралась приехать к родителям. Вспомнил адрес… Но нет! Медленно, чтоб как-то скоротать время, отправился на вокзал.
Наконец, в три часа ночи — посадка.
Место Гридин занял у окна. Кто-то опустил оконную раму и в вагон ворвались свежие, бодрящие струи воздуха.
В Вологде опять переформирование поезда.
Гридин на нижней полке ворочался с боку на бок, стараясь улечься поудобнее — побаливала рана.
В дверях послышался шум, усаживались новые пассажиры.
— Ой, чуть не опоздала.
— А я и за кипятком успела…
В вагоне началось оживление.
— У-у!.. Порядочек! — нараспев прозвучал тенорок с верхней полки. — Вот это спутницы! С «кубарями», «пилами»… — И сапоги грохнули об пол. — Вы докуда следуете, черненькая?
— Дотуда, что и вы, — смеясь, ответила девушка.
Гридин шевельнулся под шинелью. Голос показался знакомым. Рядом топали, двигали вещи, разговаривали.
— Сюда, к окошечку, садись, сестричка. Вот здесь, у стоп-крана, удобное местечко, чернявенькая.
— Нет, русявенький, у вас там и без меня тесно. А вот молодой человек мог бы отдыхать наверху, — прозвучал над головой Гридина все тот же мелодичный знакомый голос.
Он сбросил шинель, встал и вдруг…
Девушка удивленно и радостно воскликнула:
— Костя! Неужели это ты, Костя?!
Гридин прокашлялся, что-то мешало говорить.
— Надя!.. Здравствуй, Надя! Вот это встреча!..
Он даже не решился взять ее руку.
Радостные, растерянные смотрели они друг другу в глаза и не двигались.
Пассажиры с улыбками поглядывали на них, догадываясь, что для молодых людей значила эта встреча.
— Ребята, давайте на свои места, — негромко произнес ефрейтор с усиками. И уже шутливо добавил: — Гляди-ко, еще к кому-то подсядет землячка.
Надя сняла шинель, хотела повесить на крючок. И только тут Гридин опомнился: схватил у нее шинель, усадил девушку к окну.
Она, улыбаясь, показала на место возле себя. Когда он поправил на себе портупею, разгладил складки гимнастерки под ремнем исел, Надя тихо проговорила:
— Похудел, побледнел… Наверное, был ранен?
— Царапнуло маленько. Подлечился. Вот и возвращаюсь из госпиталя. А как ты?
— Как все. Училась немного. Теперь буду помогать вам, фронтовикам.
Она помолчала, глядя на Гридина так, будто хотела обнаружитьследы ранения, сама не ведая того, что земляк сразу заметил иной след, след пережитого — у нее над переносицей чуть прорезаласьтонкая морщинка.
— Мне почему-то всегда казалось, что мы непременно встретимся, — сказал Гридин и ласково коснулся ее руки.
— Не поэтому ли ты уехал в армию, не простившись?
За шутливым тоном Гридин все же различил укор.
— Ты уж прости, Наденька, что наш отъезд в армию не был обставлен традиционными проводами. Может, и лучше — не было лишних слез. Нас с Петром даже родственники не провожали.
— А как Петро? С ним все в порядке?
— Если не считать, что Вера вышла замуж…
— Да. По-всякому бывает.
— Наденька, расскажи, наконец, как жила все это время. Пришлось, наверное, хлебнуть горячего до слез.
— Хлебнула, Костя, всего… — И она рассказала, как морем, под бомбежкой эвакуировалась с матерью из Одессы.
— Потом в Куйбышеве окончила ускоренные курсы медсестер. И вот, — Надя коснулась рукой санитарной сумки.
Гридин, затаив дыхание, слушал и смотрел на Надю, узнавал и не узнавал ее. В военной форме она казалась строже. И оттого, что лицо было загорелым, обветренным, с шелушащейся кожей, она мало походила на ту изнеженную девочку, какой знал ее Гридин.Но, странное дело, именно такой она стала ему как-то ближе, родней, чем та, о которой столько думал.
— Ты будто все не веришь, что это действительно я, — проговорила Надя, чувствуя на себе его пристальный, как бы изучающий взгляд.
— Ты очень изменилась, — и едва слышно добавил: — родная.
И это неожиданно услышанное ласковое слово, которого не былов лексиконе прежнего, важничавшего своей волей и деловитостью мальчишки, произнесенное теперь этим много повидавшим человеком вдруг сблизило их больше, чем прежние встречи.
Она опустила голову, чтоб не заметил он навернувшихся на глаза слез. И коснулась лбом его плеча. В эту минуту она подумала: еще будет у них радость, будет счастье. Как только кончится война, вернется то прежнее, светлое… Они доскажут то, что не успели сказать, и продолжат то, что было оборвано войной.
Надя подумала о письме, переданном Клаве, и поняла, что та не вручила его Косте. Теперь Надя окончательно убедилась в этом.И хорошо, что Костя не читал письма и не выслушивал суждений третьих лиц о сокровенном. Могли бы возникнуть недомолвки, взаимные упреки. Все это пустяки по сравнению с тем, что сидят они сейчас рядом. Правда, он даже обнять ее за плечи не может — столько вокруг посторонних людей. Но все равно они будто молча, объяснялись в любви, особенно после его так нежно сказанного слова «родная”.
Почти одновременно они снова взглянули друг другу в глаза.И без конца длился он, этот взгляд.
— Гм, — улыбнулся Гридин.
— Ты чего? — негромко спросила Надя.
— Вспомнил, когда мы спешили быть взрослыми и вели наивные, совсем детские дискуссии.
— Но однажды ты похвалил меня за то, что я остроумно высмеяла мечту обывателя: удовольствие — синоним счастья.
— Что мы тогда знали о счастьи?
— А ведь счастье и в том, что мы сейчас вместе, — нежно сказала Надя. — И в том, что движемся в одном направлении, и в том, что можем сколько угодно смотреть друг на друга.
Послышался голос проводника:
— Волховстрой, конечная.
— А как же… Званка? — словно очнувшись, тревожно спросила Надя. — Мне нужно было выйти на станции Званка, товарищ проводник.
— Успокойся, сестричка. Что Волховстрой, что Званка — одно и то же.
— Неужели так скоро доехали? — огорченно проговорил Гридин.
— А ты бы хотел…
— … чтоб наша дорога никогда не кончалась.
Он снял с крючка шинель и, помогая ее надеть, сжал плечи Нади.
На какие-то секунды они замерли. И оба подумали об одном и том же: хоть бы не было это объятие, это прощание последними.
Танк с белыми буквами на башне «Урал» вышел на исходную.
Словно живое существо, он вздрагивал, преисполненный скрытой энергии и ярости. Моторный выкатился из люка механика-водителя. Осмотрел гусеницы, катки. Нежно похлопал ладонью по переднему броневому листу, как наездник по холке рвавшегося на скачки коня, одобрительно кивнул головой: «Порядок»! и нырнул на свое место.
Гридин долго не отрывался от смотрового прибора.
Впереди танка расстилалась обычная для Приволховья равнина, покрытая жидким кустарником, среди которого прятались вечно не просыхающие болота. Вон они, зловещие бочаги: одни замаскированы бархатистым мхом, другие зеленеют зарослями осоки с вкрапленными темными кочками, третьи поблескивают водой… Бр!…
Танкисту вспомнилась ледяная ванна. Накануне, изучая ночью вместе с Трояном и механиком-водителем маршрут атаки, он еле выбрался из торфянистой вязкой жижи. Друзья помогли добраться до ветвей лозняка. Зуб на зуб не попадал от купания под холодными люстрами вражеских ракет. А теперь в танке вспотел, но обмундирование, казалось, до сих пор не просохло и попахивало болотом.Нет, экипаж не жалел усилий, потраченных ночью. Весь девятисотметровый путь сближения с противником ползком изучен до мелочей и обозначен вешками. За болотом, на возвышении, у самого переднего края обороны противника, саперы сделали проходы в минных полях. Правда, в таких местах — ни лес, ни поле — могут быть сюрпризы: волчьи ямы, кочующие орудия… Главное, зацепиться бы гусеницами танка за твердую супесчаную почву. А далее болота — союзник, они скуют маневры врага.
Троян чихал — то ли насморк после ночной разведки, то ли раздражал запах гари /просушивая гимнастерку, он подпалил рукав/.
— Этот участочек следует проскочить на хорошем газку, — сказал механик-водитель Моторный. Обращаясь к мотострелкам, добавил:
— Ребята, махнем с ветерком, держись на броне покрепче.
— И ты, Ваня, гляди в оба, а зри в три, — подсказал радист — пулеметчик Троян.
— Не заденьте гусеницами пехотинцев. Следить за ориентирами, сигналами… — предупредил командир танка.
Танкисты были довольны тем, что пехота заранее сосредоточилась перед окопами противника и обозначила себя вешками с пучками сена над брустверами.
… Семнадцать часов. Время необычное для начала наступления. Активность на фронте с обеих сторон заметно снизилась.
Над опушкой леса зашипела ракета. Светящаяся дуга изогнулась в сторону противника и в конце расцвела красным огнем. Сигнал: «Вперед”!
Командир «Урала» подал команду.
Механик-водитель стал медленно выводить танк из лесу, не ломая деревьев, чтобы не задеть бойцов. На просторе, сразу увеличив скорость, Моторный начал обгонять другие тридцатьчетверки.
Танки неслись с металлическим скрежетом и ревом, рассекая предполье.
Командир батальона потребовал:
— Держать по «Уралу»!
Водитель тридцатьчетверки с белым треугольником на башне злился:
— Несется этот Моторный… Молчаливый колдун воображает, что сел за рычаги танка — легкача. Сейчас его одернут …
— Слушай ухом… Командир требует не отставать, — настойчиво посоветовал водителю рядом сидевший радист-пулеметчик.
— Ориентиров не вижу. «Урал» дымит, швыряется из-под гусениц комьями земли, обломками сучьев, травой…
Слова заглушил сильный боковой удар в корму. Тридцатьчетверка с белым треугольником на башне загорелась.
Гридин и Троян впились глазами в смотровые приборы. Но не могли обнаружить вражеских огневых точек. И нервничали. Шутка ли, только очутились в экипаже новенького танка и уже в атаке, и на главном направлении их встречает невидимый враг, как змея подколодная. Ночью разведывали… И вот еще не обкатанная тридцатьчетверка соседа уже горит. Вон оно как дела поворачиваются. А думалось-то совсем по-иному…
— … — Мечтаю атаковать врага в роли любого члена танкового экипажа.
— Так-таки «любого”… Может, отдадите предпочтение чему-то определенному? — спросил полковой комиссар Кузнецов.
— Скажу, как понимаю: в руках механика-водителя — боеспособность танка, жизнь людей, судьба выполнения экипажем задачи.
— Вон как! А мне до сих пор казалось, что вы опять хотели вернуться на должность командира танка.
— Правильно. Но прежде чем командовать экипажем нового танка, надо отлично изучить этот усовершенствованный вариант машины, постигнуть все тонкости управления ею в бою, набить, что называется, руку за рычагами управления.
— Теперь понятно, почему вы так усердно тренировались в эти дни на танкодроме, полигоне. Довольны новой уральской машиной?
— Очень. Заводская регулировка агрегатов безупречна. Я же сидел за рычагами Т-34, подаренного нам четырьмя уральцами. А они просили сообщить о первом бое. Как же теперь?..
— Командование направит им благодарность. И знаете что… Сфотографируйтесь возле тридцатьчетверки на фоне надписи «Урал” и отправьте друзьям карточки.
Помолчав, Гридин негромко сказал:
— Помогите мне вернуться в танк. Тянет к тому оружию, с которым начинал войну. — Встретившись с взглядом старшего начальника, он подтянулся. — Товарищ полковой комиссар, все понял! Приказы в армии не обсуждают, а выполняют. Поэтому готов воевать там, где найдет нужным командование.
— Да. Чувство профессиональной гордости. Хотя по штату вам, помощнику начальника политотдела бригады по комсомольской работе, и не предусмотрено место в составе танкового экипажа — знаю, что при необходимости, можете заменить в машине любого из четырех танкистов — разрешаю принять участие на новом танке в первой атаке. Опробуете, испытаете боевые качества уральской машины. И покажете пример действия танкиста в бою. Теперь, надеюсь, будет, о чем написать на Урал, после боя, конечно.
Жесткие черты лица Гридина смягчились. Ему уже виделся силуэт красавицы-тридцатьчетверки.
После окончания беседы с экипажами батальона на тему: «Уральские комсомольцы — фронту”, Гридин, Моторный и Троян полулежали на куче березовых фашин — связки прутьев. Друзья рассматривали причудливые тени, которые отбрасывали облака на светло-зеленый луг.
Моторный вытянул руки вперед, сжал кулаки и, как бы беря на себя воображаемые рычаги управления танком, приподнялся. Удобно уселся, немного ссутулился, как обычно в кресле механика-водителя, опустил ноги с хвороста на землю и привычно включил «массу».
— Капитан Ермак после госпиталя работает в штабе батальона, — сказал он. — Кого нам посадят командиром? Не тебя ли, Костя?
— Не отказался бы. — Гридин вытянул шею, прислушиваясь к дальнему рокоту тридцатьчетверки.
Троян рассматривал Гридина в профиль, вспоминая недавний разговор о встрече с Надей. И задумался. Да, брат, изменился ты, но только внешне. И надо же … Ехал с Надей в одном вагоне. И только ступив на волховскую землю, ты побежал к знакомому коменданту станции уточнить, где лучше платформа для разгрузки танков — в Волховстрое или в Войбокало? Но не догадался ты, странный человек, выяснить, как Наде добраться до «хозяйства», обозначенного в ее предписании, не договорился с ней о переписке. И укатила она на санитарной машине в Н-ском направлении, а ты — на товарняке в Войбокало. А меня — и, очевидно, себя — успокаивал: дескать, главное, что мы теперь с землячкой рядом; а на Волхове развернутся радостные события, в ходе которых встретимся с Надей. Человек живет завтрашним днем…
Размышления Трояна нарушил Ермак. Он неожиданно вырос передними. Моторный ухмыльнулся: капитан после ранения ходил быстро, подчеркнуто легко. Видимо, этим хотел доказать, что ему давно пора в строй, штабная работа — не его стихия.
— Погреемся. Здешняя осень не балует солнечными днями. — Он достал из кармана пачку «Пушек”. — Угощайтесь. Сегодня проездом со станции был в военторге — разжился тройным одеколоном, душистым куревом.
Все закурили. Гридин в присутствии опытного танкиста начал выяснять отношение Моторного к больному, весьма щекотливому делу.
— Ты, Ваня, полсотни раз ходил в атаки. Получил орден. А вот, каково твое мнение о танковом таране?
— Читал… Слыхал… — будто о чем-то очень трудном вспоминал Моторный. — Да и видел, как тридцатьчетверка старшего политрука Захарова разрушила на своем пути инженерные препятствия, аж до огневых позиций вражеской полевой артиллерии. И там носилась факелом до тех пор, пока не перевернула вверх тормашками все орудия. Вот Троян — живой свидетель и участник этого события.
Троян не стал уточнять — ему нравилось допущенное водителем преувеличение. «Значит, подвиг Захарова становится легендой», — с гордостью подумал он, кинув предостерегающий взгляд на друга детства: «Догадываюсь и поддерживаю, но не забывайся, земляче: Ваня — не тот «пожарник», который считает, что можно потушить пламя на своей машине ведром бензина. Он после боя часами зализывает царапины на ней».
— Я имею в виду не вынужденный, а расчитанный удар, — уточнил Гридин.
— Речь идет не о лебединой песне, а о соколиной атаке с налета, — добавил Троян.
— Вы говорите о редкостном тактическом приеме, — сказал и глубоко затянулся папиросным дымом капитан Ермак. Помолчав, продолжил:
— К нему надо заранее готовиться. Таран — очень рискованный вид боя. В первой мировой войне только русские летчики умели таранить противника.
— Они, должно, не жалели машину, — буркнул Моторный.
— Засиделись мы на переформировании. А меня засосала штабная работа, — сдвинул Ермак кистью руки фуражку с затылка на лоб. – Что поделаешь? Уже полмесяца на положении выздоравливающего корплю над картами, схемами. У меня была идейка… Но что там мне без машины языком молоть — пустая таранта.
Из лесу донесся чей-то требовательный голос:
— Капитан Ермак, — в штаб!
— Зовут. Обстановку наносить на карту. Пойду. Бывайте…
Капитан встал и направился к штабной землянке.
Гридин, полулежа, глядел вслед Ермаку. Капитан внешне казался тихим, неторопливым в суждениях. Политрук находил в нем нечто неуловимо привлекательное. И молчание «безлошадного» Ермака казалось очень красноречивым.
Под впечатлением встречи — с танковым асом Гридинстал следить за тройкой советских истребителей, которые стремительно рассекали жидкую паутину облаков. Его лицо, глаза — по оценке наблюдательного Трояна, — как бы говорили: «Видимо, мою земную мечту так же трудно осуществить, как попасть на сидение того счастливчика, что за штурвалом ястребка”.
— Правильно Ермак отозвался о таране, — рассудил Гридин. — Со стороны виднее.
— Мне в течение прошлой недели пришлось обслуживать на полигоне и танкодроме стрельбы, вождение, — с увлечением подхватил Троян.
— Видел тебя, Костя, за рычагами. И мысленно представил себе: вот бы так, на всю железку выжать газ и хряпнуть в бок фрицевский танк, чтоб в нем все хрустнуло. А потом еще эдак, с фертом проехать разочек по обломкам. Мечта!
— А свою машину не изуродуешь? — вставил Моторный. — Сдуру, как с дубу, ударять не шутка. Нужна гарантия, надежда…
— Как без надежды? — искренне удивился Троян. — Надеючись казак на конь садится. Надеючись конь копытом бьет.
Механик-водитель задумался. Ему нравилась логика друзей. Его ум начинал работать углубленнее и быстрее — подобно хорошо отрегулированному танковому двигателю при постепенном увеличении подачи горючего. Он повернул голову к Гридину и заговорил медленно, разделяя слова:
— Скажу тебе, Костя, по чести: у меня давно возник этот соблазн. Даже как-то во сне пережил такие удивительные подробности столкновения с гитлеровским стальным чудовищем, с которыми в жизни не встречался. Снилось, будто я нанес удар по сварному углу фашистского танка Т-111, отчего сразу разлетелись в стороны его три броневых листа. Боковая броня треснула лучеобразно, как стекло. На траву вывалилась масса диковинных деталей; ранее я их не видел.
— Забыл ты, Ваня. Кого я под Волховстроем не мог оторвать от трофеев? Ясно, что после легкого танка тебе нужен толчок.
— Конечно, какой таран возможен без толчка? — поддержал Троян. Гридин приподнялся. Худое лицо разрумянилось. И он «толкнул» сильнее:
— Очень хорошо было бы сделать фото, и послать родителям Клавы. Смотрите, мол, как наши танкисты расплачиваются за вашу дочь. Через листовки распространить бы в тылу противника снимок разбитого «гудериана» — полюбуйтесь, дескать, работой советских танкистов, вот какой винегрет они соображают из фашистской «чудо» — техники.
— Все, Костя. Ты меня так «растолкал», что я уже не остановлюсь.
«Так возникает еще одна форма комсомольской работы на фронте…» — записал в блокноте Троян.
— Я и себя немало растормошил, — сказал Гридин и поторопился было наперерез новому танку Т-34 с белым треугольником на башне, который выдвигался к исходной. — Там есть вакантное место.
— Стой, Костя! — удержал Троян. — Терпение. Посмотри направо.
К ним бежал капитан Ермак, размахивая картой. Слышался егоприподнято-возбужденный голос:
— Экипаж, ко мне! Я возвращен в танковую роту. Гридин, согласен идти в бой на месте заряжающего, моим заместителем?
— Еще бы! — обрадовался тот.
Командир экипажа сел на пень. Развернул карту и начал разъяснять боевую задачу.
Над горевшей тридцатьчетверкой с белым треугольником на башне поднялся клуб дыма с красными завихрениями — взорвался топливный бак.
В это время сержант — десантник сообщил экипажу «Урала”:
— Слева, из-за пожухлого березняка, бьют две пушки. Мы прыгаем с брони на левую сторону. Поможем…
В наушниках шлемофонов послышался голос Гридина:
— Третье орудие — у сухой сосны. Правее, из кустарника режет крупнокалиберный…
— Курсовой, — огонь!.. Водитель, — дави!.. — приказал Ермак.
Короткие очереди Трояна слились с грохотом и треском. Танкс налета разбросал гусеницами искореженные части гитлеровского орудия и шалаш с ящиками, термосами, тюками…
Соседние танки расправились с остальными пушками противотанковой батареи противника.
В глубине обороны «Урал” неслышно свалил легкий жердевой заборчик, замаскированный лапником, и на него глянули жерла двухорудий, установленных на прямую наводку.
— Моторный, — восьмерка! — потребовал командир экипажа.
Механик-водитель чуть довернул рычаг вправо. Танк устремилсяпрямо на ослепляющие выстрелы. Такой маневр — самый безопасный. Ощутимый удар лобовой броней. Т-34 накренился влево. С металлическим скрежетом перевалился через опрокинутое тело фашистского орудия. С новой силой заурчал мотор. Резкий поворот вправо. Дробный стук пулемета. Новый железный толчок. Двигатель будто заглох. Но тут, же мощно взревел. Машина выровнялась. Наперебой заливались то один, то второй танковые «Дегтяревы».
— Смотрите, куда стреляете. Заканчиваю описывать восьмерку.
— Не зацепите огнем своих, — хрипел в наушниках голос Моторного.
— Не очень-то вырисовывай, художник. Слева враги выкатывают еще две пушки. Прицел — четыре… — наблюдая за полем боя, Гридин помогал командиру определять дистанции до целей.
— Осколочный!.. Одного достаточно. Экономить снаряды! Жми, Моторный, у тебя хорошо получается, — дребезжали мембраны от сильного голоса Ермака.
Вражеские противотанковые пушки были уничтожены. Но это еще не означало, что прорвана глубокоэшелонированная оборона. В смотровых приборах танка мелькали десятки солдат в глубоких касках, отсвечивали стеклами какие-то машины, сверкали огневые вспышки.
Командир танкового экипажа с подъемом произнес:
— Теперь для всех работы хватит. У сваленной рыжей сосны — дзот. Осколочным!.. Правее березового шалаша — пехота. Троян, — пулемет!..
С грохотом дергалась назад танковая пушка. Звенели стреляные гильзы. Стучали пулеметы. В танке — дым, дышать нечем. Танкистов бросало из стороны в сторону. Они ударялись головами о броню. Но от сознания того, что гусеницы крушили гитлеровские огневые точки, боль от ушибов как бы притуплялась.
На левом фланге пехотинцы ошеломили врага, пробравшись в его расположение через заболоченное редколесье. И вот стрелковый взвод с восторженными возгласами стал приближаться к «Уралу”.
Лейтенант подбадривал своих подчиненных:
— Смотрите, ребята, что написано на башне танка. Выходит, наш земляк. Здорово кромсает фашистов! А ну-ка, вперед! Очищай, захватывай окопы!..
Гридин обжег руки о горячие гильзы. Заметив, что советских пехотинцев прижал к земле огонь из пулемета противника, он доложил об этом командиру.
Ермак крутнул перископом влево, вправо. Распорядился:
— Троян, ушкварь из пулемета по выступу осинника.
Радист-пулеметчик, наблюдая за результатами своего огня, заметил, что в осиннике начала раздвигаться пожухлая маскировка. Не танки ли?
Гридин после третьего заряжания пушки разочарованно произнес:
— Зря испортили снаряды. Это тягачи.
— Подсчитать бронебойные. Пригодятся, — сказал командир.
Через минуту-другую заряжающий, звеня пустыми гильзами, сообщил:
— Братцы, — ни одного снаряда. Увлеклись.
— Диски! Гранаты!.. — крикнул Ермак. Он решил выйти из боя. И сориентировал механика-водителя: — Под прикрытием вон того завала развернись назад, к стрелковому взводу. Понял?
— Эге, как бы не так, — впервые грубовато возразил Моторный.
— Что за фокусы? Тебя по голове стукнуло?
— Сейчас и вас стукнет…
— У нашего Ивана сорочий глаз, — вмешался Троян. — Справа — фашистские танки! Поворачивают к нам.
— Само собой… Беру курс на средний. Товарищ капитан, прошу разрешения… — начал выводить Моторный Т-34 на цель.
В перископе Ермака показались искусно закамуфлированные три вражеские машины. «Ого! У меня же снарядов нет. Силы неравные. Но без паники. У нас — резервный вид боя…» Оценив обстановку, командир резко произнес:
— Разрешаю, товарищ Моторный.
И экипаж понял все. То, о чем шла речь накануне боя, приобретало реальный смысл.
— Таранить! — крикнул Ермак. — Дать жизни!
«Урал», словно почуяв желание танкистов, со страшным ревом рванул на врага. Казалось, впереди не существовало окопов, земляных насыпей вокруг огневых точек, пней, завалов. Щепки, комья земли, пыль — все это взлетало над полем боя вслед за стремительно мчавшимся Т-34, дополнительно усиливая впечатление неотразимости стального удара.
Гридин еще раз обшарил днище, углы боевого отделения, хотя знал, что все снаряды израсходованы. Надеялся: а вдруг… Затем кинулся к смотровому прибору. Перед глазами мелькало — то ясное небо, то задымленное поле с кустарником. Враги появлялись в течение долей секунды. Они проскакивали далекими призраками и скорее угадывались по частым вспышкам выстрелов. А сближение с ними, казалось, происходило настолько медленно, что Гридин вынужден был, чуть ли не кричать: «Скорее!.. Скорее!..»
В триплексе Моторного на мгновение показались угловатые очертания вражеских танков. Механик-водитель скорректировал движение своего Т-34 прямо на головной. Ощупал ногою педаль сцепления. Уперся каблуком о днище, приподняв подошву над педалью. Крепче зажал в руках рычаги управления. Приготовился в нужный момент выжать сцепление, чтобы от резкого увеличения нагрузки во время удара не вывести из строя главный фрикцион. Даже на миг зажмурился. А «нужныймомент» все не наступал. Нога деревенела. Руки дрожали от вибрации. Создавалось впечатление, будто течение времени замедлилось, а скорость сближения произвольно снижалась.
— Водитель, спокойно. Приготовиться, — услышал Моторный в наушниках голос командира.
Руки и ноги Моторного машинально повторяли движения, отработанные на полигонах, маршах, в предыдущих боях, а также во время тренировки накануне нынешнего боя. Только наканунекомандир танка капитан Ермак, готовя экипаж к атаке, в заключение, будто по-секрету, негромко сообщил:
— Со стороны противника ожидаются танки, по предварительным данным — Т-111. Водитель, когда будешь перегонять машину с танкодрома на исходную, присмотрись к трофейному танку этой марки. Он застрял в кювете, недалеко от мостика с обломанными перилами. Примерься и толкни слегка «гудериана» в угол кормы, для тренировочки.
— Но толкай, Ваня, без условностей, а как в бою,- дополнил Гридин. — Выдержи заданную скорость, закрой люки.
— Совершенно верно, — подхватил Ермак. — Ударь лобовой броней. Если не рассчитаешь, влупишь ленивцем, полетит ко всем чертям твоя ходовая часть.
Тогда Моторный таранил трофей осмотрительно, по всем правилам.
А теперь…
Механик-водитель все увеличивал скорость. В голове на мгновение мелькнула вчерашняя картина сближения с закопченным трофейным танком. И странно: беспомощный неподвижный Т-111 представился водителю реальнее надвигавшегося ныне бронированного чудовища. А, может, и не будет столкновения? Враг струсит, уклонится в сторону, и ты победишь.
Но нет! Разразился грохот. В глазах механика-водителя — тысячи искр. Из рук выбиты рычаги управления. Еще бы! Он мчался, держа вожжи пятисот лошадиных сил, которые своей двадцативосьмитонной грудью обрушились на встречного двадцатитонного врага. Сталь врезалась в сталь. Внутри танка загрохотали стреляные гильзы, пулеметные диски…
Танкисты заранее мысленно приготовились к встряске, но они не предполагали, что она окажется такой тяжелой.
Первый пришел в себя механик-водитель. Ему показалось, что машина сама продолжала двигаться. Тронул ногою газ. Мотор отозвался бодрым баском. Взялся за рычаги… О, удача! Танк со скрежетом переваливался через какое-то высокое препятствие. И сразу как бы спускался в яму. Потом с железным дребезжанием стал выбираться на ровное место.
Сзади осталась груда металла. Бронированный фашист не выдержал. Стальная коробка с крестами на бортах раскололась во многих местах, как ореховая скорлупа, развалилась на пестро окрашенные и замасленные части.
Капитан Ермак нашел в себе силы подтянуться к люку, приподнять его. Танкисты с жадностью глотнули свежего воздуха.
— Водитель, действуй, — поторопил Ермак. — Не ползи, как черепаха. Правый поворот. И — газу! Давай к своим.
Однако, это было невозможно.
Флегматичный механик-водитель сказал:
— Не могу. Нас не пускают.
То, что увидел командир, заставило его поспешно захлопнуть люк. К месту поединка накатывали широкой стеной фашистские танки.
Загремели выстрелы. Вражеские пушки ударили в упор. Башня «Урала» сотрясалась и звенела, будто наковальня. Это так оглушало танкистов, что они совершенно не слышали друг друга.
Капитан Ермак схватился рукою за кровоточившее ухо. Приседая на днище, движением руки распорядился:
— Гридин, командуй!
Гридин прилип к смотровой щели, потом — к перископу. И неистово крикнул:
— Моторный, — на таран!
И где только взялись силы у механика-водителя!.. И как неслыханно бешеный рокот мотора не разнес тридцатьчетверку! И каким законам сопротивления материалов подчинилсь детали, агрегаты — движитель в особенности, — выдерживая невероятные перегрузки!..
«Урал», стреляя отработанными газами из выхлопных труб, понесся в новую атаку. И, обрушившись лобовой броней на угол фашистского Т-111, опрокинул врага в воронку с водой.
Танкисты не в состоянии были понять, что произошло в результате удара.
Сначала — невообразимый грохот, скрежет, звон. Затем — толчок.И все рухнуло куда-то в бездну.
… Люк механика-водителя был полуоткрыт. Снаружи тянуло промозглой болотной сыростью. В танк заглядывала, дрожа и потрескивая, вражеская ракета. В ее холодных лучах все казалось мертвым.
Когда бледное свечение померкло, в отделении управления танка, на приборном щитке, на циферблате танковых часов, среди голубоватой градуировки, угадывалось перемещение светящихся стрелок. Слышалось едва уловимое металлическое тикание.
Моторный шевельнулся. Поднял голову и почувствовал страшную боль. Но, настойчиво превозмогая ее, он перевалился набок. И стал выбираться из сидения, с радостью убеждаясь, что ноги, руки целы.
Он коснулся днища — пальцы погрузились во что-то липкое. Кровь.
А на куче пустых гильз — неподвижные тела. Нащупал чьи-то плечи. Взялся за них и потащил человека к люку.
— Я сам,- еле слышно отозвался капитан Ермак.
Моторный потянулся к остальным.
Старый прифронтовой Шум стал оправдывать свое название.
Еще несколько дней назад Шумский лес казался вымершим. В густом сером тумане темнели голые, мокрые стволы деревьев. Среди них — залитые водою щели, блиндажи, капониры с прогнившей жердевой обшивкой стенок. Всюду — промозглая сырость, запустение.
И вот глухой, дождливой ночью ожили лесные дороги. Гулу моторов вторил металлический перестук гусениц тридцатьчетверок.
В разгар осеннего ненастья танкисты возвращались на свою тыловую стоянку, которую, не успев обжить, покинули в мае.
У шлагбаума спрыгнул с «Урала» юркий радист-пулеметчик Троян.
Гусеничным машинам — левым берегом ручья, к соснячку, — распорядился и показал флажками направо боец-регулировщик в заскорузлой плащ-палатке.
Танк свернул в глубокую болотистую колею, заросшую травой икустарником. Танкист шел рядом. Медленно, нога за ногу. Мокрая шинель топорщилась коробом на онемевших плечах. За шею с берез падали крупные холодные капли. Продрог — зуб на зуб не попадал. А на душе — будто в родной, благоустроенный дом возвращался.
Люди с ходу приступили к восстановлению давно заброшенных, полуразрушенных срубов, навесов, землянок и к строительству новых.
На третьи сутки расквартирование в лесном городке закончилось. К тому времени наступил конец осенних дождей. В воздухе закружились лапистые снежинки. Земля побелела.Ударил мороз.Эти перемены пришлись всем по душе.Танкисты встречали Октябрьский праздник.
Из припорошенной снегом землянки, над которой вился ароматныйдымок, слышалась негромкая песня:
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Эпическим тоном начинался рассказ о встрече боевых побратимов.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
При мерцании коптилки стояли танкисты вокруг свежевыструганного стола, уставленного открытыми консервными банками, котелками с кашей, ломтями черного хлеба.
В жестяной печке полыхали дрова, и отблески пламени ложились на возбужденные лица.
— Э, нет. И здесь нужна воля. У мужчин глаза не на мокром месте, — прозвучал слабый басок Гридина. Он заправил пустой левый рукав гимнастерки под ремень — раненая рука покоилась на перевязи.
— Предлагаю осушить наши фронтовые «бокалы».
Кружки с металлическим звоном соединились над столом.
— Чокнемся, Костя, — сказал Моторный. — Мне и не снилось, что еще доведется… И с тобою, Петро… Как с того света…
— За твое водительское красноречие, Ваня, — произнес Самохин.
— Пусть и в дальнейшем машины разных марок «понимают» тебя с полуслова.
К Трояну — у того из-под нависшей со лба марлевой повязки заморгали влажным блеском глаза — протянул кружку Мотыльков.
— Полно, Петро. Нас учишь терпению, суровости, а сам расчувствовался.
— Друзья, трудно всем сразу высказаться стоя. Петь хорошо вместе, а говорить врозь. Садитесь, светлее и просторнее станет в моих «хоромах». Все заметно выросли… — сказал Гридин и принялся энергично исполнять обязанности хозяина.
— Я, наоборот, чувствую себя ниже, чем на сидении в танке, — отозвался Моторный, вытянув шею.
— А меня еще выше подняла новая песня, — непривычно долго подбирал слова Самохин.
Из раскрытой дверцы железной печки распространялось приятноетепло. Подвижные блики от очага вместе со светом коптилки придавали торжественно-праздничный вид не только обветренным лицам танкистов, но и неприхотливому убранству стола, и всей землянке.
Троян прокашлялся и хмуро сказал:
— Эх, братцы, как жаль, что нет среди нас Кирьякова, нет Захарова… Нет Федота Чапурина… Сколько они могли бы еще сделать! Хорошие были люди.
— Они среди нас и в нас, — добавил Самохин. Взяв котелок с кашей, помеченный надписью «Чапурин»; он снял с него крышку и протянул Гридину: — Налей, Костя. Любил парень на досуге побаловаться. Отодвинься, Ваня, в сторону. Представим себе, что на этих свободных местах сидят рядом с нами боевые товарищи.
— Правильно, — поддержали голоса.
Гридин исполнил желание сослуживцев.
После минуты молчания друзья подняли кружки.
— За наших фронтовых товарищей. Пусть им земля будет пухом. Молча, выпили.
— Да, у них, опытных танкистов, я многому научился, — проговорил Моторный. — А вот, в последнем бою, сознаюсь: на какой-то миг вся прежняя наука вылетела из головы. Когда перед моими глазами замелькал фашистский крест, я разогнал машину, и совершенно не задумался, чем ударяю — броней или ленивцем… Не говорю уж о втором разе. Тогда я был в таком странном состоянии, что, кажется, танк самостоятельно, без меня таранил.
— Не упрощай, Ваня, — вмешался Гридин. — В критический момент тебе и думать было некогда. Ты действовал автоматически, согласно той схеме, которую заранее выработал в своем мозгу и практически закрепил во время тренировочного удара по трофейному танку.
Самохин твердо добавил:
— Главное — в бою показан редкостный тактический прием. Правда, дорого обошлось: Гридина ранило, Петро потерял сознание… А «Уралу” — хоть бы хны.
— Маху мы дали. Не следили за расходом боеприпасов, — рассуждал Моторный как бы про себя. — Когда появились завидные цели, нечем было стрельнуть. А «Урал», хотя и цел, но другой раз лучше я своим лбом пойду на таран. Не согласен гробить такую машину.
— По данным разведки надеялись на одно, а увидели другое, — вставил Гридин. — И зарекаться, Ваня, не следует. Танкист обязан бить врага не только огнем, но и броней. Как приходится.
— Не надо винить кого-то, — попытался смягчить разговор Троян. — Тогда все мы были увлечены. Могло быть хуже, если бы не примчались на помощь к месту поединка Самохин и Мотыльков. Ваши бронебойные проделали смертельные сквознячки в башнях, корпусах вражеских танков Т-11, Т-111 и еще какого-то высокого, угловатого страшилища.
Моторный встал и обнял друзей.
— Спасибо вам, Саша и Гера. Опоздай вы на две-три минуты и фашист мог бы продырявить борта нашей тридцатьчетверки. А кто мы без машины? Никто. И сегодня наши места здесь, за праздничным столиком, были бы пустыми.
— Подымем чары за уральскую сталь, — предложил Гридин. — Из нее сделаны непробиваемая броня и все пробивающие снаряды.
— И за четырех танкистов, — добавил Самохин.
— Выпьем за все танковое племя, — вмешался Мотыльков, лишь бы не молчать.
Самохин решительно встал и твердо произнес:
— Нет, именно за четырех. Я обобщаю. Всю тяжесть танковых боев выдерживают на себе командир танка, механик-водитель, заряжающий и радист-пулеметчик. На этой рабочей четверке держатся все танковые войска. За их успехи!
— Очень правильно! — согласились друзья. — Выпьем также за наш дом, за матерей, за Победу!
Над столом вновь встретились кружки.
— Пора бы уже поэтам, композиторам написать песню о четырех танкистах. Почему молчите? — обратился Самохин к Трояну.
— Разгромим врага, тогда — и новая песня, — ответил Троян. — А пока споемте, друзья «Трех танкистов” — гимн наших предвоенных курсантских будней.
Они сдвинулись тесным полукругом. И зазвучала суровая романтика о делах «экипажа машины боевой»:
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Моторный, ранее не увлекавшийся пением, всю душу вкладывал в слова:
Надвигалась грозная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.
Когда пение стихло, Гридин продолжал выстукивать пальцами по столу любимую мелодию. Потом он сказал:
— Какие бы новые песни ни слагали о нашем роде войск, а довоенные мы никогда не забудем.
Звенели ложки о котелки, консервные банки. Под эти звуки вспоминались острые случаи в боях. Самохин и Мотыльков горячо заспорили.
— Саша, не думай, что Гера глухой, — успокаивал Троян. — Да и ты тоже… Оба норовите перекричать друг друга. А ну-ка, перейдите к теме, которая не требует таких бурных эмоций.
— Петро прав. Давайте поговорим о романах на фронте. — Глаза Мотылькова маслянисто заблестели.
Моторный откликнулся своеобразно: пересел к печке и стал починять висевшую на одной петле дверцу.
— У нашего Геры два чина… — попытался Самохин поддеть Мотылькова, но, встретив выразительный взгляд Трояна, перестроился: — Ладно, пензенский донжуанчик, валяй о романах.
— Хочу, ребята, рассказать вам об одном легком флирте, — оживился Мотыльков. Однако подумал и замялся. — Правда, не очень удачном. Под конец у меня сорвалось. Помнишь, Костя, сдобную пышку в лесу, с поварским черпаком?
— Шипение пара… Лось… — неохотно отозвался Гридин.
— Это детали, в духе Трояна… Главное — после твоего, Костя, посещения у меня с ней лодочка расклеилась. А жаль — девка на все сто. Кстати, Костя, говорят, ты привез в армейский госпиталь старую знакомую. Правда?
— Надя сама приехала. Работает медсестрой, за оврагом, в сосновом бору.
— Неужели?! А ты, сухарь, отлежался в своем медсанбате, и в праздник мурыжишь нас здесь? Веди сейчас же к «помощникам смерти”! Не подкачаю. В окружении белых косыночек, халатиков не стану жмуриться… Понимаешь, после боя нужна разрядка…
— Брось молоть вздор! — возразил Гридин. — Никто из медсестер в эту горячую пору — в госпитале много раненых — не встретит тебя с распростертыми объятиями.
— Так я же и говорю: пусть Надя все подготовит, настропалит подружек…
— Остановись, ветрогон, — оборвал Самохин. — Между прочим, вчера Тоня из Сирокасски заходила в твой блиндаж. Я с ней разговаривал, разъяснял, что ты занят — в наряде… Но она пошла в штаб наводить какие-то справки. Почему ты увильнул от нее?
— Сам твердишь, что на фронте не место крутить романы, — отмахнулся Мотыльков и наклонился к уху Гридина: — О Тоне позже расскажу, только тебе.
— Нечего выкручиваться и прятать голову. Гляди, как бы комсомольцы не взяли тебя на собрании под перекрестный обстрел, — яростно наступал Самохин.
— Эх, братцы, приходится терпеливо считаться с местными условиями. В здешних болотах, бывает, вязнут и наступательные порывы воинов, и благородные стремления сердец… Завьем горе веревочкой. Выливай, Костя, остатки, — старался Троян шуткой унять страсти. — Пригубим напоследок. Может, появится вдохновение опоэтизировать это событие на манер Пушкина:
Владимир-солнце пировал.
Послышались отзывы:
— Так Пушкин воспевал встречу на Руси княжеских гвардейцев.
— И мы скоро станем гвардейцами. Вон соседям уже присвоили…
«Находчивый землячок, — углубился Гридин в раздумье, выцеживая содержимое баклажек. — Любым невзгодам находит объяснения. Я же не могу объяснить себе многое… Почему Надя не ответила на мое письмо? Наверняка читала газету о боевых делах танкового экипажа Ермака. Могла бы поинтересоваться судьбою того, кто под конец боя стал исполнять обязанности командира танка. Ведь в газете не написано, кто и как в экипаже был ранен… Не разъединяет ли нас такое, что и таран не пробил? Что ж, буду ждать — может, откликнется”.
А Троян все «разряжал” обстановку:
— Могу, Гера, тебя выручить. Недавно я отправил письмо своим родным, которое передавало московское радио. Никто из моих домашних не откликнулся. Но вот сегодня получил письмо от девушки, которая решила путем переписки познакомиться с фронтовиком. Она занятно описывает свои привычки, вкусы, взгляды, черты лица, цвет волос, глаз… Колоритная фигура. Могу уступить тебе адресок.
— На кой леший мне бюрократическая переписка? — пренебрежительно фыркнул Мотыльков. — Твоя, Петро, проповедь долготерпения меня не устраивает. Жизнь наша — вон какая:
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега…
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
— Ну, зачем ты, Гера, вырвал из песни только эти слова? — Уставился в Мотылькова Самохин. — И мелодию извратил на свой манер.
Троян подбросил в печку березовых чурок. Языки пламени жадно обхватили их, быстро расцвечивая в алые тона. С торцов скатывались бисерные капли, с шипением исчезая в золе. Затем тихо продолжил песню:
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Помолчав немного, Троян добавил:
— В нашей жизни, Гера, понимаемое, по-твоему, счастье — точно хмель. Оно скоро покидает человека. А надежда — никогда.
Последние слова Троян особо выделил. И обернулся к Гридину.
— Да, Костя, — тихо продолжал он, пользуясь тем, что внимание всех привлекла новая перепалка, возникшая между Самохиным и Мотыльковым. — Иногда самого себя не поймешь. Ты мечтал о встречах с Надей. А встретились только один раз. Но прибавь к своей воле терпение — это ненадолго. Кстати, в письме родным есть строчки о тебе. Надеюсь, мой расчет оправдается: Надя услышит радиопередачу и откликнется. Ты улыбаешься: мол, чужую беду руками разведу, а своей ладу не найду. Откроюсь, как на духу: я иногда бываю в миноре, чувствую, что не хватает сердечного участия…
В гудении, потрескивании фронтового очага друзьям чудилась своеобразная музыка.
— Письма…
Это слово повторять не требовалось.
Танкисты сразу окружали почтальона, и стали раздаваться голоса первых счастливцев:
— Пишет мама. Ее прямой, аккуратный почерк… А — ну как она, одинокая, там живет… Лист сложила треугольником. Не сразу раскроешь.
— А моя Лида — золотые ручки смастерила настоящий конверт из обоев. И заклеила на вечность. Не иначе, как в нем — новые подробности нашей сердечной тайны.
— Братцы, в моем конверте под штемпелями почты, военной цензуры прислан секрет… семейного значения. Поглядите! — И рослый сержант в замасленном полушубке показал мелко исписанный лист из ученической тетради, на котором едва просматривался нарисованный карандашом контур детской ладони с растопыренными пальчиками. — Сынишка! — продолжал сержант. — Внизу приписка: «И эта ручка начинает трудиться». Ясно, сын дает понять, что будет моей правой рукой.
— Будет, если мы с тобой выполним наказ, написанный на оборотной стороне моего конверта, — вмешался автоматчик в фуфайке, высоко подняв треугольник с надписью большими печатными буквами: «Папа, убей фашиста”!
— О, это удивительно верно! Другого выхода нет. Ну, уж моя рука не дрогнет! — резко выговаривал сержант, будто снаряд вгонял в казенник.
Вечером на семинаре агитаторов шла речь о важности налаживания регулярной переписки с родными, близкими, с предприятиями, колхозами, учреждениями. Троян в своем выступлении интересно рассказал о роли писем в становлении танкиста.
Красноармеец Гава под влиянием кинофильмов перед призывом в армию мечтал стать танкистом. Его просьбу удовлетворили частично — определили в мотострелковый батальон танковой бригады.Во время переформирования бригады потребовались расторопные бойцы для обучения их заряжающими. Первым вызвался Гава. Но на первом, же тактическом занятии он так испугался рева танкового мотора и завывания рикошетирующих противотанковых снарядов, что его друзья едва справились с ним — порывался убежать. Об этом Гава проговорился в письме домой. Отец написал секретарю комсомольского бюро батальона. Тот ответил. Завязалась переписка. Гава — старший, ветеран первой мировой и гражданской войны, писал комсоргу Трояну: «Привет всем бойцам и командирам от старого артиллериста! Рад за сына, что приставлен к артиллерийскому делу — учиться заряжать танковую пушку… Вот тебе, Алеша, отцовский наказ: изучи, как следует танковое дело, с техникой вы скорее одолеете врага. Не опозорь моих седин, не посрами чести старого пушкаря. Не трусь в бою! Трус — для фашиста находка… Я воевал восемь лет. Неприятеля не страшился. Немало покрошил чужестранных захватчиков, а сам остался жив».
— Недавно Гава показал мне письмо, — сказал Троян на семинаре, — в котором сообщал отцу, что уже не боится «железного лязга и грохота…» Это — на учениях. Посмотрим, как он покажет себя в бою.
На семинаре выступил Моторный.
— …Переписка свела меня с загадочной личностью, которая заинтересовала не только меня, но и весь наш батальон, — сказал он.
А произошло это так. Меня перевели в новое подразделение и там поручили работу агитатора. Я заметил, что многие танкисты после моих бесед отмалчивались. А лица некоторых выражали: мол, говоришь ты, парень, через пень колоду. И если в бою такой же, датруса сыграешь, то какой же ты агитатор… На бой я только и надеялся. С нетерпением ждал атаки.
И вот наш танковый экипаж получил задание. Огонь — спасу нет. Еле добрались до исходного рубежа. Дальше — заболоченная речка. Я попросил командира разрешения разведать подступы к ней. И в редколесье обнаружил земляной вал осушительной канавы до самой речки, а там, на берегу — куча заготовленных для моста бревен. Ясно, что мы воспользовались такой находкой. Наши танки сделали небольшой крюк и неожиданно атаковали врага с фланга. После боя, во время перекура, новые сослуживцы щедро угощали меня махоркой. А я не упустил случая: провел с танкистами беседу. И еще рассказал о том, как однажды я оказался за рычагами подбитого танка в расположении врага. Возможно, на поле боя и нашлась бы проволока, цепь или даже траки для ремонта ходовой части, но я не мог выйти из танка, и двое суток отбивался от фашистов. «Беседовал», «советовался» только со своей раненой машиной. Когда мы все-таки отбились от противника, танкисты дивились: на каком языке я изъяснялся со своей бронированной красавицей?
А вот работа с массами мне дается труднее. Был случай, когда под конец беседы я вообще остался один. Послушайте.
Раз в беседе на тему: «Железнодорожный транспорт — родной брат Красной Армии» я зарапортовался: возвысил до небес прифронтовой транспорт и умалил значение тылового. Меня ребята засмеяли. Даже в курилку не пригласили. Кинулся я к газетам, журналам — искал нужные материалы. И не находил. Думал, думал и вспомнил маленькую станцию Алчан Дальневосточной железной дороги, где незадолго до войны останавливался наш воинский эшелон. Тогда мне выпало накоротке обмолвиться двумя — тремя словами с девушкой — путевым обходчиком… Вот в скрутную минуту я и черкнул письмецо, не ей, конечно, а железнодорожникам станции Алчан. В ответ мне прислалиинтересный фактический материал — из газеты «Пограничный транспортник”. А на второй день пришло письмо. В нем говорилось о том, что коллектив станции Алчан — путейцы, движенцы — приветствует доблестных танкистов — фронтовиков. Много лестных слов о нас. И немного о себе. Отмечалось, что железнодорожники Алчана еще крепче сплотились, работают четко, и, не считаясь со временем, пропускают маршрутные поезда бесперебойно. Путь — в отличном состоянии. Ну а дальше — заверения, что, мол, железная дорога в тылу будет и впредь самоотверженно помогать фронту. И подпись — Фурман.
Вот вам и загадка. Я обратился к железнодорожникам, а ответ получил за подписью одного человека — мужчины или женщины. Не иначе, думаю, отозвалась моя знакомая. Тем более, что в моем письме была приписочка: мол, привет путевому обходчику или его дочке, которая, возможно, подменяла отца в такой-то день и такие-то часы.
И еще одно: некоторые фразы в письме походили на речь девушки с красным флажком. Стало быть, она могла подменять железнодорожника, который ушел в армию. Мне почему-то хочется, чтоб так было…
На привет Фурмана-патриота откликнулись наши танкисты, и я, конечно. В ответ к Октябрьскому празднику к нам рекой, как из рога изобилия, посыпались поздравления, письма, подарки.
Так я получил обширный, материал о работе тылового железнодорожного транспорта.
На второй день Октябрьского праздника Троян от имени комсомольского бюро написал ответ работникам станции Алчан, в котором благодарил за подарки.
Письмо получилось длинное, объемистое. Троян хотел сам отнести толстый конверт на почту, чтоб не было задержки. Но тут прибежал танкист из его экипажа и вручил письмо.
Троян недоумевал: откуда? Штамп Оханска, обратный адрес — госпиталя, где лечился Гридин.
«Ваше письмо, переданное по радио, очень взволновало нас, — читал он, догадавшись, что речь шла о его весточке родителям. — Из него мы глубже узнали нашего бывшего раненого Константина Гридина, чем во время многих встреч и бесед с ним здесь, в госпитале. Ваш друг немало рассказывал о Вас, Петр Михайлович, о героях фронта, а о себе — ничего.
Конечно, чувствовалось, что он — человек с характером, и теперь убедились…» Дальше высоко оценивалось поведение Кости в бою, где «он опробовал, на что способна уральская машина». Подписано послание буквами: «М. и Л.»
Троян послал за Гридиным. А потом задумался: что даст Косте весточка от далеких М. и Л. в то время, когда близкая Надя молчит? Ничего хорошего. Пожалуй, поступлю так, как в свое время Костя…Во время тяжелых приграничных боев Костя придержал в своем кармане открытку. Он передал злополучную открытку, в которой сообщалось, что Вера изменила, когда танкисты вышли из боев на переформирование. Следовательно, и Косте надо вручить это письмо после того, как он выяснит все с Надей.
В землянку вошел почтальон.
— О, как вы вовремя прибыли! — сказал Троян. — Возьмите этот толстый конверт и с первой оказией отправьте.
Почтальон положил пакет в туго набитый вещмешок и спросил:
— Простите, товарищ сержант, но неужели на одно письмо вы истратили столько бумаги?
— А что бумагу жалеть? — уклончиво заметил Троян. — Важно понятным языком написать о наших чувствах, мыслях, заботах людям тыла.
— Не знаю, хватит ли ваших чувств и бумаги в наших штабах, чтобы ответить всем корреспонденткам, которые вам пишут! — и почтальон высыпал из вещмешка на стол гору разнообразных по форме и цветам конвертов.
— С чего это вы избрали мою землянку, чтоб сортировать почту?
— Это ваша личная корреспонденция.
— Сегодня не первое апреля.
— Официально докладываю, товарищ сержант: все пятьсот писем на ваше имя.
— Неужели каждый из этих конвертов адресован мне?
— Так точно! Первым делом, очевидно, вам надо лично прочесть каждое письмецо… Разрешите оставить вас наедине с женским легионом.
— Нет… Не справлюсь один…
— Я в поте лица тащил сумку и вещмешок. Справился… Ну, и натворили вы дел, — он повернулся к выходу, встретившись в дверях с Гридиным.
— Костя! — устремился Троян навстречу другу. — Ты нужен мне, как воздух. Помоги… — увлекая земляка за рукав к столу, он предвкушал сокровенную радость: а вдруг они сейчас увидят долгожданные письма от родных, односельчан, Вали, Нади…
Оба с нетерпением начали рассматривать конверты со штемпелями Алма-Аты, Владивостока, Иркутска, Томска, Свердловска, Горького, Москвы, Ташкента, Архангельска и многих других городов, поселков, сел.
— Гм!.. — пробормотал Гридин, не найдя того, что искал. — Вскрывай, Петро, и читай все подряд.
Чтение необыкновенной почты увлекало и все больше и больше захватывало друзей. Постепенно они забыли о времени.
Из далекого Казахстана Зара Памирова писала:
”Я слышала сегодня Ваше письмо по радио. Да, это очень тяжело не иметь вестей о семье, потерять на войне хороших
товарищей. Я это чувствую по себе — на войне погиб мой брат, который был моимлучшим другом. В стихотворении говорится:
Если в жизни вас что-то встревожит
Если чем-то нарушен покой,
Непременно вам кто-то поможет
И поддержит вас крепкой рукой.
Проберется к далеким истокам,
Пролетит над истоками рек.
Никогда и нигде одиноким
Не бывает у нас человек.
Вы, Петр Михайлович, не должны чувствовать себя одиноким.Если бы это было возможным, я бы постаралась заменить погибшего друга».
В письме Настасьи Лаптевой, с Урала, были строки, в которых сообщалось, что работницы завода внесли деньги на танк, что они просили Гридина написать, как ему воюется на уральской машине…
«Я поняла всю глубину Вашего горя, — писала Лаптева, — и решила, что Вам должно быть приятно, почувствовать и узнать, что не только родные, но и незнакомые люди думают о Вас, желают Вам счастья и удачи”.
Волнующими, откровенными, сердечными оказались слова Лены Неделиной из Улан-Уде:
«Сегодня я получила письмо из Действующей Армии. Тяжело было его читать: погиб мой друг, которого тоже звали Петром. Я в глубоком раздумьи сидела у окна и вспоминала те счастливые минуты, которые мы провели вместе с Петром. В это время по радио стали передавать Ваше письмо. Я поняла Вас и решила поделиться с Вами своими чувствами… Вы не можете себе представить, как я буду рада, если получу письмо за подписью Петра».
Утро захватило Трояна и Гридина за чтением почты.
— Славные девушки! — воскликнул Троян. — Полтора года мы не получали вестей из дому. А теперь смотри, Костя, сколько добрых пожеланий!
Гридин вышел из-за стола.
— Просто удивительно — с огорчением проговорил он, —Из далекого Уралаоткликнулись, а из прифронтового Шума — ни-ни…
— По твоим словам: чем дальше, тем ближе, — пошутил Троян.
— От этого не легче…
— Меня тоже тревожит молчание Вали. Но пойми и другое. Во время войны от Улан-Уде ближе до Волхова, чем от Шумского госпиталя до нашей бригады. Там, на Урале, в Сибири, девушки в свободное время, по вечерам, могут послушать радио, а здесь, в полевом подвижном госпитале, Надя и Валя, круглые сутки при раненых. К тому же враг часто бомбит. Сам знаешь, как тут бывает — едва успеваешь в одном месте, а уже надо кидаться в другое…
…Огромный цех Ленинградского Н-ского завода. В крыше и стенах зияют пробоины — следы вражеских артобстрелов, бомбежек. Помещение сверху и с боков пронизывают сквозняки. Снаружи врываетсяледяной ветер со снегом.
На замасленном полу цеха стоят тесными рядами покореженные в боях танки. Они прибыли с Волхова. Рабочие встретились с танкистами — своими старыми знакомыми. В беседах, на митинге, фронтовики докладывали о выполнении наказов ленинградцев. Митинг проходил своеобразно. Люди не могли собраться в одном месте. И не только потому, что были заняты у станков, наковален, печей. Главное — из-за физической слабости, истощенности они не были в состоянии передвигаться. Поэтому, большинство из них, обернувшись к репродукторам внутризаводской радиосети, старались уловить слова ораторов, выступавших на митинге, не отрываясь от своих рабочих мест.
Вот над танком «плавает” в воздухе, поддерживаемый веревками на талях, сухой, изможденный инженер. Он руководит ремонтными бригадами рабочих.
На корме тридцатьчетверки — двое пожилых рабочих. Снимая надмоторную броню, они обмениваются мнениями:
— Броня покорежена крупными осколками. И блок задело…
— Но все отлажено, подкрашено и смазано.
— Видать заботливый и трудолюбивый экипаж. Сам устраняет мелкие неисправности. И аккуратно…
— Как на словах, в бумагах — так и на деле. Это видно из документальных монтажей — альбомов «Комсомольцы танковой бригады в боях за город Ленина» и «Печать о подвигах танкистов», которые Гридин передал нашему цеху.
— Да, я листал эти альбомы. Среди снимков разгромленной вражеской техники особенно поражают виды уничтоженных гитлеровских танков, в том числе путем тарана.
— Таран… Это не просто отчаянный шаг в безвыходном положении. Это когда человек пускается во все тяжкие с умом, с расчетом… Тут нужно высокое мастерство.
— Лейтенант Самохин в выступлении на сегодняшнем митинге хорошо рассказал о боевом опыте Ермака, Трояна… Толково отчитался о делах наших подшефных…
— Да, если и дальше так пойдут дела, то танкисты со стороны Волхова здорово помогут Ленинграду. И я уверен, что наши-то в числе первых прорвутся…
Слово «наши» рабочий произнес как-то по-особому тепло. А ведь названные люди не только не работали на Н-ском заводе, но и в Ленинграде до войны не бывали. Их фамилии впервые услышали ленинградцы тогда, когда однажды ночью прибыли с поля боя в цеха, поврежденные танки. После ремонта боеспособные машины, обогнув по льду Ладоги вражеский выступ у Шлиссельбурга, опять пошли на врага. Знакомство укрепилось еще и во время поездки делегации ленинградских рабочих на Волховский фронт.
К танку со снятой надмоторной броней подошли рабочие во главе с бригадиром ремонтников мастером Галаховым. С помощью товарищей мастер забрался на корму — самостоятельно залезть у него не хватило сил. Придерживаясь за скобы, пушку, он обошел кругом башню. И удивленно проговорил:
— В башенной броне пробоин нет. Но канавок, царапин — пропасть. С трудом различаю буквы… Подайте-ка мне белую краску, кисть.
И на боковой стенке башни мастер восстановил надпись «Урал». Маленький худой рабочий гладил черной от машинного масла и металлической пыли ладонью по наклонному броневому листу.
– Лобовая броня выдержала все удары – дал он заключение:
— Незначительные вмятины, заусеницы… И ни единой трещины.
Из-за полуоткрытого надмоторного броневого листа поднялся рабочий в замасленной кепке.
— Мотор в порядке, — по-военному доложил он.
— Надо только кое-что подшлифовать, подтянуть, отрегулировать.
Голос изнутри танка прозвучал негромко, но внятно:
— Заделать пробоину в боковой броне возле третьего катка. Заменить торсион… Считаю, что таран не вызвал заметных деформаций.
— Подлечим, подкрепим… Окажем помощь «Уралу”, — сказал мастер Галахов. — Надеемся, что он прорвется к Неве, — и прикрепил к антенне красный флажок с золотыми буквами: «Мастерам высокой производительности труда”.
Сухое лицо Галахова осветил через стеклянную крышу солнечный луч. Острые скулы, обтянутые бледно-желтой кожей, горящие глаза выдавали в нем человека изможденного и в то же время твердого и непреклонного.
Во время перерыва танкисты поделились с рабочими сухим пайком. С какой тщательностью ремонтники распределили еду между собою! Не обошли и тех, кто отсутствовал. Смазалисухари чем-то похожим на солидол — наверное, это он и был, — и ели, как самое первое лакомство.
Самохин разыскал Таню. Она — тяжело больная, истощенная — лежала в постели. Он принес ей пакет с продуктами питания.
— Я так и знала. Это он прислал… — оживились ее большие бирюзовые глаза. — Сердце мое предчувствовало, что Гера Мотыльков не забыл меня. И вам спасибо… Вот еще не смогли бы вы принести мне лекарство… Хотя нет, вы не сможете… — и она рассказала, как трудно в Ленинграде лечиться.
— Все, что смогу, сделаю, — обещал Самохин и поспешил к двери.
Перед отъездом он прибежал к больной с лекарствами.
— Вот все, что смог… — и положил на тумбочку картонную коробку с пузырьками, пакетиками.
Таня очень обрадовалась, опять начала вспоминать Мотылькова, благодарила.
— Быстрее поправляйтесь. Надеюсь, встретимся… — скороговоркой произнес Самохин, едва справляясь с душевным волнением.
… В Шуйском лесу тихо. Над заиндевелыми вершинами елей висела неполная луна. От январского мороза потрескивали деревья, поскрипывал снег под ногами людей, которые группками уходили от землянки-клуба в лес по своим подразделениям. Это участники собрания партийного актива танковой бригады.
В ушах капитана Ермака будто звучит речь комбрига. Час пробил! Надо, наконец, прорваться к ленинградцам. Эти слова танкисты произносят и во сне. Они живут мыслью о соединении с войсками Ленинградского фронта. Когда полковник говорил о повышении боевого мастерства, он привел сравнение. Если, например, ремесленникможет позволить себе, скажем, слабо натянуть обод на колесо и впоследствии перетянуть потуже, то танкист ничего не делает внаброс, вчерне. Садясь за рычаги, он должен быть, уверен, что в критическую минуту боя мотор не заглохнет, гусеница не спадет. И каждый снаряд должен поразить цель, иначе сам получишь удар.
Запомнились Ермаку слова полкового комиссара Кузнецова о том, что на собрании — примерно рота партийных активистов, и что от пуль, снарядов и гусениц этой «роты» погибла пехотная дивизия противника. Отсюда, следует добиться, чтобы каждый экипаж воевал с таким же мастерством.
Вот и подумывал капитан Ермак, как еще лучше подготовить своих подчиненных к прорыву.
— Остановись, Костя! Куда торопишься ни свет ни заря?
— На танкодром, Петро.
— Я тоже… У нас — совместные занятия танкового батальона с мотострелковой ротой. — Троян догнал Гридина и, взяв ногу, зашагал рядом. — Может, ты насовсем в экипаж тридцатьчетверки?
Январь 1943 Шум.
— Пока нет. Мне поручили показать новичкам, как взаимодействовать в бою танкистам и мотострелкам.
— И что ты намерен делать, Костя?
— Я решил начать с посадки на броню, в танк, высадки, спешивания и закончу показом замены одного члена экипажа другим. Нужно довести до автоматизма при действии с оружием и полной взаимозаменяемости в боевых четверках.
— У нас брали такие обязательства…
— Шире шаг! Слышишь? Машины уже выдвигаются на исходные.
За мелким березняком показалась танковая колонна. Над командирским люком передней тридцатьчетверки сигнализировал флажками лейтенант Самохин, замыкающий — старшина Мотыльков.
Вечером в землянках мерцали огоньки, не утихал говор.В подразделениях люди и ночью готовились к решающим боям.Вот танкисты и мотострелки собрались в обширном новом блиндаже. В конце беседы по итогам дневного занятия в поле, Гридин рассказал о курьезном случае, когда разбросанные бомбежкой реактивные снаряды сами ползали по снегу, а потом взрывались.
— Следовательно, — сказал в заключение командир, — не трогать никакие трофейные или «безхозные” боеприпасы!
Щит, прибитый к сосне, пестрел фотомонтажами, объявлениями.
Возле него толпились люди.
— А где «Трактористы”? — спросил Моторный, показывая Гридину на «План кинокартин».
— На прошлой неделе смотрели.
— Я был в отъезде.
— Ты этот фильм смотрел уже много раз.
— Хотелось еще раз повстречаться с героем «Трактористов» механиком-водителем Климом, особенно теперь, перед таким важным событием. Если бы не Клим, я бы не стал танкистом.
С разных сторон послышались возгласы:
— И я…
— И мы…
Читая материалы под рубрикой «Новости дня», бойцы хмурились.
— Ну и зверствуют гитлеровцы… Когда этому будет конец?
— Этот фотодокумент найден в сумке убитого фашистского офицера под деревней Дубовик, — объяснял Гридин, указывая березовым прутиком на снимок с подтекстовкой на немецком языке и русским переводом: «Белоруссия, с. Вертухино. Расстрел каждого третьего из тех, у кого родственники в Красной Армии или в партизанах».
— Не может быть! — вскрикнул боец в новеньком танкошлеме. Это же мое родное село. Вот… Да… Дом с крыльцом – правление колхоза «Пролетарий»… Там, в селе, у меня мама, сестра, бабушка… — Глаза молодого танкиста увлажнились.
— Не надо так убиваться, браток, — участливо обратился Гридин к молодому бойцу. — Посмотри внимательнее… Ну, вот, и сам убеждаешься, что на снимке нет твоих родных. Конечно, и односельчан, попавших в беду, очень жаль. Тяжело теперь нам… Но враг никакими зверствами нас не запугает.
— И я не из пугливых, — тихо произнес боец, выпрямившись. — Однако…
— В самом деле, землячок… Нам ли вешать голову!.. — горячо внешался Аглушевич. — Белорусы не из таковских… Ты сам говорил, что от твоей хаты до леса рукой подать, что твои родные не из робкого и не хилого десятка. Теперь все, наверное, в партизанах. Ты еще будешь гордиться подвигами своей бабушки, которая, как пить дать, печет хлеб лесным мстителям. Так что выше голову, сам здесь, на Волхове, не оплошай.
— Конечно, нам не к лицу поддаваться слабости, — продолжил Гридин. — И в ответ на зверства проклятых гитлеровцев зададим, как следует жару под Ленинградом. Этим поможем и Белоруссии.
Из гула одобрения выделялись голоса:
— Пора прорвать блокаду Ленинграда!
— Давно накипело на сердце…
Ночь. Казалось, лесной городок проснулся без сигнала.
Земля вздрагивала от глухого рокота. Ветви сосен-великанов, отягченные белым пухом, еле заметно покачивались. Где-тозвучно падали на брезент — маскировку комья снега. Вершины вековых елей загадочно перешептывались. Под развесистыми кронами деревьев накоротке вспыхивали огоньки, сверкали искры, сновали тени.
На проселке вырисовывались едва различимые очертания танков, покрашенных белой маскировочной краской. Колонна вытягивалась и приближалась к фронтовой магистрали Волховстрой — Синявино.
Головная машина перед выходом на шоссе остановилась. Башня — с пушкой и пулеметом — развернулась с заднего в переднее положение. Стволы расчехлены. Скрипнули гусеницы. Тридцатьчетверка будто присела перед решительным прыжком. Затем тронулась с места, плавно развернулась на шоссе, и взяла курс на запад.
Из люка передней тридцатьчетверки выглянул Троян. Зябко поежился.
— Ваня, погода меняется. Мороз.
— Нам на руку — дорога твердеет, — отозвался механик-водитель.
— Да,природа на нашей стороне, — произнес Троян и засмотрелся на сосну возле дороги с усеченной кроной, которая напоминала открытый семафор.
В ту ночь, двенадцатого января сорок третьего года, танки заняли исходные позиции в лесу около деревни Липка, в двух километрах южнее Ладожского озера.
Утром начались многодневные тяжелые бои. О них скупо говорилось в печати, по радио.
В центре боевого порядка бригады наступал танковый экипаж командира роты капитана Ермака.
Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Гудела земля, снега чернели. Узкий горизонт был затянут дымом. И на лесисто-болотистой местности невозможно было увидеть лавину наступающих танков и пехоты. Порой смертельная схватка разгоралась вокруг одной, прорвавшейся вперед машины.
… Это произошло на завершающем этапе боя.
Четыре танкиста «Урала» лицом к лицу столкнулись с бронированным врагом. И не всем членам экипажа суждено было увидеть исход неравного поединка.
Тридцатьчетверка с красным вымпелом на антенне двигалась по узкому и зыбкому настилу. Под гусеницами трещали, вдавливаясь в почву, сосновые, березовые, осиновые бревна и жерди. Дорога — лежневка — под тяжестью машины прогибалась, качалась, дышала, будто живая.
Наступила ночь. Видимость из танка плохая.
— Товарищ Троян, установите связь с комбатом, — приказал командир роты и плотно прижался шлемофоном к налобнику перископа, внимательно изучая местность.
Капитан приоткрыл люк. Зоркими прищуренными глазами рассматривал обширную территорию редколесья с торфяными буграми, валами. Снег испещрен бесчисленными воронками. Ни противника, ни своих. Одиночные мины и снаряды падали слева и сзади.
Командир роты захлопнул крышку люка, включил лампочку и стал уточнять на карте свое местоположение. Хотя капитан Ермак готовился в двадцать шестой раз атаковать противника, окопавшегося под Ленинградом, но так волновался, будто шел в первый бой. Онобозначил на карте пройденный путь. Впереди нарисованного им красного ромба с острой стрелой темнели мелкими зубцами впадины и насыпи торфоразработок. Ряды этих препятствий располагались под углом сорок пять градусов к направлению движения танка, и эшелонировались в глубину на три километра с лишним. Между ними синими прожилками обозначались канавы и болота. На местности они, покрытыельдом и снегом, незаметны. На подступах к станции Подгорнаяпрепятствия обозначены несколькими жирными линиями узкоколеек, в откосах насыпей которых противник оборудовал огневые точки. Западнее торфоразработок, за сгустком трех-четырех железнодорожных путей, лесенкой поднимались извилистые коричневые горизонтали Синявинских высот — единственное сухое место.
— «Солнце”! «Солнце»! Я — «Луна». Как меня слышишь? Прием…
— Уже охрипшим голосом кричал в микрофон сержант Троян.
Через несколько минут он с недоумением докладывал командиру:
— Рация исправна, а связи нет.
— Проверить антенное устройство.
Троян открыл крышку люка.
— Не вижу вымпела Галахова. Да, выход в эфир срезан снарядом.
Радист разыскал запасный штырь и кинулся к люку.
— Стоп! — Командир удержал Трояна за плечо. — Не выставляться своей темной фигурой на белом фоне. — И велел механику-водителю: — Продвинуться впритирку к разрушенному строению.
Моторный выполнил приказание. На малом газу танкподобрался к укрытию и плавно остановился.
Командир через приоткрытый люк выставил наружу гильзу с нахлобученной на нее шапкой-ушанкой. Повертел ею, приподнимая и опуская. Ничего, тихо. Экипаж пристально вглядывался через триплексы в окружающие предметы. Ночную теменьпронизывали трассирующие пули и снаряды. В морозном воздухе, казалось, совсем рядом раздавались хлопки ракетниц. Впереди что-то горело. В небо поднимались кровавые языки пламени, тяжелые клубы дыма, унося быстро таявшие искры.
Сержант Троян открыл крышку люка. Легко подтянулся на руках, спрыгнул на корму танка и, прижимаясь к башне, скользнул к антенному гнезду. Послышался металлический скрежет, и пулипропели возле ушей. Он инстинктивно пригнулся. Забыл, что слышимая пуля не страшна.Выпрямился и продолжал укреплять новый штырь.
Впереди одна за другой взвились в небо ракеты,потрескивая чуть ли не над головой. Когда погасли, в просвете между облаками показались звезды. Сняв рукавицы, и, обжигаясь о холодный металл, он быстро закончил работу и нырнул в люк. Провернув рукоятку рации, сразу же услышал громкие щелчки и знакомый голос радиста комбата.
— Товарищ капитан, в сети — Ноль-третий. — И Троян подключил рацию к внутреннему переговорному устройству.
Капитан Ермак нащупал на груди переключатель и осветил карту. Доложил командиру батальона обстановку, положение роты, состояние танков. Выслушав комбата, сделал пометки на карте и велел радисту прекратить работу на рации, чтобы противник не успел запеленговать и обнаружить танк.
— Батальон понес большие потери. Успех зависит от нас, Самохина и Мотылькова. Те уже перерезали дорогу. Рабочий поселок номер пять — Синявино. Мне нужно выйти, уточнить расположение наших танков, соседей. Всему экипажу вести неослабное круговое наблюдение. С рассветом продолжим наступление.
— Товарищ капитан, к нам сзади кто-то подкрадывается — доложил заряжающий.
Вспыхнула ракета. В углублении танкового следа шевельнулись два белых комка и замерли. Когда погас свет, подозрительные бугорки стали приближаться. Заряжающий открыл тыльный лючок, предназначенныйдля ведения огня из стрелкового оружия. Приблизил к темному отверстию ствол автомата.
— Отставить! — приказал капитан. — Это представители бригады. Меня предупредили.
Опять бледный свет прижал к земле подползавших. Неуклюжие тени заколебались на снегу.
Во мраке незаметно взобрался на корму танка политрук Гридин. Заряжающий открыл люк и посторонился — чтобы тот залез в машину.
Перед люком механика-водителя появилось озабоченное лицо штабного капитана. В его руках зашуршала карта, сверкнул луч фонарика. Послышался тихий и внятный голос. Данные сухой, лаконичной информации Ермак заносил на свою карту.
— Вы неплохо продвинулись, — сказал штабист. — Но задачу не выполнили. Комбрига беспокоит вот этот выступ…
Гридин протиснулся в танке к Трояну.
— Петро, на рассвете примешь по радио сигнал… — и он перешел на шепот. Затем продолжил вслух: — Сигнал мне поручено продублировать зеленой ракетой из цепи мотострелков. Сегодня только урывками буду приближаться к вам… Постараюсь, однако, не терять с вами зрительной связи. Ваш танк может и должен в числе первых прорваться к ленинградцам… Правда, маскировка у вас исцарапана, ободрана. От подкрылков остались одни острые заусеницы.
С первого дня боев под Синявином Гридин с мотострелками-автоматчиками находился вблизи этой машины. Люди в белых халатах впереди гусениц выслеживали врага, подавали сигналы танкистам то из-за бортов, то сзади и под защитой брони поражали противника.
— Дальше, местность, кажись, должна быть лучше? — заметил Моторный.
— Нет, Ваня, — возразил Гридин. — Хуже. В районе торфоразработок возможности маневра ухудшатся. Не подставляй борт станции Подгорная. Там замечена лихорадочная возня противника. Перед развилкой насыпей коси глазом вправо — увидишь мои автоматные трассы, целеуказания…
Штабной капитан торопил:
— Все. Теперь вам ясно… Что сможем, подбросим за ночь. — И обратился к капитану Ермаку:
— Володя, пойдемте с нами на правый фланг, там уточним исходные твоих танков.
— В экипаже старшим остается, сержант Троян. Наблюдать вкруговую. Осмотреть ходовую часть. Двигателю дать отдых, но не остудить, — распорядился командир и спрыгнул с машины.
Сухое поскрипывание снега стихло. Трое бесследно растворились в мутной темноте.
Заряжашщий и радист-пулеметчик проверили танковые «Дегтяревы», зарядили патронами диски, освободили доступ к снарядам. Механик-водитель, ощупав гусеницы, колеса, катки, копошился у щитка приборов, рычагов, тяг, педалей.
— Что за черт ползет к танку? – заряжающий взвел автомат напротив отверстия для стрельбы назад.
Троян тоже заметил темную фигуру с горбом на спине, метнувшуюся к поваленной сосне. Взял две гранаты, осторожно приподнял крышку люка. Над головой что-то зашуршало и за танком рявкнули одна за другой несколько вражеских мин. «Горбун» слился с деревом; стал снимать что-то со своей спины, блеснув стволом автомата. Танкисты насторожились. Всматривались в ночь — не пробирались ли к машине враги с других направлений? Кругом пусто.
— Какой-то призрак. Один, — сказал Троян.
В перерыве между гулом беспорядочных выстрелов и разрывов снарядов со стороны бревна донесся хриплый, простуженный голос:
— Эй там, в танке! Це я, Гава. Обед прибыл.
Троян узнал голос автоматчика — подносчика патронов и пищи, который готовился стать заряжающим в танке.
Автоматчик приблизился к машине. Улучив момент, бросил в открытый люк механика-водителя вещмешок, бачок-термос; затем сам влез.
— Здорово вы продвинулись. Насилу разыскал. Видать, наломали фашисту бока. Теперь всю ночь светится да пуляет. Боится…
— Минутку, Гава, — прервал Троян. — Дай-ка разглядеть, что там еще за тени на фланге… Стой! Ага, понятно — свои.
На краю черной воронки выделялись три светло-серых силуэта. Между ними приподнялась темная фигура капитана Ермака. Потом трое в полушубках удалились в белесую мглу, а капитан Ермак двумя бросками очутился впереди машины.
— Выше головы, братцы. Мы тут не одни. Справа и слева, уступом назад, возле наших танков накапливается стрелковое подразделение. — Он приказал механику-водителю: — Моторный, ко мне! Пойдем, разведаем наш дальнейший маршрут.
Перебежками, ползком они двинулись к черным буграм торфяников.
— По карте здесь должна быть равнина, а на деле — впадина. Такое впечатление, будто спускаемся к болоту. Неясно. Трясина с названием озеро Глухое остается справа от нас. Следовательно, впереди должна быть небольшая возвышенность — говорил капитан Ермак.
Моторный припал лицом к свежей воронке.
— Носом и ухом чую, товарищ капитан, что под нами — твердая почва. — Он поднял голову. — Проверьте на свой слух — от близких взрывов снарядов под нами не ощущается пустого гула, а отдает густым звоном.
«На месте противника я бы попытался утром ударить нам под дых с Синявинских высот, — рассуждал про себя капитан Ермак. — Местность позволяет. Поэтому, нам нельзя повторять вчерашний маневр.
— Надо взять чуть-чуть левее и сближаться с врагом не левым бортом, а лобовой броней. Вот только позволит ли местность вдали осуществить такой маневр? Враг — на высотах, а я…”
В сумраке перед ними возникли темные очертания разрушенных советской артиллерией наземных укреплений. К ним вела насыпь разобранной врагом узкоколейки.
У скатов торфяного вала, в воронках блестел лед.
— Тут не очень-то сманеврируешь, — хмуро сказал механик-водитель. — Придется до развалин двигаться так, что врагу будет виден наш левый борт. И только потом… Удалось бы на хорошем газку проскочить это расстояние. Но…
Вдоль насыпи попадались расщепленные бревна, исковерканные рельсы — обломки дзотов, — части вражеского оружия, окоченевшие трупы.
Слева, в темноте, у стыка двух торфяных насыпей, накапливались мотострелки.
Ефрейтор с заиндевелыми усами, в танкошлеме и рваном маскхалате сказал:
— Час тому назад я слышал гул моторов. По-видимому, в кустарнике, за которым торчит печная труба, левее станции Подгорная, появились фашистские танки.
Капитан Ермак до боли в глазах вглядывался в холодное, белесое однообразие ночи, время от времени озаряемое огненными сполохами, Мороз усиливался. Несло гарью тлевшего торфа с примесью какого-то тошнотворного смрада. Где-то в дыму выла собака.
— Фрицевская. К танку пробиралась. Мы ранили ее, — отозвался ефрейтор, заметив, что капитан прислушивался к душераздирающему вою. — Хоть бы Гитлер так заскулил.
Ермак и Моторный вернулись к машине.
Гава двинулся навстречу с докладом:
— Товарищ капитан, прибыл с обедом. Все машины обошел. Танкисты накормлены. Виноват, чай в пути того… пролил. Осколком мины термос пробило.
— Спасибо, землячок. Хорошо, что сам цел. Приглядывайся, как воюем. В следующий бой пойдешь заряжающим.
Гава радовался и в то же время досадовал на себя. В самом деле, командир помнил о нем, а он, Гава, из-за своей нерасторопности опоздал, и чай не уберег.Теперь ковыряй ножом замерзшую кашу, разрубай топором задубелый хлеб. Даже в консервных банках блестели пластинки льда.Но танкисты на это не сетовали. Моторный флегматичнобубнил:
— Масло можно есть грудочками; во рту растает.
— Да, тут не скажешь, что нож легко входит в масло, — добавил Троян. — Но без обеда было бы хуже.
«Ну, уж завтра в доску разобьюсь, а обед доставлю вовремя; и горячий чай… — решил Гава. — Иначе, если я неповоротлив на широком поле боя, то, как справлюсь с обязанностями заряжающего в тесном танке? Там, на пятачке, надо волчком крутиться».
Командир пригласил Гаву поесть вместе с экипажем. Боец смутился, но не отказался. Потом, склонившись набок, неожиданно уснул.
— Умаялся паренек, — сказал капитан Ермак.
— Как ни говорите, друзья, но с таким аппетитом мы, кажется, давно не обедали. Теперь бы капельку вздремнуть. Прежде всего, механик-водитель должен отдохнуть.
Он наклонился и стал шарить по днищу.Вытащил из-под своего сидения вещмешок. Развязал — продукты питания.
— Ну, нет, братцы! На обед рассчитывать у ленинградцев. В танке не оставлять никаких запасов. Все лишнее — Гаве в мешок, чтоб в бою ничто не мешало.
— Вот попить бы после сытной еды, — мечтательно произнес Моторный.
Заряжающий, проводив Гаву из танка до поваленной сосны, на обратном пути зачерпнул из свежей воронки и подал в люк механика- водителя котелки.
Танкисты неторопливо пили желтоватую, пахнувшую торфом воду.
— Все, друзья, почаевничали. Выбрасывайте все лишнее… Кто там прячет котелок со снегом в угол? Не нужен он в машине. Здесь утром станет так тепло, что со всех стенок потечет, — и выразительно проделал пальцем глубокую борозду на заиндевелой броне. — Заключительная схватка будет жаркой. А после боя все мокрое схватит так морозом, что кое-что не оторвешь от железа… — говорил капитан Ермак против обыкновения и пространно, и с оттенком какого-то вымученного юмора.
Еще до наступления полного рассвета слова командира сбылись.
Капитан Ермак всю ночь не сомкнул глаз.
Под утро он откинул наружу крышку своего люка. И разглядывал небо так, будто с трудом определял, какая ожидается погода. Наконец, удовлетворенно крякнул. Спрыгнул на землю. Потягиваясь, сделал разминку ног, рук. Натер лицо снегом. Потом, осмотрев гусеницы и катки танка, залез на корму, сбросил с жалюзей какие-то тряпки, взобрался на башню и сел.
С высоты была хорошо видна покрытая снегом и льдом земля; чернели воронки. Морозный воздух рассекали беспорядочные трассы пуль, редких снарядов, их рикошетов.
На востоке, из-за розовевшего облачка мигнуло что-то, наподобие звезды.
— Водитель, заводи! — распорядился командир.
Моторный проснулся. Поеживаясь от холода, нашел в потемках нужные кнопки, педали, рычаги. Не успевший остыть двигатель быстро заработал.
Радист-пулеметчик сержант Троян установил связь с танком командира батальона.
Горизонт на востоке озарился сполохами. И звуки одиночных выстрелов заглушила канонада по всему фронту. Такая увертюра по утрам становилась обычной.
— Сделай, Петро, мне цигарку, — попросил Моторный.
Троян скрутил «козью ножку”, раскурил ее и подал товарищу. И тут же защелкал тумблерами рации. После небольшой паузы он доложил командиру:
— На волне — Ноль-третий.
Капитан Ермак, выслушав радио, распоряжение комбата, объявил экипажу:
— Получен сигнал «Утренняя звезда». Вперед, за город Ленина! Одновременно справа взвилась в небо зеленая ракета.
— Начинается рассвет на Неве, — сказал Троян и перешел от рации к курсовому пулемету.
Механик-водитель несколько раз прогазовал вхолостую двигателем, включил первую скорость и начал выводить машину на изрытую воронками торфяную насыпь.
Ермак выглянул из-за крышки полуоткрытого люка. Вдали, заторфоразработками, в мутно-дымной пелене, зачастили огненные вспышки. Ориентир — печная труба — исчез из виду. С нависших на побледневшем небе клочковатых облаков падали на землю колючиельдинки. Слева, к штабелям торфа, перебежками двигались советские пехотинцы. Между ними и танком взметнулись черные столбы взрывоввражеских снарядов.
Командир «Урала» прижался налобником шлемофона к окуляру перископа. Искал печную трубу. Но тщетно.
Вдруг к танку подбежали Гридин с двумя бойцами и залегли у правой гусеницы. Из автоматов полетели трассирующие пули — целеуказатели. Ермак разглядел в клубах дыма расплывчатый столб ориентира. И — мигом от перископа к телескопическому прицелу.
— Осколочным, заряжай!
Троян подал снарядзаряжающему.
— Огонь!..
Загремели выстрелы.
— Осколочным!.. Зажигательным!.. Бронебойным!.. — звучали, время от времени короткие приказы командира.
А Гридин с двумя автоматчиками уже бежал, то и дело, залегая и поднимаясь, к другим танкам роты капитана Ермака.
Слева от ориентира вражеская огневая точка беспрерывно отплевывалась пушечными и пулеметными огнями, несмотря на отчетливо наблюдаемые попадания в нее танковых снарядов.
— Бронебойным!.. Зажигательным!.. Еще. И еще раз…
В ответ не переставали сверкать кроваво-красные всплески.
«Урал» продолжал двигаться по торфяному валу. Его корпус поминутно вздрагивал, заволакиваясь клубами дыма и снежной пыли — била танковая пушка.
Серия ракет озарила местность. И печная труба отчетливо вырисовалась на фоне дымно-туманной мглы. У ее подножья — мгновенный красный взрыв. И тут же огненный шар ослепил экипаж. Трассирующий снаряд, казалось, спрятался под днищем танка, сильно тряхнув его.
Капитан, улучив момент, послал в ответ бронебойный. И – опятьудар снизу.
— Бронебойным!..
— Цель! — заметил попадание Троян.
Скрытый за жидким туманным кустарником враг вновь выбросил злополучный шар. Но экипаж ободряли новые, бойкие доклады Трояна о метких поражениях «Уралом” вражеской цели.
Несмотря на точные, удары танковой пушки, густое скопище гитлеровских огневых точек продолжало отбиваться красноватыми огнями. Эта странная живучесть невидимого врага удивляла и злила танкистов.
— Гады, как завороженные… — ругался кто-то.
Еще один вражеский сгусток кровавого огня погас в почве перед самым носом танка. Машину обдало словно градом. — В триплекс угодил торфяной ком, ослепив механика-водителя.
Моторный доложил командиру о случившемся. Одновременно он чуть-чуть приподнял крышку люка, чтобы вслепую не завалиться в канаву.
Капитан Ермак точно выдерживал заданный курс, и был уверен, что поражал цель, иначе враг уже продырявил бы борт «Урала”. Но, часто повторяемый, тактический прием может привести к беде.
Не попробовать, ли спуститься с вала пониже, да рвануть по березнячку без стрельбы, и потом в упор ахнуть из пушки?… И он велел водителю:
— Попытайся взять немного левее, или… Посмотри сам…
Через минуту Моторный доложил:
— Прощупывал. Нельзя. Метр вправо или полметра влево — одинаково гибель. Снаряды вскрыли опасные топи.
Командир ни на минуту не прекращал стрельбу. Заряжающий стал работать автоматически точно, без единой заминки.
Беспрерывно звенели стреляные гильзы. Стало угарно, жарко. Глаза ел дым, першило в горле. Стекла приборов вспотели. Инея на внутренних стенках как не бывало.
Сильный удар потряс машину. Троян свалился на пулемет. Моторный лежал на рычагах управления и стонал. Над ним серело мутным дымом отверстие люка. «Урал» стоял.
— Товарищ капитан, «болванкой” сбита крышка люка. Моторный ранен, — доложил Троян, поднявшись.
— Перевязать. За рычаги! Веди машину на ориентир, — приказал командир.
Троян быстро забинтовал раненого. Хотел помочь ему пересесть на днище, к задней стенке.
— Не отстраняй меня, — возразил Моторный и нажал на газ. Двигатель отозвался бодрым рокотом. Водитель наклонился всем корпусом к рычагам управления. Попытался взять их на себя, и застонал.
Радист-пулеметчик решительно подхватил побледневшего Моторного под мышки и оттащил с сидения на днище.
Троян занял место механика-водителя. Включил первую передачу. Танк тронулся. Внутрь, через открытый люк, врывался холодный воздух, били комья земли, снега. В ушах стоял сплошной грохот. Перед глазами сверкали слепящие огни. Но танк, послушно повинуясьволе водителя,шел на врага.
Выстрелы из танковой пушки и пулемета, казалось, толкали машину назад, а не вперед. Мгновениями Троян ощущал сильные боковые качания всего стального корпуса. Выполняя требования командира, водитель старался плавно увеличивать подачу газа. И все равно «Урал» двигался рывками. То ли мешали воронки, то ли — удары вражеских снарядов.
Вдруг танк сильно подпрыгнул. Троян ощутил тупой удар по голове и свалился набок, выпустив из рук рычаги.
Ермак ощупал его голову, грудь.
— Цел, браток, — сказал он. И крикнул: — Троян, выше голову.
Тот не шелохнулся.
Ермак стал трясти изо всей силы за плечи контуженного, выкрикивая:
— «Луна»! «Луна”!.. Слышишь меня? Прием…
Как он и рассчитывал, позывные «Урала» подействовали. Троян шевельнулся. Потом поднял голову. Пошарил вблизи рукой. Наткнулся на тумблер рации, обрадовавшись:
— Слышу хорошо. Все понял… — И хотя слова доносились до него как под сурдинку, он хорошо сознавал, что следовало делать.
Превозмогая головную боль, потянулся к рычагам, машинально включил «массу», выжал сцепление… И танк тронулся.
Командир толкнул Трояна в правое плечо, что означало взять правее; потом — в левое, значит — левее… Наконец, толчок в спину — то есть вести машину прямо.
Опять ударила пушка. Застрочил танковый «Дегтярев». Началасьтакая тряска, словно они неслись по торфянику, усеянному валунами.
Потом,раздался звенящий удар.
Второй… За спиной механика-водителя — грохот, стальной скрежет. Днище загудело от падения чего-то тяжелого. Троян ощутил тупой, болезненный удар в спину. «Беда? — мелькнула тревожная мысль, и он с опаской повернулся назад. В пороховом дыму смутно покачивались разбитые части танковой пушки.
Новые удары заставили схватиться за голову, сжаться в комок. Через минуту-другую еще раз оглянулся: в боевом отделении посветлело. Из башни потянуло мертвой пустотой, холодом. Заряжающий беспомощно свисал с гильзоуловителя. Новая встряска корпуса, и заряжающий качнулся, вздрогнул и как мешок сполз на стреляные гильзы. Моторный лежал неподвижно. У его головы, наклоненной к задней стенке, торчали валенки капитана. На месте командирского сидения виднелась мокрая разорванная шинель, с воротника которой сползало что-то дымившееся. По куче горячих гильз зачастила капель с шипением. В нос ударило приторным паром.
Снаружи донеслись крики. Троян потянулся к курсовому пулемету.Но в броне зияло рваное отверстие. Перед глазами неясно замаячил злополучный ориентир. Совсем близко. В тот же миг у основания ориентира взметнулась черным веером серия взрывов. И сразу наступила тишина.
Танк ровно дрожал. Оглушенный Троян пытался оценить, что произошло. И услышал мерное дыхание танкового двигателя.
«Урал» медленно, со скрежетом, металлическим вызваниванием двинулся во главе массы бойцов навстречу огненной буре.
Слышались возгласы:
— «Урал», тише ход. Не стреляй больше.
— Протаранил. Вон, справа наперерез бегут ленинградцы.
Троян вел машину через валы, воронки, груды льда, бревен, окопы.
Перед люком вырос сержант Аглушевич с ППШ в руках и трофейным автоматом через плечо. Изо рта с клубами пара вырвался возглас:
— Стой «Урал», а то Неву перегородишь. Ваня, тебя опередил Гридин. Уже трофейный танк осматривает… — Разведчик окинул глазами Т-34 и развел руками: — Ну и потрепало вас!
Из рваного проема люка выглядывало закопченное, окровавленное лицо Трояна. Запекшиеся губы слабо шевельнулись:
— Т-так… и внутри…
Подбежали люди из управления танковой бригады. Появились санитары с носилками.
Троян с трудом протиснул через отверстие люка тяжелораненого заряжающего. Помог выбраться из машины окровавленному Моторному.
А дальше — самое трудное…
У Ермака целыми остались только ноги…
Потрясенный санитар принял из люка необычно тяжелые валенки. Долго держал их, не зная, что делать.
Последним вылез из машины Троян. И пошатнулся Земля, будтокачалась под ним. Со спины свисали грязные, рваные лохмотья одежды.
— Валя, осмотрите сержанта, — резко произнес капитан из штаба, обратившись к медсестре.
Троян встрепенулся от услышанного имени.
Аглушевич, кинув выразительный взгляд на девушку, дружески ухмыльнулся танкисту:
— Тезка. Исцеляет так же, как Волхова, — и побежал в сторону ленинградцев.
— Н-нет, Валечка… Кажется, я не ранен… Помят и забрызган… — бормотал Троян.
Он невольно вздрагивал. Видимо, голая спина мерзла. Медсестра с помощью бойца сняла с него остатки шинели, свитера, гимнастерки. Ран не оказалось.
— Им надо помочь, — тихо произнес Троян, показав на салазки с ранеными мотострелками.
Медсестра ушла к тяжелораненым.
Троян надел новую фуфайку и принялся наводить в танке порядок.
Бережно подняв к проему люка механика-водителя плащ-палатку с останками капитана Ермака, он кликнул:
— Санитар, прими…
Тот не услыхал — прибивал гвоздями снарядный ящик к салазкам.
В это время подошел к танку Гава.
Он и принял из рук Трояна печальную ношу.
— Я — к вам, товарищ сержант, с горячим чаем и с приказанием комбата — назначен на «Урал» заряжающим.
Троян, намеренно заслонив собою кровавые пятна внутри танка, испытующе оглядел Гаву,который не знал, куда деть палаточный узел, и то, что внем было. Гава, по-видимому, догадался о сомнениях сержанта. Он, аккуратноопустив узел в ящик, на салазках и вернулся к Трояну. — Я все знаю…
— Конечно, очень больно. Не хочется верить, что такое случилось с капитаном Ермаком… Но… Но… Я уже не боюсь. Помню отцовский наказ. Хочу воевать танкистом. Только подумать: «Урал» такой путь прошел!…
— Тогда помогай мне, — просто сказал Троян.
К танку подошли ремонтники.
— Пробоина в башне?.. Странно, — покачал головой командир ремонтно-технической роты, осматривая отверстие в броне с оплавленными краями. — Неужели у противника появилось какое-то новое противотанковое оружие?
Вернулись разведчики.
— Да знаете ли вы, что совершил экипаж «Урала”?!. — возбужденно заговорил сержант Аглушевич. — Он взял верх в артиллерийской дуэли с новым вражеским танком, вооруженным пушкой калибром не менее восьмидесятивосьми миллиметров. На борту нарисовано что-то в виде слона — трудно разобрать, фашистская машина вся исклевана нашими снарядами. Из-под мотора вытекла какая-то жидкость. Люки открыты. Рядом валяются трупы экипажа, один из них с генеральскими погонами. Гридин пытался завести мотор, но прибыло начальство, привели пленных и наш политрук сейчас там за переводчика. Надеется, наверно, получить разрешение освоить трофей… Слышите? Стрельба перемещается влево. После соединения с ленинградцами наши жмут на Синявино.
Позже стало известно, что «Урал» победил в поединке с «тигром” новинку фашистской бронетанковой техники. По-видимому, первоначальное название «слон» не понравилось гитлеровцам и «слон» превратился в «тигра».
— Да здравствует победа! Конец блокаде! — дружно загремело вокруг.
— Очень жаль капитана Ермака, — хмуро проговорил Троян. — И вымпел Галахова я не сумел доставить по назначению.
— Считай, Петро, что флажок Галахова пробил себе дорогу в Ленинград, — бодро произнес Аглушевич.
Мимо танка, по бревенчатому настилу, к новой линии фронта шли машины с бойцами, тягачи с прицепленными к ним орудиями, «Катюши», «Ванюши»… Над головами гудели краснозвездные самолеты.
Пошел снег.
— Петро, нас зовут на «энпэ» НП!
Из открытого люка танка выросла над башней фигура Трояна, с полевой сумкой в руках, с блокнотом, карандашом.
— Зачем, не знаешь, Костя?
Войполе январь 1943 года.
— Нет, — ответил Гридин. — Посыльный сказал только два слова: «Комбриг вызывает». Так что смой с лица пороховую копоть, возьми с собою документы и оружие капитана Ермака и выходи на перекресток дорог. Там назначена встреча…
Троян велел Гаве помогать ремонтникам, восстанавливать боеспособность танка, сложил вещи своего командира, умылся и направился в бригаду.
На перекрестке накатанных проселков рядом с Гридиным приплясывал, согреваясь, Самохин.
— Дай-ка взглянуть на тебя, Петро. Целую неделю воюем, слышу в эфире твой голос, а встретиться ни разу не довелось. — Он похлопал друга по плечу.
— Зато снаряды ваших танков встречались в одной точке, -вставил Гридин.
— Не без твоей помощи, Костя. Целеуказания из ваших автоматов здорово выручали. И как ты везде успевал?
— Если бы «везде», то вывел бы вас во фланг «слону»… —ответил земляку Гридин, почесав затылок.
Троян держал в руках перевязанные ремнем полевую сумку, планшет с картами.
Самохин, глядя на эту связку, сказал:
— В голове не укладывается, что с нами больше не будет Владимира Ермака.
— Что поделаешь… Война, — вздохнул Гридин.
Они двинулись на НП танковой бригады по бывшему полю боя.
— Идем напрямую, вдоль синявинского выступа. Сэкономим время…
В пути Гридин обосновывал преимущества выбранного им маршрута.
— Теперь везде можно нарваться на шальной кусочек металла, — заметил Самохин. — Весь освобожденный пятачок враг простреливает.
По пути попадались скрученные рельсы, обломкибревен, досок — остатки разрушенных укреплений противника. Вокругвсе перепахано снарядами. От деревьев остались лишь пеньки.
Вдали показался полуразрушенный забор, опутанный колючей проволокой, с уцелевшим въездом в виде арки. Приблизившись к ней, танкисты увидели сверху на перекладине вывеску: «Waldlager».
— Нам сюда. Вон за тот вал с широкой брешью продвинулся «энпэ» НП бригады, — разъяснял Гридин тоном человека, который ранее побывал в этих местах.
Бывшее расположение гитлеровцев было загромождено разбитыми транспортными машинами, тягачами, орудиями, брошенными ящиками с боеприпасами, развалинами срубов. На мутном предвечернем горизонте, над Синявинскими высотами, все чаще вздымались огнисто-черные дымы; сверкали выстрелы. И тут же рявкали вражеские мины, снаряды. После каждого взрыва в лицо ударяло запахами тола, торфом. Воздушные волны поднимали тучи бурой пыли, почерневшего, грязного снега.
За торфо — земляным валом темнело массивное строение. На его округлой крыше виднелись тщательно уложенные брикеты торфа, придавленные сверху рельсами. К стенам примыкала торфяная насыпь, скрепленная забором из жердей. Земляные валы, блестевшие ледяной броней, кольцами охватывали массивное сооружение.
Среди этих оледенелых укрытий мелькали шапки-ушанки, капюшоны маскхалатов, танкошлемы.
— Это – «энпэ» НП, — объявил Гридин. — Сразу же за ним дымит, сверкает огненными вспышками, взрывами Рабочий поселок номер шесть.
Они поднялись и перебежали через небольшую поляну, усеянную немецкими газетами, журналами, книжками, разбитыми ящиками, разорванными бумажными пакетами, мешками… Под ногами хрустело битое стекло. Следы тотчас жезаметал огненный вихрь мин.
Друзья нырнули в бурое облако пыли, перемахнули через полуразрушенную оледенелую стенку, за которой лицом к лицу столкнулись с … Мотыльковым.
— Как ты здесь очутился, Гера? — удивился Троян.
— Так же, как и вы. Не спешите. Пока я добирался сюда, комбриг с комиссаром ушли в правофланговый танковый батальон. Нам приказано ждать под прикрытием этого чуда инженерных сооружений. Мельком слыхал…
— Мотыльков и Самохин, прошу пройти со мною, — прервал подошедший офицер из отдела кадров бригады и указал на железную дверь в укрепленной досками торфяной стене.
— А мы? — спросил Гридин.
— Вы подождите. Ваши «личные дела» — у меня. — Кадровик показал на свою папку.
Когда земляки остались одни, Гридин сказал:
— Нам сегодня нужно побывать в медсанбате, навестить раненых. Если Ваню Моторного уже отправили в госпиталь, придется махнуть и туда.
Троян кивнул:
— Может, кому-нибудь потребуется кровь. У меня, например, одинаковая группа с Ваней. Попутно наведем справки о Наде и Вале. А то, возможно, и завернем к ним на часик. Ведь такое событие… Прорыв блокады! Встретились, наконец, с ленинградцами …
— … Осталось вернуться в танковый экипаж…
— … И потом заявиться к Наде полноправным танкистом… — так ты хотел закончить свою тираду.
— И что у тебя за язык, Петро? Хуже бритвы.
Троян улыбнулся:
— И все же, Костя, как бы ты не ершился, я в тебе замечаю перемены к лучшему. Ты уже не такой сухарь, каким был два или даже год назад. Мне захотелось о таком, как ты, написать. Соседи — танкисты говорили, что Моторный из моего очерка в газете «Таран» напоминает их механика-водителя-аса. А они ведь гвардейцы.
— Хочешь сказать, что тебе удалось создать типичный образ?
— А что? Чем черт не шутит?
— Скажу тебе, Петро… Только не сердись на меня. По-моему, с Моторного писать механика-водителя очень просто, потому, что он по природе типичный танкист. А вот под силу ли начинающему мягкосердечному романтику раскрыть в художественной форме понятия близкое, далекое, долг, идея, воля?..
— Мне приходилось где-то читать, что писателями чаще всего становятся именно такие, как ты сказал «мягкосердечные романтики». Себя тут, конечно, я не имею в виду. Но знаю, что еще, ни один деловитый сухарь не стал настоящим поэтом, — спокойно сказал Троян.
— Ладно, ладно, — вдруг поторопился Гридин изменившимся голосом. — И проза бывает поэтической… Теперь мы в самый раз могли бы встретиться со своими девушками.
Троян раскрыл рот от удивления.
Скрипнула дверь. Из блиндажа вышли Мотыльков и Самохин, продолжая разговор:
— … Саша, а ты здорово критикнул кадровика.
— А что неправда? Для него главное бумага, а не танк…
— Я рад, что ты едешь в Ленинград. Передай Танюше несколько добрых слов обо мне.
— Сам приедешь на ремонт и передашь, — неохотно заметил Самохин, зная, что танку Мотылькова не скоро потребуется ремонт, и что завтра тот собирается слетать «по служебным делам” в Шум и заодно — попутно в Сирокасску, к Тоне.
Прибыл комбриг. Открыв тяжелую дверь своего блиндажа, сказал:
— Заходите.
Расспросил о капитане Ермаке. Потом торопливо заговорил:
— Результаты ваших усилий под Киришами отмечены только красными и золотыми нашивками (знаки легкого и тяжелого ранений) — наградные документы застряли там где-то в пехотных штабах. Однако, без вчерашних Киришей не было бы сегодняшего Синявина. Здесь командование сегодня, по горячим следам отмечает ваш вклад в дело прорыва блокады Ленинграда. Все вы награждаетесь орденами Красной Звезды, капитан Ермак — посмертно.
— Обращаясь к Трояну, полковник сказал: — Я и полковой комиссар Кузнецов благодарим вас за то, что вы сдержали партийное слово, данное накануне боев на собрании актива об обеспечении в танковом экипаже полной взаимозаменяемости… Сердечно поздравляю с правительственной наградой! — и он крепко пожал руку танкисту.
Мотылькову комбриг строго заметил:
— За то, что показали пример молодым танкистам — дерзко вырвались на дорогу Синявино — Рабочий поселок — пять –
Февраль 1943 года.
хвалю. Но запомните: в дальнейшем ради эффекта не рисковать экипажем и машиной.
Вручая орден Самохину, комбриг веско произнес:
— Я знал, что выровняетесь. От всей души спасибо. В этих боях вы стали парторгом роты… Ваша помощь огнем Ермаку неоценима. И впредь бейте врага с такой же храбростью и еще с большим умением!
— Служу Советскому Союзу! — ответил Самохин.
— А за вами, Гридин, хочу закрепить танк. На «слона» вы зря рассчитывали — он как интересная новинка уже отправлен в тыл. Теперь вашу грудь украшает не только золотая нашивка, но и орден. Хочу пожелать вам, молодым танкистам, стать асами своего дела, и почаще получать ордена, а не нашивки.
Раздался телефонный звонок. Полковник взял трубку.
— Да. Слушаю… Выходит, предварительные данные подтвердились. Нет, я не забыл о вашем предупреждении. Есть! Сейчас…
Закончив телефонный разговор, комбриг после небольшой паузы сказал:
— Обстановка меняется. Противник в спешном порядке подбрасывает резервы к месту нашего прорыва… Гридин, подберите человек десять опытных разведчиков. Возьмите рацию… Пока гитлеровцы еще не закрыли брешь, вам надо успеть проскользнуть… Посмотрите на карту… Вот здесь, между рощей и болотом только что прошли во вражеское расположение разведчики соседней пехоты. Они взяли курс к сосновому бору, но без рации… Ваша задача… — Полковник лаконично изложил, что требовалось сделать в тылу противника. — Жду от вас радиосигналов. Желаю удачи! — Затем он обратился к Самохину и Мотылькову: — Вы совершите маневр по нашей фронтовой рокаде к тому же району. И ваши танки вместе с пехотой в назначенный час атакуют… Сейчас я вызову командира танкового батальона…
… Разведчики во главе с политруком Гридиным белыми тенями прошмыгнули на лыжах по замерзшему болоту в расположение противника. Передний край остался позади. И сразу движение замедлилось.Всем казалось, что самая трудная часть задания выполнена. Тишина во вражеском тылу невольно располагала к покою. Главное, люди изнемогали под тяжестью боеприпасов и взрывчатки.
Февраль 1943 года Синявино.
Следы ранее проскочивших пехотинцев потерялись.
Кто-то заикнулся о привале.
— Отставить нытье! — сурово оборвал Гридин.- Дух вон, а в шесть ноль-ноль надо выйти к вырубке, что на подступах к сосновому бору.
Разведчики снова ускорили темп, с разбега рассекая крутые сугробы. Шли долго и молча.
Наконец, вдали показалась возвышенность с вырубкой, усеянная дымившимися дюнами. Гридин упорно шел на подъем, до боли, в глазах впиваясь в мутную мглу, и, досадуя на то, что возле нее не было заметно никаких укрытий, а бугорчатых препятствий еще болыше, чем на оставшемся позади кочковатом болоте.
Его догнал Троян с рацией за плечами. И они остановились, чтобы сориентироваться. Сквозь далекий гул стрельбы на переднем крае прорывался гудок паровоза. У подножья высокого леса суетливо мерцали огоньки.
Недалеко от излучины шоссе проходит железнодорожная ветка… – И Гридин распорядился: — Сложить взрывчатку на салазки. Терновой, подорвать железнодорожный и шоссейный мосты…
Терновой с четырьмя бойцами и салазками вернулись назад. Затем они повернули вправо и скрылись среди кустарника в низине.
— Троян, дай сигнал комбригу о прибытии, — велел Гридин.
— Всем зарыться в снег. Наблюдать. Отдохнуть, набраться сил.
— Троян передал сигнал, свернул антенну и прилег в снежном окопчике.
Его разбудили два гулких взрыва. За вырубкой и редколесьем что-то горело, хлопало. Вспыхивали ракеты. Трещали автоматы.
— На воздух взлетели не только мосты, но и машины, — определил Гридин. — Молодец Терновой.
Они поднялись и двинулись на огни.
Рядом с Гридиным вдруг присел Троян и его ППШ неожиданно залился длинной очередью по заснеженным пням, из-за которых стали показываться гитлеровцы. Его поддержали другие разведчики.
Оказалось, противник заранее расставил секреты вокруг соснового бора, где выгружались его резервы.
Вдруг с правого фланга разведчиков поддержали бойкие автоматные очереди. Аглушевич выяснил, что это пехотинцы, с которыми им надо было установить связь.
В ходе совместного огневого боя с противником они улучшили свои позиции — сблизились, вытянувшись единой цепью вдоль естественных укрытий.
Постепенно пальба стала стихать.
Разведчики — танкисты и пехотинцы — под прикрытием пней окапывались в снегу.
— Троян, передать второй сигнал и наши координаты, — распорядился Гридин. — Экономить патроны. Взрыв моста — не конец, а начало. Подождем возвращения группы Тернового.
Бледный свет ракет мерцал все реже и реже. Над сосновым бором затрепетала звезда.
— Вечерняя, — дрожа от холода, проговорил Троян.
— Нет, Петро. Это Утренняя звезда.
И тут стену соснового бора осветили ярко-красные сполохи. В лицо ударила тугая, холодная волна взрывов. Тяжело колыхнулась земля. В небо поднялись клубы дыма.
— Наша дальнобойная заговорила, — сказал Троян, поднимаясь.
— А вон и Терновой, — показал он на силуэты, которые вырастали с тыла, из жидкого кустарника.
Скрип снега, усиливаясь, приближался. Двое несли раненого.И еще одного Терновой вез на салазках.
— Вы помогли нам улизнуть, — переводя дыхание, сказал Терновой. — Вовремя отвлекли огонь на себя.
Сквозь гул канонады на переднем крае Гридин будто услыхал мелодичное лопотание траков тридцатьчетверок. А над сосновым бором, в клубах черных дымов, едва заметно мерцала потускневшая звезда.