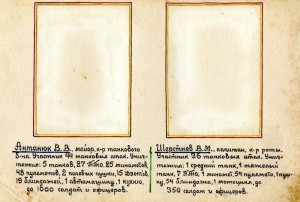Н А С П О Л О Х
«…Оказывается,
можно поделиться с человеком
не только куском хлеба,
но и частичкой своего сердца»...
Февраль 1943 г. — Октябрь 1944 г.
Сосновый бор, (шоссе Волховстрой-Синявино) конец марта1943 г. Карбусель, Сирокасска, Шум, май — август 1943 г. 14 января 44 г. дер. Подберезье, станция Подберезье, 6-00 16 января 1944 г. Долово, речка Пестовая, болото Долговский мох, Платформа Болотная, Вяжище, река Соковая, разъезд Нащи, окраина Новгорода, Березовское Общество, мясокомбинат, Шимск, Сольцы, 20 февраля 1944 г., река Шелонь, дер. Лукома, 22 февраля — 23 февраля 1944 г., Дно, Март 1944 г. дер. Житница, Дубок, Никулино, по шоссе Порхов-Остров, 1 июня 1944 г. река Череха, 14 июня 1944 г. станция Чихачево, 17 июля 1944 г. река Великая, 22 июля 1944 г. река Лжа, Латвийская ССР, 11 августа 1944 г. Выра, 17 августа 1944 г. Тарту, 19 августа 1944 г. освобождение Тарту, октябрь 1944 г. Рига, Балтийское море.
— Куда рвешься? У тебя повязка сочится кровью.
— Вперед!… Еще чуть-чуть… Слышу голос командира.
— Опомнись! Ты не в атаке на Синявино, а в приемной госпиталя.
— Н-н-нет! Не сбивай с путя…
Возбужденный диалог прервали голоса других раненых:
— Смотрите, братцы, этот лежачий танкошлем хватается за ручки носилок, как за рычаги танка.
— И так дернулся с места, что чуть не таранил меня.
— Эй, кто тут ходячий! Сдвинь с моих глаз повязку. Слышу завывание в воздухе, а не вижу, как «лагги» атакуют «мессеров»…
— Что?… Еще не взяли Синявино? Везите обратно в медсанбат. Там врач — свой брат. Сразу осколок долой…
— Где мой левый валенок? Пальцы мерзнут.
— Уберите от уха горлана. Без ноги, а требует, чтоб пятку почесали.
— Холодно. Дуба даю. Покурить бы напоследок. На операцию? И не поемши?.. Нет! Каши и чаю…
— Пить!…
— Утку!…
Надя споткнулась о носилки, и едва не упала на другие — с обгоревшим танкистом. Остановилась, покачиваясь. Некуда шагнуть — кругом люди. Ее, дежурную медсестру, ждут в двух палатках свои раненые, а тут не пройти ни в аптеку, ни на кухню — всюду лежат и сидят вновь прибывшие с передовой тяжелораненые; на носилках и матах из хвои, в тамбурах, и просто на снегу под открытым январским небом. Это возле приемного отделения армейского полевого госпиталя, в сосновом бору, недалеко от фронтового шоссе Волховстрой-Синявино. То и дело слышались просьбы: «Сестра, подойди…» Одни пытались остановить ее голосом, другие хватали за полы …
Из дальней палатки, что маскировалась под кронами заснеженных сосен, выбежала хлопотливая женщина в белом колпаке. Сняла с лица марлевую повязку и крикнула:
— Дубровина Надя, сейчас же отбери раненых в живот и — ко мне, в операционную.
Раненые не отрывали глаз от Нади — худенькой, неугомонной, черненькой медсестры, которая бегом улаживала массу различных дел. Убедившись также, что вездесущая работница госпиталя проворнее других откликалась на все запросы, они все чаще окликали ее. Возгласы раздавались со всех сторон. Надя только успевала вскидывать черными бровками в виде вытянутых в длину латинских букв S, тут же исчезала и вновь появлялась. Простое, ничем не примечательное лицо. Сдержанные, участливые улыбки: «Сейчас. Минутку потерпите. Все будет в порядке».
Требовательный голос врача застал Надю среди носилок, с бинтами, лекарствами в одной руке и с чайником в другой. Она на мгновение смешалась: вокруг слишком много первоочередных дел. Уму непостижимо! И руки заняты. Помощники — санитары, два бойца, в летах — от переутомления, бессменного дежурства, еле двигались, подстилая лапник под раненых, лежавших на снегу; — Озабоченное лицо медсестры невольно выражало озадаченность: что делать?. «Выполняй последнее приказание,»- вспомнила она слова начальника госпиталя, разъяснявшего новобранцам уставные положения. — В данном случае требование врача-хирурга — главное. И Надя стала отбирать раненых в живот.
Незаметно территорию госпиталя заполнила промозглая мгла. Затем — холодная ночь. Забот прибавилось. Ночью никто из медработников не спал.
— Кто там чиркает спичкой!? Не курить! Не хватало накликать ночную бомбежку… — носился сердитый дежурный среди носилок.
Утром — все сначала. И так подряд много дней.
Как-то перед рассветом хирург ушла на кратковременный отдых. А у Нади — одно изменение: сменила загрязненный халат на новый. И продолжила обслуживать больных уже не в двух, а в трех переполненных палатках. Круг обязанностей обширен: выполнять назначения врачей — подбинтовывать раны, следить за пульсом, дыханием тяжелых, вовремя давать лекарства; кормить, поить; выносить утки, раздавать письма, многим читать их и писать ответы; знакомила с последними известиями, читала статьи из газет…
Со всем этим справиться мудрено. Сказывались не столь уж обширные общие познания, небогатый жизненный опыт, небольшие навыки работы с людьми, полученные в десятилетке, за время двухлетней учебы в вузе, на трехмесячных курсах медсестер.
Там, в медицинском институте, были светлые, солнечные аудитории, сверквшие безукоризненной чистотой врачебные кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием. Здесь — армейские полутемные палатки /врачи называют их палатами/, разбитые на мерзлой, болотистой почве, отсутствие элементарных бытовых удобств, условий лечебного режима. Студентам учебного заведения показывали больных с ярко выраженными, характерными признаками и симптомами недугов. В Шумском же лесу, где располагалось «стационарное» медицинское учреждение, вчерашняя студентка впервые столкнулась с невиданными ранениями, страшными увечьями, мучительными страданиями людей. Плюс ко всему — нескончаемые бомбежки, обстрелы…
Bсe это не могло не потрясать новичка в военной медицине. Раз вечером врач перед уходом шепнула Наде: — Иванов — безнадежный. Для некоторого облегчения его участи назначаю: через каждые три часа — подкожные впрыскивания камфары, перед сном — морфий.
Надя выполнила назначения в точности.
На рассвете, однако, Иванов перестал дышать.
И она в панике бросилась в землянку, к своему врачу.
— Несчастье! — захлебывалась слезами. — Иванов умер.
— Прекрати шум, Дубровина к чему тревога, плач? Нельзя по каждому случаю истерику закатывать. Ненадолго хватит и слез, и тебя самой. Нужно делом заниматься, а не реветь. Я предупреждала, что Иванов умрет. Обозначь труп, чтоб не перепутать с другими, разбуди санитаров и прикажи им без ненужной огласки, потихоньку вынести умершего в морг. Hе будоражь больных. И не хнычь. Перестань.
— Не могу перестать, — по-детски всхлипывала Надя, разыскивала и не могла найти выход из землянки.
— На улице уймусь…
Сонные, апатичные санитары вынесли из палатки носилки с мертвым Ивановым. Медсестра, судорожно вдыхая холодный воздух, провожала сзади шествие, как на кладбище.
— Неча на морозе плакать, простудишься,- успокаивал боец.
— Я еще, когда снимал Иванова с машины, заметил, что бедняга не жилец на белом свете; он уже тогда в могилу смотрел.
Надя вдруг обеспокоилась:
— Постойте. Как быть? Врач велела обозначить труп каким-то клеймом.
— Несообразная ты, дочка, — укорял сутулый санитар, продолжая идти. — Посмотрела бы, как до тебя Пейсина бесцеремонно орудовала с нашим братом. Сейчас в морге все покажу.
Бойцы внесли мертвеца в холодную, с незаконченной крышей землянку, положили на жердевой настил и вышли с пустыми носилками.
— Погоди, сестричка, трошки. Пусть труп задубеет. На твердой коже способнее писать. Покурим.
Надя дрожала от холода, страха, переживаний. Дольше одной минуты не устояла — убежала на кухню, выпросила у дежурного дров, принесла несколько охапок в палатку, растопила печку. Вернулась.
Флегматичный боец после глубокой затяжки цигаркой закашлялся: — Аккурат ко времени пришла, дочка. Усопший приготовил себя к клеймению. Погляди, что я буду делать.
Зашли в мрачную землянку. Медсестра с ужасом и отвращением наблюдала, как санитар при тусклом свете коптилки неторопливо послюнявил химический карандаш и старательно выводил на ноге трупа: «Иванов С.В.?».
— Вопросительный знак в конце ни к чему, — поправила она.
— Не спеши. Дай сказать о главном. Вишь, под карандашом кожа после мороза не сдвигается, пишется, как на классной доске. А насчет крючка, такое правило: у нас два Иванова, и умер тот, у которого в истории болезни врач нарисовала большой красный знак вопроса. Вот и вся недолга. Делай, дочка, завсегда так, как я показал. Пошли досыпать.
Девушка долго не могла прийти в себя.
В дальнейшем, однако, оказалось, что повседневные дела, подобные клеймению, — ничто по сравнению с вставшими перед ней проблемами воспитательного, психологического характера.
Среди обслуживаемых Надей 50 больных красноармеец Табаков выделялся и увечиями, и манерами. Надя поглядывала на него со страхом и содроганием. Маленький, весь в кровоточащих бинтах человечек. Калека: перебитая осколками правая нога, левая оторвана снарядом выше колена, поломана левая рука, ранена правая. Он тяжело стонал, бредил. В минуты просветления сознания никого к себе не допускал. Отчаянно кричал:
— Изверги! Прекратите муки! Дайте пилюлю, чтобы успокоиться навеки. Гитлер изуродовал, и вы продолжаете измываться. Мать…
— Надя закрывала уши, металась среди коек, хотела убежать. Но возвращалась к Табакову и произносила первые попавшие на язык слова:
— Успокойтесь, Порфирий Алексеевич. Вы в госпитале, в надежных руках опытных врачей, не дадим умереть.
— Сестра милосердия!.. — саркастически цедил калека. — Берешь на себя напрасный труд уговаривать. «Не дадим умереть». Обрадовала. На кой черт мне жизнь? Какой я сапожник без ног, без руки?
Надя всякий раз подступала к нему наощупь, заранее не зная, какими словами приободрить. Очень хотела облегчить участь калеки и не представляла себе, как это сделать. Пробовала по-всякому. И мало-помалу наступали изменения. Уже то, что у больного появился аппетит, относительно спокойный сон, начинало радовать. Она украсила тумбочку вышитой салфеткой, напротив койки пришила к брезенту палатки картинки из фотоиллюстрированного журнала. Пыталась заинтересовать больного занимательными эпизодами из прочитанных книг. Осторожно расспрашивала о его довоенной жизни. Оказалось, что у Табакова большая семья — жена и четверо детей, старшая дочь в седьмом классе, что он заядлый курильщик. Хотя в палате не разрешалось курить, но медсестра допустила исключение. Скрутила цигарку, прикурила у лампы и дала возможность беспомощному больному несколько раз досыта затянуться. И он, опьяненный никотином, тронутый вниманием девушки, сочувственно заговорил:
— Какой вам интерес возжаться со мною, калекой, стариком? Я — ничто. Идите лучше к молодым раненым, им нужнее ваша забота.
Надя заметила начало перелома и перешла в наступление:
— Молодые не только мужественно воюют, но и терпеливы во время лечения. Прислушайтесь: никто в палатке так не истязает себя и других, как вы. Вон люди с более тяжелыми недугами, чем у вас — обгорелый танкист, летчик с переломанными ногами и руками — они и в боях были орлами, и здесь не теряют человеческого достоинства. Герои.
— Что ж, выходит, я самый невыдержанный, привередливый? — В голосе Табакова звучала нотка стыда. — Наверное, потому, что те герои-танкисты, орлы-летчики кому-то еще нужны. А я — обуза и здесь, и в семье…
Надя усилила натиск:
— В настоящее время вы — обуза для врачей. Мешаете им бороться за ваше выздоровление. Лечащий врач — человек с высшим образованием, с большим жизненным опытом. Неужели вы думаете, что она хуже вас понимает — обуза вы или нет? Если бы врачи считали вас безнадежным, давно махнули бы рукой и не стали бы тратить попусту силы. Все наши медики задыхаются от перегрузок. В палатах столько тяжелораненых нуждается в неотложном лечении!.. Вы уж пожалели бы товарищей по койке да врачей, если себя не жалеете. И еще одно. Вы в армии и для вас слово врача — приказ. Возьмите себя в руки!
— Ну и язычок у тебя, сестра. Будто и правду баишь. Что ж, не стану мешать медицине, наверно, государство не зря ее содержит.
Как-то ранним утром Надя принесла в палатку искусно сделанные из бумаги голубенькие цветочки. Поставила их на тумбочку калеки.
— Зима на исходе. Представьте себе, что запахло весною.
— Настоящие подснежники, фиалки, — удивился Табаков. — Сестра, вы — городская. Откуда у вас чутье крестьянки?
— А может быть, я ваша землячка.
— Моя деревня — недалече от Волхова. В наших краях таких черненьких не бывает. Хотя… — Вглядываясь в лицо Нади, он будто что-то вспоминал. — Вас, кажется, я где-то слыхал или даже видел…
— Север велик. Где конкретно вы жили? — Надя, услыхав ответ, обрадовалась: — Ну вот, этот район я неплохо знаю. — И испугалась своей выдумки: вдруг он начнет спрашивать. И тут же упредила новым вопросом: — Правда, в вашу деревню весной не попасть? Хляби, хуже здешней Малуксы. Любая повозка застревает. Почтальон доставляет письма только пешком, пробирается обочинами проселка. Кстати, какой ваш точный адрес? Скажите, и я угадаю, какие у вас зимы бывают.
Табаков назвал почти все части административного деления своего края. Медсестра мысленно повторила, чтоб не забыть и — наобум:
— Теперь мне ясно. Во время февральских заносов к вам с трудом можно проехать. А весной проселок, который пересекает кулигу (Кулига – поляна (северная область)) за деревней, просыхает первым.
— Правильно. Откуда вы знаете? — удивился больной.
— Вот видите, а не хотите признать во мне землячку, — под- села Надя к нему на табуретку. В беседе она с трудом согласовала свои книжные знания Севера с конкретной жизнью Табакова.
На другой день Надя, уже как своя, села на то же место с листком бумаги в руках.
— Мне хотелось посоветоваться с вами, Порфирий Алексеевич, вот в чем… — начала она в раздумье, как-то вкрадчиво. — От нечего делать, я кое-что набросала вашей жене. Послушайте, что у меня получилось.
— Письмо? Зачем жене знать обо мне, беспомощной обрубке? Не надо.
— Да, — смутилась медсестра и поднялась. — Как быть? А я-то трудилась — так поняла ваше обещание помогать медицине. Выходит, зря.
Больной покряхтел, невнятно шевельнул губами. Затем стал, запинаясь, бурчать:
— Бумагу испортили. Ж труд… Говорите, не сдерживаю своего обещания? Медицине препятствую? Добро. Ежели это нужно для докторов, садитесь, читайте.
— «Здравствуйте, мои дорогие жена Аграфена Пантелеевна, дочка Настя, сыновья Никифор, Ваня, Коля! Посылаю вам привет с фронта. Сообщаю, что я живой и немного ранен. Левую ногу пришлось отнять, но врачи говорят, что ее можно заменить искусственной…»
— Постой, сестра. У меня ж и правой нет, — перебил раненый.
— Ничего. Ее врачи не трогали. О том, что случилось в бою, другой раз специально напишете, — как можно рассудительнее уточнила Надя. — «… зацепило осколками руки, — продолжала она читать. — Так что пока, временно, я вынужден диктовать письмо через сестру».
— Будто только «зацепило»… Одна в гипсе, другая в бинтах. Снимут гипс, тогда и напишем, — убеждала медсестра, продолжая: «…лечат хорошо, медицина у нас правильная, я ей помогаю …».
Заключительные строчки прозвучали по-отцовски наставительно и бодро.
Табаков долго молчал. Надя боялась первой заговорить. Подумав, решительно опередила:
— Ну, как? Отправляю. Родные прочтут, и у них будет праздник.
— Пожалуй, ежели в рассуждении, что так нужно в интересах медицины, то можно было бы и послать. Только насчет любви, целую и прочее — вы перестарались. Раньше я так жене не говорил и не писал.
— Вы забыли, это было раньше, а теперь другое дело, — разъясняла Надя, наблюдая за выражением лица Табакова. — Впрочем, если вы считаете эти слова плохими, я вычеркну. Смотрите…
На лице Табакова проступило слабое подобие улыбки. Это придало медсестре еще больше смелости:
— Медицина считает, что такие слова необходимы и для вас, и для жены. Оставим их. Так и быть. Слова не повредят. Шешуж так врачи требуют, посылайте. Только в самой первой строчке, после имени жены заместо дочки пропишите имя старшего сына. Наперед пишется мужицкий пол, а опосля женской. Вы этого правила по молодости не знаете.
Надя повеселела. Засмеялась. Сделала перестановку имен, аккуратно сложила весточку с фронта треугольником и отправила на почту, Дни летели быстро. Трудно сказать, кто с большим нетерпением ждал ответа: Табаков или Надя. Не было такого дня, чтобы она не наводила справки у почтальона. Хотела первой взглянуть на долгожданную весть.
Наконец, в ее руках — письмо на имя Табакова. Судя по обратному адресу, писала жена больного. Надю мучило предположение: вдруг ответ отрицательный. Что тогда? Это убьет Табакова.
Медсестра внимательно рассматривала грубоватый конверт, сделанный из обложки ученической тетради. После мелких, коряво выведенных: «Полевая почта №…» следовали крупно написанные, с заглавных букв слова: «Моему Мужу Порфирию Лексеевичу Табакову!!!» За жирными восклицаниями красовалась птичка с большим конвертом в красном клювике. В каракулях обратного адреса с трудом можно было разобрать слитно нагроможденные прописными буквами инициалы жены, имя и отчество старшего сына. Такое красочное оформление адресов вселяло смутную надежду. В то же время Надя понимала, что писала малограмотная деревенская женщина, что нельзя усматривать в вольном обращении с грамматикой какой-то скрытый смысл. Ей, однако, до боли в груди хотелось не ошибиться в своих хороших предположениях.
И она решилась. Пришла в палатку и вручила Табакову письмо.
Он с удивлением внешне осмотрел конверт. Раздумывая, попросил вскрыть.
Развернутый лист бумаги заметно трепетал в Надиных руках. Загадочную весточку из дому она поднесла к глазам больного, как нечто опасно-хрупкое, которое при падении может вмиг разлететься вдребезги.
Табаков начал читать про себя.
Напряженное каменное лицо, казалось, оставалось безучастным. Потом неопределенное ожидание постепенно сменялось выражением непонимания. В конце чтения озабоченно кивнул глазами вниз. Это означало: положить письмо на грудь. Надя после длинной неловкой паузы повернулась было к выходу.
— Погодь-ка на часок. Еще покажи…
Второй раз читал дольше, чем первый. На лице – выражение недоумения с оттенком недоверия. Брови медленно поползли вверх. Силился приподнять голову, чтоб лучше разобрать написанное. На лбу заблестели капельки пота. Табаков с трудом мотнул головой: — Сестричка, прочтите сами.
Во время внятного и выразительного чтения глаза больного заморгали, в них появился необычный блеск, веки старались поспешно согнать, спрятать слезы. Губы дрогнули:
— Это место — еще раз… Надя повторила:
— «Какой бы ты ни был, ты нам до крайности нужен. Без тебя все идет через пень-колоду. Мы тыкаемся из угла в угол, как растревоженные ночью куры. С тобою светлее станет в избе… Лишь бы у тебя голова была, чтоб мы услыхали твою команду и узнали бы от тебя точно и доподлинно, что и когда нам следует делать».
Краем глаза медсестра наблюдала за изменением выражения лица Табакова. На нем мелькали и радость, и озабоченность, и грусть и восторг.
— «… Сейчас мы не знаем, как поступить с коровой — продавать ее или нет. Сено кончилось, кормить нечем…»
— Ни в коем случае! — горячо прервал больной. — Нельзя допустить, чтоб сдуру лишиться коровы. Дети останутся без молока…
Через минуты две Табаков немного успокоился и сказал миролюбиво:
— Хорошо, сестричка, вы умеете лечить, и как складно составляете письма!! А еще лучше читаете… Закрою глаза и ваш голос так меняется — будто жену свою слышу. С твоего чтения я понял и непонятное, — перешел незаменто он на близкое «ты».
Надя охотно взялась писать ответ.
— Ну, там начало и конец ты знаешь, как присочинить. Это меня не касаемо. Выводи так, как требует медицина. А в середке на-доть главное прописать: дотянуть корову до весны. В сарае, на чердаке, есть заготовленные мною лико и две связки лозы. Все это еле дует мелко нарубить топором, запарить и давать корове вперемежкус другими кормами. Сено достать из-под застрехи — утепление было — и на дровеннике, под слегами… Посадить поболее картошек…
Второе письмо из дому медсестра принесла вместе с пучком подснежников. Радости Табакова не было границ.
Так жена Табакова постепенно узнавала о том, что врачам пришлось отнять вторую ногу, затем левую руку. Эти известия, однако, не изменили прежнего ее отношения к мужу.
Дочь-семиклассница писала Наде: «Тетенька медицинская сестра разрешите называть вас моей сестрой, помогите нашему папочке быстрее выздороветь и приехать домой. Хотим услыхать его голос… Мы гордимся тем, что он пролил свою кровь за Родину. Вся наша школа ждет его. Пусть приготовится рассказывать о подвигах Красной Армии…»
Когда однажды медсестра по обыкновению устанавливала на тумбочке Табакова свежий букетик цветов, тот как-то недовольно проворчал:
— Ни к чему эти фиги-миги. Мне надо жизнь спасать. Неси лекарства, да поболее.
Все удивились его нетерпеливости. Потом он без конца читал и перечитывал письма из дому. Вся палата знала их наизусть.
Уезжал домой Табаков радостный, веселый. Его несли на носилках к машине. Он не выпускал из своей единственной руки пальцы медсестры. Со слезами на глазах говорил:
— Доченька, признаю: ты взяла надо мною волю и этим спасла меня. И не только меня — я не велика ценность — семью мою спасла, детей… Откроюсь тебе, как на духу… Я не покорился бы никаким медицинским законам, если бы… если бы не манеры одной палатной сестры… Да, да!.. Твои, Надя, поступки, разговоры были разные — то мягкие, то жесткие, — и напоминали мне моих начальников — часом сержанта /веселого разведчика/, а часом танкиста в пехоте, эдакого худощавого студентика, обтянутого ремнями и с тремя кубиками в петлицах. — При этих словах круто изогнутые Надины брови резко приподнялись и глаза как бы с удивлением спросили: «Неужели?». А Табаков невозмутимо продолжал: — Тогда надо было выполнить мне, дураку, команду: «Делай, как я!» и беды не случилось бы… Мы мчались десантом на танке по лесной просеке. И попали под артналет. А над головой — кроме осколков и обломки деревьев. Студентик в ремнях подал команду спешиться, и сам показал, как это следует сделать.
Отделился от башни, шагнул на левый подкрылок танка и сиганул в снежный сугроб. За ним — остальные десантники. А я так пригрелся сзади за башней на жалюзях, что никак не мог оторваться. Подумал: авось пронесет, не заденет за броневой стенкой, и первым достигну вражеских окопов. Сержант крикнул, что на пути танка накренились к земле две сосны, что они сметут любого смельчака с машины, что надо турманом вон с брони. Он дернул за мой рукав, передвинулся к левому борту и, как голубь-вертун, втянул голову в плечи, кувыркнулся через левое плечо и бросился в снег. Я только потом понял, почему сержант не столбом прыгнул. При кувыркании клубком уменьшался шанс столкнуться с приближавшейся сосной. И я посмотрел из-за башни вдоль просеки. К машине мчалась наклоненная под острым углом сосна. Я растерялся. Распластался на жалюзях — будь что будет. И случилось самое страшное. Сосна в мгновение ока смела меня с брони в колею. А по колее фриц, как бешеный, замолотил снарядами — стремился попасть в танк. И меня переворачивало, кромсало до тех пор, пока — я после узнал, — мои товарищи с налета, по-соколиному и турманами не налетели на огневые позиции вражеской артиллерии…
Мотив твоего голоса, сестра, иногда бывает переливчатым — то как у того сокола в ремнях, то как у турмана-сержанта, — закончил Табаков.
— Всяко бывает, — тяжело вздохнула Надя, подавляя в себе желание, выяснить у Табакова фамилии примечательных десантников. Подумав, что не время и не место отвлекаться на сугубо личное, интимное, пошутила: — Случается, что и курица петухом запоет.
Шумский сосновый бор гудел таинственно, загадочно.
С фронтовой дороги — наезженный поворот в просеку. У крайних сосен — огромный березовый шлагбаум. Справа, возле деревянной будки пританцовывали на скрипучем снегу три танкиста.
Вечер тихий, морозный.
— Перестаньте морочить мне голову. Какие могут быть свидания в неположенное время, — отмахивался в дверях будки, словно от нaзойливых мух, толстенький краснощекий военный, тепло одетый, без знаков различия, неопределенных лет.
— Ну и порядочки завели, — старался сдержанно рассуждать лейтенант Самохин, избегая привычных, резко критических выпадов. — Уже нельзя навестить раненых сослуживцев. А, может, они нуждаются в чем-либо. Двое из нас уезжают в командировку, оттуда привезли бы кое-что.
— Ай, бросьте! — тоном сердитой шутки прервал краснощекий.
— В нашем госпитале больные ни в чем не нуждаются. Забиваете мне баки выдумками о командировках — на фронте их не бывает. Скажите прямо.
Его большие глаза навыкате приняли маслянистый блеск, хитровато сузились: — Вас интересует свидание с девушками. Что вы на это скажете, мой случайный знакомый? — отнесся он к Гридину. — Ах, виноват — на вас не только комсоставская портупея, но и по три кубика на петлицах; тогда, во время ночной суматохи я не разглядел.
Танкисты переглянулись. Обычно умеющий владеть собою Гридин на этот раз открыл, было, рот, намереваясь отпарировать, но помешал друг детства сержант Троян. Тот сдержанно произнес затруднительное «Гм». И Гридин, сняв перчатку, дунул на пальцы, словно греясь.
— Понимаю. Лежать на снегу под стволом оружия до тех пор, пока я не прибыл, удовольствие ниже среднего, — хихикнул краснощекий.
Гридин порывисто надел рукавицу. На впалых щеках его сухого лица дернулись мускулы. Тонкие губы сжались. Он вновь переживал, вспомнив неудачные попытки встретиться с Надей. Первый раз дежурный придрался к документам. Второй, заход с тыла оказался еще более неудачным — невесть откуда взявшийся часовой остановил щелчком затвора. На все разъяснения, уговоры боец нерусской национальности отвечал только тремя словами, будто других не знал: «Ложись! Стрелять будем!» Пришлось растянуться на снегу. Спустя четверть часа, появился краснощекий толстячок. С видом строгого начальника ругал, стыдил и в конце-концов грубо прогнал в лес «нарушителя и дезорганизатора работы госпиталя», так и не пожелав выслушать никаких объяснений.
Напоминание об этом инциденте разозлило Гридина. В нем бурлило негодование. Но усилием воли превозмог себя и заговорил примирительно:
— Не стоило поднимать так много шума из ничего. Мы с вами волею командования размещаемся бок о бок.
— А с соседями полагается жить в мире, — мягко добавил Троян.
— Знаем таких, — не поддавался краснощекий. — Присоседились тут летчики из Кобоны. Каждый из вас мимо девки, что мимо гороху, так не пройдет. В Шуме и кикимора в почете.
— Странно. У танкистов иное мнение о вас и о ваших работницах. Так что, разрешите навестить раненых однополчан. Кстати, они на ногах. У одного пуля прошила мякоть выше локтя, у второго осколок застрял в кисти левой руки… — и морализовал, и просил Гридин.
— Нашли, кого дурачить. Будто неизвестно, какие вас интересуют руки и ноги. Но нет! Никаких амуров!.. Сейчас медсестры выполняют назначения врачей. Затем ужин, заготовка дров, топка печей… Нечего отвлекать медперсонал от дела.
— Кажется, вы родились и выросли не на здешнем болоте Горелов Балаган, а едки, хуже клюквы, — дружелюбно пошутил Троян.
— Чтоб не морщиться, подслащивают, — ответил краснощекий с какой-то непонятной интонацией.
Танкисты не знали его служебного положения. Внешность и повадки навели Самохина на предположение, что перед ними хозяйственник, и он издалека закинул удочку:
— Как вам угодно. Я через пару часов уезжаю в Ленинград. Оттуда мог бы привезти отличного одеколона, ароматных духов, папирос, бутылочку крепенького…
— Будто у вас там есть знакомство, — не то вопросительно, не то отрицательно проговорил краснощекий и впервые стал всматриваться оценивающим взглядом в каждого.
От соколиной осанки и сухого черно-турмалинового блеска в глазах худощавого Гридина он слегка смешался — будто в чем-то виноватый. Но рядом кротко-голубиное выражение лица круглоголового Трояна приободрило: мол, у нас хорошие намерения, никому зла не причиним. «Наоборот, если надо, защитим, поможем», — исходило от атлетически красивой фигуры Самохина. Его выразительные жесты, мимика, казалось, свидетельствовали о деловитости, активности характера. Все это начинало нравиться краснощекому, и тот улыбнулся.
«Неужели клюнуло?» — еще более оживился Самохин. И принялся сдабривать приманку:
— У нас за Невой полно друзей. Мы даже в трудное время блокады получали от них всякие дефициты, а теперь запросто. Там можно было бы достать хорошие медицинские инструменты. Беда только, что вы в этом деле профаны. Для начала привезли бы мне пишущую машинку, копирку, ленту, бумагу.
— Все это — проще пареной репы. Я расспрошу в штабе. У нас машинистки давно пользуются разноцветными лентами и такой писчей бумагой, на которой хоть деньги печатай, — хватил через край Самохин.
Он вынул из кармана блокнот и старательно делал пометки в нем о хозяйственных нуждах госпиталя.
Когда коммерческий разговор исчерпался, краснощекий подозвал к себе усатого санитара, приказал ему бдительно нести службу на проходной, а сам, направляясь в глубь сосновоео бора, прощально кивнул через плечо:
— Ну, ладно, пока… Хорошие вы ребята, но мне пора на кухню. Ужин готов. Пробу сниму. Вернетесь из командировки, подойдите к проходной и спросите, где майор Гарам. Дежурный направит.
Друзья удивились. Странная фамилия. И своеобразная фигура — невысокая бочка на коротких ножках, с длинными руками. А главное — необычные для майора манеры.
Поскольку «бочка» собиралась укатить, Самохин с напускным равнодушием сделал попытку остановить ее:
— Товарищ майор, вы забыли распорядиться, чтоб вызвали из палаты, хотя бы одного нашего больного, скажем, сержанта Моторного. Или нам самим поискать его?
— Не знаю такого. Не могу, — расщедрился бочкообразный человечек сразу на два отрицания.
— Жаль, что из-за пустяка не выгорит дело, — искусно копировал Самохин тон майора. — В записной книжке раненого сержанта — важные ленинградские адреса.
— Вы из меня душу вынимаете, — озабоченно почесал майор свой нос с горбинкой. — Но так и быть. Беру ответственность на себя…
Троян обрадованно шепнул друзьям:
— А что?.. Бывает, и курица петухом запоет.
— Зайдите вон в тот дальний сруб, что с авиабомбой на крыше. И там подождите, — махнул тот короткой рукой в глубь расположения госпиталя. — Дубровина Надя устроит свидание с вашим товарищем. Надеюсь, имя девушки вас устраивает? — плутовато мигнул он, как птица, снизу вверх своим круглым большим глазом, покосившись в сторону Гридина.
— Вполне. И к Дубровиной есть дело. Она — наша землячка.
— Бегом,- подхватил Самохин и шепотом добавил: — Иначе этот монстр передумает.
Вот и продолговатый сруб с диковинной дымовой трубой, кожухом авиабомбы. Узкая дверь ввела танкистов в небольшое, уютное помещение. На столе слабо теплилась керосиновая лампа. Гридин подкрутил фитиль — рядом, в рамочке заблестела глянцем фотокарточка.
Троян радостно воскликнул:
— Костя, твое фото! Значит, Надя здесь живет. Нам повезло. Самохин рассматривал внутреннее убранство помещения.
Так, так. Недурственно, — оценивал он увиденное. — Чистенько, аккуратно, не то, что наш мрачный чулан. И дух какой-то иной, я бы сказал, приятный, завлекательный. Интересно, сколько здесь живет девушек? — Раздвинул он марлевую ширму. За ней белели четыре постели, аккуратно заправленные на двухярусных нарах. Пятая, узкая кровать, вытянулась вдоль противоположной стенки, недалеко от столика, над которой светлело маленькое окошечко.
— Ребята, в этом теремке — пять царевен. Костя, попроси Надю, чтоб она познакомила нас с подружками-жиличками.
— Саша, не узнаю тебя, — добродушно заметил Троян. — Ты изменяешь своим принципам.
— Частично. Но с целью. Начинаю активную борьбу против Геры Мотылькова. У меня с Ваней Моторным есть тайный сговор. Дело вот в чем. Легкораненый вертихвост Гера здесь уже третий день. И, говорят, уже помышляет закрутить новый роман. Для него такой теремок — мечта. Но мы-то знаем, как Гера опошляет сердечные чувства, и в какого безвольного хлюпика после общения с девушкой превращается на службе. Поэтому, следует оградить парня от того, что ему вредит.
— А не наивно ли все это, Саша? — осторожно усомнился Троян.
— В бригаде тебя знают, как убежденного женоненавистника. И наш однолюб Костя начал разделять твои убеждения. Теперь вдруг — изменение. Сослуживцы подумают: не под влиянием ли встреч с новыми голосистыми соседками? Следует ли тебе, Костя подавать повод для кривотолков? У Нади острый глаз, на твоем лице все прочтет.
В тоне Трояна чувствовалось дружелюбие. Его, поэтизировавшего сердечные чувства, однако, подкупала занимательность и новизна высказываний Самохина.
За стеной послышались частые шажки. Гридин насторожился. Он опасался, как бы балагур Мотыльков не успел наплести Наде о новых соседях-девушках, к которым на днях заходил он Гридин; тот наверняка не сказал, что, мол, по служебным делам. Геру по привычке понесет: дескать, танкисты в перерывах между боями только то и делают, что флиртуют с медсестрами, прачками, поварихами…
Дверь решительно открылась. На пороге выросла девушка, вся в белом.
— В самом деле — танковый экипаж! — всплеснула руками Надя.
— А мне не верилось. Подумала: разыгривают. И Петро нашелся!.. Здравствуйте! Какая встреча! Ваши однополчане рассказывали, мне и об атаке, и…
В лицо Гридина ударила краска: и о чем еще?… В быстром, как бы поверхностном Надином взгляде ему показалась едва уловимая колючая искорка. Подавляя в себе безотчетное волнение, он почесал пятерней жесткий, угловатый подбородок.
— Познакомься, Надя, с нашим однокашником, — кивнул Гридин на Самохина. — Я как-то говорил тебе об остром на язычок товарище. Но сегодня, на проходной наш Саша сдал экзамен на тонкого дипломата — сумел ублажить ваше начальство…
Они обменялись рукопожатиями. И Надя сразу стала наводить порядок в комнате, не умолкая:
— Мы уж тут думали-гадали: что произошло с майором? У него сердце жестче заскорузлого на морозе палаточного брезента, а разрешил вам пройти на территорию госпиталя.
— Кажется, нам удалось нащупать слабую струнку майора… -Самохин вкратце рассказал Наде о разговоре с краснощеким.
— Он с каким-то затруднительным вздохом сообщил мне, что к нам прибыли трое: мол, ничего не поделаешь, надо встретить и проводить. Известие о визите трех танкистов облетела с быстротою молнии все палатки. И меня по пути сюда останавливали, спрашивали…
У Гридина сорвалось с языка как раз то, о чем он ранее намеревался умалчивать.
— Все прежние попытки встретиться с тобою кончились тем, что меня здесь уже знают, как облупленного. Поэтому, митинг сейчас не нужен… — и он рассказал о своих злоключениях на подступах к госпиталю, попутно заметив, что Надя не отвечала на его письма.
— И мне неприятно выслушивать всякие новости, упреки начальства о происшествии на посту Алиева… — в унисон отозвалась Надя, пропустив мимо ушей замечание о неаккуратной переписке.
Вышла неловкая пауза. Гридин не находил, что ответить. Ощутив толчок сапогом Самохина, поторопился, но неудачно:
Наша бригада вернулась в Шум на отдых. Расположилась недалеко от вас, за оврагом. И сразу же Саша уезжает в Ленинград ремонтировать танки, а Петра откомандировывают с машиной к соседям. Наш земляк разуверился найти здесь свою мечту — местную царевну Валю-Волхову. Его поэтическая душа нуждается в участии, поддержке… В отъезде обоим будет веселее, если создастся, хотя бы видимость того, что их кто-то ждет в Шуме, как дома. Поэтому, Надя, познакомь парней с девушками.
Она резко вздернула черными бровями. «И ты за этим пришел?» — прочел он немой вопрос.
Троян попытался сгладить намечавшееся обострение в разговоре:
— Наговоришь, земляче, семь бочек… Ребята ведь шутили. Надя, когда нам с Костей бывает грустно, мы вспоминает тебя и пословицу: «Терпение — это умение надеяться».
— Петро опять садится на своего любимого конька, — вмешался Самохин. — Признайся лучше, что окончательно потерял следы царевны Волховы, что первоначальный восторг от радио знакомства постепенно проходит. Наверное, уже начинаешь сожалеть, что лучшие адреса раздал другим… Надя, вы читали в газетах очерк о 500 письмах? Нет… — и он рассказал о девичьих посланиях, полученных Петром из глубокого тыла в ответ на свое письмо к родным, которое передавало московское радио.
Надя слушала, поправляя одеяла на постелях. При этом еле заметно покачивала головой: «Вон, оказывается, чем вы занимаетесь».
— Саша преувеличивает… — слабо оправдывался Троян.
— Не возражай, Петро. — Самохин старался поддержать в разговоре полушутливый тон. — Просто знаю, звучание, каких струн вызывает у тебя поэтическое настроение. Это известно, по-видимому, и твоей землячке. — И он обратился к Наде: — Посоветуйте, стоит ли говорить девушкам, с которыми вы нас познакомите, что мы уезжаем?
Она выпрямилась, посмотрела в лицо каждому из друзей и задержала сосредоточенный взгляд на Гридине.
— В том, что люди по служебным делам на время покидают друг друга, нет ничего плохого. Наоборот, появляется возможность проверить свои чувства как бы со стороны.
— Правильно, — сразу согласился Самохин, не уловив тонкого саркастического оттенка последней фразы. Заметив, однако, что Надя затянула потуже поясок халата и взяла перчатки, подумал, что она куда-то заторопилась. И посмотрел на часы: — Видимо, время вышло. Неужели мы неудачно проскользнули к вам?
— Счастливые время не наблюдают. И раз уж «проскользнули», то сожалеть не надо. — Бросив непонятный взгляд в сторону Гридина, Надя сдержанно продолжила: — Двое из моих подруг уже знают, что вы здесь. Сейчас придут.
— Как они настроены?.. Одна замурлыкала мотив популярной песенки. Вторая неопределенно хмыкнула. И третья попалась на глаза, но она пока занята эвакуацией оперированных больных; а четвертая — в командировке.
— Те, что на месте, кто такие? — Самохин, как ему казалось, «выручал» замолчавших друзей. — Расскажите, Надя, что они из себя представляют.
— Местные, простые девушки. Мы еще не успели близко познакомиться. Я только на днях перешла к ним жить.
Снаружи стала доноситься, все нарастая, песня:
Три танкиста
Три веселых друга —
Экипаж машины боевой…
— Ну, вот идут. Сейчас увидите.
Гридин и Троян, словно уловив что-то знакомое в девичьем пении, многозначительно переглянулись, вытянули шеи.
Открылась дверь. В помещение шагнули одна за другой разрумяненные морозом и волнением медсестры, в белых халатах и косынках. Обе нарочито по-уставному козырнули:
— Здравия желаем!
Троян, словно прирос к месту, язык проглотил. Оторопело заморгал глазами.
Ростом меньшая вскрикнула:
— Ой! — и кинулась к Гридину: — Вы? Откуда?!.
Пожав молчаливо протянутую руку, она села на край кровати и зачастила:
— Фу! Дух захватило. Какой вредный майор, а на такой сюрприз решился…
— Лиза, Валя! — наконец, изумились Гридин и Троян. — Как вы здесь очутились?
— Когда вы от нас побежали, мы тоже бросились… — быстро затараторила та, что ростом поменьше.
— Ничего не понимаю, — сначала побледнела Надя, затем покраснела и смерила вопросительным взглядом земляков — Гридина и Трояна.
— Когда и как вы успеваете?
Друзья детства понимающе обменялись взглядами: «Я счастлив… И ты, Костя, не переживай. Все само собою образуется. Было бы хуже, если бы здесь появилась Валина сестра».
«Но нет гарантии, что она не появится…» — и с опаской пос- мотрев на дверь, Гридин начал разъяснять Наде:
— Мы с Петром давно знаем Валю и Лизу. Я однажды намеревался рассказать тебе, но ты не пожелала слушать, а теперь удивляешься.
— Мне тогда показалось, что ты о другом, или, вернее, о каком-то третьем знакомстве собирался похвастать.
Про себя Надя отметила, что его тон, выражение лица выдавали человека, которого беспокоило не то, что произошло, а то, что еще может произойти. «Неужели и он такой же ветренный, как Мотыльков?» не хотелось верить своим смутным предчувствиям.
Взволнованный Троян протирал глаза — не сновидение ли? Жмурясь, зарделся, будто перед лучами яркого и жаркого света.
Валя своим скромным, стеснительным видом как бы старалась утишить волнение встречи… Именно такой Троян, раз видел ее в мечтах. От избытка чувств, полноты сердца парень немел. То же самое происходило и с Валей.
— Я вижу, что моя задача совсем упростилась, — заполнила Надя неловкую паузу. — Мне остается представить девушкам третьего члена танкового экипажа…
Подруги пожали руку Самохину.
— Ну вот и «Три танкиста», — заметила Надя с ударением на последних двух словах. — Вспоминаю Петра пословицу: «Песня поется кстати». Продолжай, Лиза, раз твой голос такой везучий.
Та не стала упрямиться — запела. Подхватили другие. И популярная мелодия всех сблизила, помогла найти общий язык.
— Мы каждый день вспоминали о вас, — дала волю Лиза своему остренькому язычку, помогая мимикой заостренно-маленького миловидного личика и блеском оживленных глаз. — Костино фото у Нади нас очень заинтриговало. Я долго шушукалась с Валей, с ее сестрой… Ломали голову, думали, как выяснить загадку. Особо проявляла нетерпение Валина сестра. Но боялись испортить чьи-то отношения. И вот случай помог…
Она сжато рассказала о кратковременной случайной встрече с Петром и Костей в Ратницах осенью сорок первого.
— Ладно. Хорошо. Садитесь на кроватях, у нас нет стульев,
выражала Надя видимое удовлетворение разъяснением подруги.
И Самохин начал активничать в разговоре, все чаще поглядывая на Лизу. Казалось, ему импонировала энергичная, непосредственная хохотунья.
— Теснота в ваших хоромах, — вдруг заметил Самохин отвлеченно. После паузы подчеркнуто добавил: — Три танкиста — экипаж легкой машины, а наша фронтовая дружба окрепла в боевых четверках и пятерках. Поэтому, где наш четвертый товарищ — Ваня Моторный?
— На днях к нам поступил и пятый — Гера Мотыльков, — вставила Надя.- Это верно, что он — в экипаже KB, а вы теперь — десантники? Гридин и Самохин почти одновременно резко произнесли:
— Нет!..- Танкисты не любили говорить о том, что им приходилось атаковать врага по-пехотному, а не за рычагами машины боевой.
Надя под впечатлением рассказа Табакова мягко заметила:
— Наверно, в бою бывает всяко. — И неожиданно обернулась к Гридину:
— Сходим, Костя, вместе за Ваней. Заодно и ужин принесем.
Гридин, недоумевая, согласился, и они ушли.
Троян с Валей сели возле столика. Их возбужденные лица, блестящие глаза с опережением раскрывали чувства, о которых слабо, невнятно срывалось с языка.
— Вы тогда, в памятный вечер первого снега возмутили наше спокойствие. Сначала загорелась Лиза. Она потащила меня с сестрой в Волховский райвоенкомат. Оттуда мы не вернулись. Добровольно вступили в армию. Стали работать в санитарной летучке… Там поняли, как необходим наш труд.
— Костя мне рассказывал и о второй случайной встрече с вами. А летом прошел слух, что какую-то летучку сильно бомбили гитлеровские стервятники на станции Жихарево. Я так переживал…
— Фашистские коршуны пикировали над красными крестами везде. И все же нам приходилось лечить пленных летчиков. Они несли антисоветчину. Но никто из нас не упрекал раненых гитлеровских разбойников за измывательство над нашими товарняками. Есть строгий приказ… И как только уцелела наша санлетучка…
Троян заметил, что Валя разговаривала с ним сдержанно, как-то боязно. С беспокойством вспоминала о матери, отце, братьях.
— Очень волнует судьба родителей. Они снялись с насиженных мест. Остановились на Правобережье Волхова. Не хотят покидать родную землю. А сестра носится, как метеор. Никогда не унывает, поет, пляшет. На днях уехала в сущий ад… Теперь я одна.
— Только не падать духом. Вы — старшая в семье и обязаны всем задавать хороший тон. Я тоже первый среди сестер… Не знаю, где сейчас родные. Стараюсь держаться… Бывает, находит хандра. Но посмотришь — кругом люди. И стремишься быть не хуже других.
Троян делился и своими разочарованиями. Не скрывал, что был случай растерянности — это когда оказались безрезультатными попытки разорвать кольцо блокады Ленинграда. Тогда, в критические минуты фронтовой жизни, он вспоминал о памятной встрече с Валей в Ратницах, о передаче по московскому радио письма к родным, о чувствах, вызванных письмами сотен незнакомок. И тут же ловил себя на мысли, с какой стати он рассказывает едва знакомой девушке о себе всю подноготную, выворачивает душу наизнанку. Воображение еще не освободилось от тяжелых картин боя под Синявином, где была прорвана блокада Ленинграда, а тут — неожиданный отъезд из родной бригады, и главное — встреча с Валей. Эта девушка — как все, и в то же время не похожа на других. Бывать вместе с ней — необыкновенный праздник.
Разговаривая с Валей, Троян боялся неосторожным, неудачным словом, жестом отпугнуть ее от себя. Ему невольно шли на ум неприятные сравнения, параллели. Он не знал, чем отвратил Веру, которая не дождалась его из армии и вышла замуж; недоумевал, почему потускнела переписка с некоторыми из 500 корреспонденток.
— Вам не охота уезжать из бригады? — нарушила Валя его раздумья.
— И тяжело расставаться с боевыми побратимами, и надо… Теперь мы рядом. Хотел бы с нового места написать вам…
За ширмой бойкая на язык Лиза заливалась смехом:
— Как вы считаете, я понравилась бы вашей маме?
— Почему бы и нет? — неузнаваемо звучал голос «прирученного» Самохина.
— Я еще ни с кем не была близко знакома.
— Зря. Вокруг столько молодых парней, героев…
— Приставал один из вашей бригады, Мотыльков. Отшила. Не люблю таких, которые хвастают о своих победах, которые сразу запускают глаза, куда не следует. Но Гера не растерялся — начал приставать к другой. Видно, ему все равно… У вас сестры есть? Они не вредные?
— Как сказать?.. Любят сидеть на чьей-то шее. Им угодить мудрено. А вы не бываете злым?
— Если кто-либо разозлит, бываю.
— Правда, что на вашей родине кизяком топят?
— Кое-где на Орловщине топят.
— В танковой бригаде есть сапожник? Мне перешьете сапоги по ноге? Хотелось бы иметь такие, как у Музы, — и тут же Лиза взяла с парня слово сшить ей модные сапожки.
Пришли Гридин, Надя и Моторный. Они застали Трояна и Валю, рассматривавших фотоальбом. Их головы склонились над столом и почти касались друг друга.
Лиза и Самохин за ширмой держались за руки. Он пытался было подняться с кровати, но девушка удержала:
— Ничего. Это свои.
Моторный по обыкновению жестом рассек перед собою воздух, потом сказал:
— Добрый вечер, хлопцы и девчата! Видно, вечерницы уже давно начались. Я опоздал.
— Ничего себе опоздал, — возразила Лиза и открыла ширму. — Ты успел больше других. Почему один пришел? Показал бы товарищам свою кралю.
— Да? — оживился Гридин, подумав, что эта «краля» могла быть Валиной сестрой. Закончил, однако, спокойно: — Ваня еще не выздоровел, а уже заболел?
— Теперь можно открыть тайну: очаровательная девушка сразила Ваню наповал. Смотрите, он так и присел на ее кровать.
— Перестань, Лиза, — попросила Надя.
Моторный пустил в ход жесты, будто от кого-то отбивался:
— Не надо… Но, если хотите, открою карты. Я ведь понарошке, невсерьез… Хлопцы знают. Мы тут договорились Мотылькова изолировать. Разве не ясно, что та нежная дивчина не по мне? От меня, довоенного механика-водителя, несет маслами, солидолами, железом… И кроме всего прочего, у нее есть летчик.
— Был да улетел, — с непонятной грустью вздохнула Лиза. — И танкист, было, загорелся, да так и сгорел. Рассказать вам, не поверите.
Гридин и Моторный обменялись вопросительными взглядами.
— Нечего смущать парня, — абстрактно произнесла Надя. Затем сочувственно улыбнулась Ване: — Больной первый раз вышел из палаты и сразу — под перекрестный обстрел.
— Ваня, в каком состоянии твои руки, нога? — попытался Троян переменить тему разговора. — Когда сможешь держать рычаги, выжимать педали?
— Дней через десяток. Главное — пальцы действуют.
— Вместо тебя уезжаю на «Урале» в соседнюю часть. Что нужно знать, чтоб не опозориться среди незнакомых танкистов?
Моторный с увлечением начал рассказывать об особенностях вождения видавшей виды тридцатьчетверки, разъяснял ее «капризы», «привычки».
— Не вовремя открыли техническую конференцию, — вмешалась Надя. — Видно, плохо мы принимаем гостей. Какими же лакомствами вас порадовать?
— Если можно, продолжайте угощать тем, чем начали — вниманием, сердечной добротой,- с чувством произнес Троян.
— Наверное, чего-то недостает для повышения теплоты встречи. Ах, да — а горячий чай, разве не угощение?
— И еще кое-что найдется, — добавила Лиза и метнулась под нары. Достала запыленную бутылку, вытерла марлей и поставила на стол. — Я, как предчувствовала: сохранила наши праздничные северные пайки.
Надя с ухмылкой: «Пускай будет так» разлила водку в три кружки и в четвертую крышку от котелка.
— Мы очень рады гостям, — сказала она. И пригласила парней:
— Поднимите за счастье эти фронтовые «бокалы».
— Нет, девчата, мы не знаем, каким зельем вы хотите нас напоить, — с улыбкой возразил Троян.
— Просим вас отпить хотя бы наполовину, а остальное мы осушим до капельки.
— Правильно, — поддержал Гридин. — Это будет означать, что вы готовы не на словах, а на деле испить с нами любую чашу до дна. Так принято в танковом экипаже.
— Да, но как быть с Ваней? — обеспокоилась Лиза. — Кто снимет пробу из его фигурной чарки?
В дверь постучали.
Гридин повернул голову — ему померещилась за дверью Валина сестра.
— Знаем, кто стучит. Не миндальничай, заходи, — отозвалась Лиза.
На пороге выросла стройная девушка. Без головного убора, с высокой модной прической каштановых волос, с правильным овалом нежного, очень красивого лица и блестящими глазами, которые сразу почему-то стыдливо-виновато потупились. Сделав шаг с низенького порога на возвышение бревенчатого настила-пола, она на мгновение застыла в странной позе. Полы коротенького узенького халатика разошлись, обнажив белые, будто отполированные полные колени и ладно подогнанные к ноге глянцевито-черные хромовые сапожки. Затем звучно щелкнула каблуками и тут же начала старательно закрывать колени своей слишком обрезанной одеждой, хотя когда стояла каблуками вместе, в этом не было надобности.
У Гридина отлегло на душе. Это не была Валина сестра.
Незнакомка жмурилась, как при ярком свете. Наблюдательный Троян мысленно возражал: «Не такой уж яркий свет от керосинки, чтоб так жмуриться». Когда в ответ на резкое замечание Лизы она подняла вверх черные длинные ресницы, все стало ясно: большие темные глаза излучали нечто такое, что способно проникать к мужскому сердцу сквозь самое грубое сукно шинели, гимнастерки. «Видать, ты знаешь колдовскую силу своих очей, потому и прячешь их», — качнул головой Троян.
— Вот и наша Муза, — объявила Надя. — С ходу принимай свой ковш и говори то, что у тебя на душе, — с этими словами она подала девушке крышку котелка. Та немного смутилась, поздоровалась и стала внимательно разглядывать свое питье.
— Я не знаю, что у вас происходит. Может, какой-то комплот, старательно выговаривала она слова с каким-то непонятным акцентом.
Блеск ее глаз чудесно гармонировал со сверканием в волосах крупных снежинок.
— Не надо, Муза, манерничать, — запросто выпалила Лиза. Здесь все свои. Ваня, как пришибленный, без тебя не знал, что говорить. Только руками махал. Теперь, смотри, расцвел.
— Для полного веселья недостает Любы, — вставила Валя.
— Да твоя сестра — огонь-девка, задала бы здесь трепака, добавила Лиза.- Откомандировали ее в Жихаревский госпиталь.
«Хоть в этом мне повезло, — подумал Гридин,- Иначе я бы выдал себя перед Надей, что однажды еле устоял перед красотой Любы».
— Мне все равно. Могу заменить Любу, выручить ее, — кокетливо заиграла Муза глазами. — Я согласна с большинством.
В ее тоне, манерах невольно сквозило сознание своего превосходства над подругами. «Да, ты можешь заменить не только Любу», — все больше убеждался Гридин в преимуществах Музы над подругами.
Наконец, от имени мужской половины Гридин вмешался в разговор:
— Выходит, что ваш майор не такой уж диктатор. В демократическом духе воспитывает подчиненных. Теперь можно сказать, что сестринский экипаж среднего танка — в полном составе. Покажите нам, что и как надо делать с тем, что налито в ваших объемистых «хрустилях».
— Уточняю тост, провозглашенный Надей, и чуть не сорванный разговорами, — вмешался Троян. — За благополучное возвращение из Жихарева Любы. Для нее найдется пятое место в экипаже, например, в новеньком КВ. Лишней не останется. Итак, принимаем вас, девчата, в танковую пятерку внештатными дублерами, нашими помощницами. Будете незримо сопровождать нас в боях. Пусть каждый танкист в экипаже отныне чувствует за спиной свою боевую подругу. За дружбу!
— Теперь трудитесь спокойно и уверенно, как за танковой броней! — усилил Самохин.
— Ура! — крикнула Лиза. — Давно мечталось о броневой защите. Подруги слегка пригубили посудины и передали гостям. При этом Муза одарила парней таким проникновенным взглядом, что когда манерно погасила его темными длинными ресницами, то весь ее вид как бы ликовал: мол, стоит мне только захотеть и любой из вас мой. Она была уверена в этом из опыта.
С улицы поступила команда:
— Медсестры, на выход! Прибыла партия раненых.
Девушки наскоро простились с танкистами и убежали в свои палатки. Гридин, уходя, попутно зашел с Надей в приемное отделение. Там уже началось распределение по палаткам привезенных с фронта раненых.
— Поражаюсь тому, как ты просто, с какой-то профессиональной формальностью обращаешься с нашим братом, — заметил Гридин, наблюдая за работой Нади. — Кажется, в твоих действиях сквозит равнодушие к ранам, увечьям, страданиям. Закалилась?
— Привыкла, — вздохнула она.
— В такой обстановке твое нежное сердце очерствеет, превратится в камень. Петро, например, советует, отвлекаться…
— Не Петро, а повторяешь слова Мотылькова.
— Да? Значит, тот копировал Петра. Что он еще наплел?
— Сам знаешь. Или тебе приятно еще раз услышать? У Гридина загорелись уши.
Мимо просеменила мелкими шажками медсестра-кубышка. На ходу она игриво тряхнула головой в белой косынке:
— Надя, на твоем столике — письмо от Лихачева.
— Так загружена, а переписку ведешь, — не знал Гридин к чему придраться. О том, что Надя не ответила на его три письма, намеренно умолчал.
— Приходится. По необходимости.
— У нас Петро запарился. Я выручал его, многим писал, — сорвалось у него некстати.
На обратном пути «кубышка», словно под большим секретом сообщила Наде:
— Тебя зовет Любавин. Срочно. — И громким шепотом добавила: — Степанов ни в какую никому не дается. Забеги, уколи его.
— Гридин ухмыльнулся: к чему эти «секреты», таинственный шепот.
Надя объяснила запросто:
— Эта вертлявая коза восемь лет работает медсестрой и не умеет попасть иголкой в вену. Благо ее забирают куда-то на повышение. Мотылькову не понравилась фамилия — Пейсина, — а все же ударяет за нею.
— А ты попадаешь в вену?
— В любую, самую скрытую. Ни разу не промахнулась.
— Да. В одном успеваешь, в другом нет. Чужой пульс нащупываешь, а свой не слышишь.
Вошла врач.
— Дубровина Надя, возвращайтесь в свою палатку. Веселову плохо. Я сделала назначения. Сейчас же исполните их. Вас подменит Пейсина, — распорядилась врач и ушла.
— Заменимых много, а незаменимых мало… Когда увидимся? — удручено поднял голову Гридин, вынужденный уходить.
Его поразил до странности холодный ответ:
— В этой обстановке не до встреч. Сам видишь.
— И чувствую… Не обстановка над нами, а мы над нею. Приду. Они простились до крайности холодно.
Гридина терзали неизъяснимые, туманные намеки, подозрения. И уходил он в подавленном состоянии. На проходной друзья схватили его под руки. Зашагали в бригаду напрямую, через кочковатую низину. Под ногами попадались ямки, бугорки. Самохин и Троян наперебой делились радужными впечатлениями. Только Гридин, как ни старался, не мог попасть ни в ногу с товарищами, ни в тон с их настроением.
365–ППГ Шумские леса 1943 год.
Он прокрадывался лесом. На этот раз один.
Тропинка вывела от ремонтной мастерской на танкодром. Дальше глубокий снег. Особенно трудно пришлось перебираться через заснеженный овраг. В березовой роще набрел на лыжню. Уплотненный наст местами проваливался, но идти по нему стало легче. Лучи низкого над горизонтом солнца празднично играли на снежной белизне, среди светло-серых стволов деревьев.
Начался густой сосновый бор. Из его глубины послышались скрежет стартера, рокот мотора, затем голоса людей.
В просвете между толстыми коричневыми соснами показалась знакомая авиабомба — печная труба. Над ней струился дымок, внизу белели торцы бревен. Сруб. Очевидно, в нем кто-то топил печь. Наклевывалась удача. Не успел он подумать об этом, как из-за угла бревенчатой стены мелькнули две девичьи фигурки — без шинелей, шапок. Окликнуть? Нет, далеко. Услышит кто-то посторонний и все сорвется. Лучше спрятаться за стволом сосны и понаблюдать, как в разведке.
Одна из девушек расстегнула воротник гимнастерки, вывернула его белым подворотничком наружу, закатала выше локтей рукава, резко наклонилась всем туловищем вперед, взялась руками за голову и начала распушивать волосы. Вторая подняла вверх чайник, из носка которого, дымясь, потекла струйка воды. Наклоненная вниз голова первой девушки скрылась в клубах пара.
Парень сочувствовал: не для женщин полевые условия, даже голову помыть негде.
— Осторожно лей. Не ошпарь, — слышался писклявый голос той, которая энергично ерошила свои всклокоченные в мыльной пене волосы.
В ней нетрудно было узнать Лизу. Поливала Валя. Девушки израсходовали два чайника воды и убежали в домик.
Троян не решился сразу двинуться за ними. Взглянул на часы и дал Лизе минут десять на причесывание. Озирался по сторонам, изучал тыльное расположение госпиталя, намечая возможные пути отступления на случай, если бы откуда-то выкатился краснощекий.
На фоне сурового гула недалекой артиллерийской канонады странно звучали среди палаток девичьи голоса. Лесное эхо поэтически дублировало их.
Авиабомба-труба почти перестала дымить. Только пристально вглядываясь, можно было заметить над срубом едва уловимый для глаза столб дыма, похожий на струю гретого воздуха. Безветрие. Никаких запахов. Троян обеспокоился: не замирает ли жизнь в заветном теремке, не ушли ли из него девушки. Затаил дыхание. Минута напряженного ожидания и обоняние уловило своеобразные ароматы, приносимые воздушными волнами со стороны сруба.
От долгого стояния на одном месте стали ощущаться ледяные подошвы сапог. И он решил двинуться к домику. Только сделал несколько шагов, как скрипнула дверь, девушки вышли и вновь принялись за прежнее дело.
На этот раз они поменялись ролями. Лиза с обмотанной полотенцем головою поливала из чайника, а Валя мылась. Парню ничего не оставалось делать, как скрыться за деревом. Неприлично рассматривать с близкого расстояния девичьи занятия, но уже было невозможно незамеченным отступить в лес. В отличие от Лизы, Валя мылась без гимнастерки. Обеими руками ловко взбивала белую пену на голове, разгоняла ее вокруг шеи.
Троян испытывал противоречивые ощущения. Окоченевшие в холодных сапогах ноги и вид Вали, плескавшейся на морозе, вызывали озноб, дрожь. В то же время охватывал тайный трепет, в груди распространялась бодрящая волна — воображение поражало бесстрашное поведение дочери Волхова на снегу. Он замер в немом очаровании.
— Хорошо, что и ты не испугалась воды на холоде, — слышался звонкий голос Лизы. — А то, кто знает, как придется на новом месте. Говорят, там обстрелы, бомбежки. До самого лета не удалось бы помыться. Быстрее заканчивай, чтоб не простудиться. А, может, и не стоило бы так усердно прихорашиваться. Станешь такой чистенькой, беленькой, что какой-нибудь ловелас-начальник сразу прихватит к себе в ППЖ. Тогда прощай, Петро…
— Не болтай, Лиза, глупости, — отфыркнулась Валя от мыльной пены и от слов подруги.
— Как знаешь. Чайник опустел. Мыло смоем с локтей в помещении. Пойдем скорее, иначе опоздаю. Надо засветло сбегать. Застать бы его.
Валя озабоченно спросила:
— Прилично ли бегать к парню?
Скрипнувшая дверь заглушила ответ Лизы, скрыв за собою девушек.
Троян, сбитый с толку болтовней Лизы, не знал, что делать. Одна спешила на какое-то свидание. Вторая — или обе, не вполне ясно — готовилась к отъезду. Удобно ли внезапно нагрянуть к ним? Не лучше ли вернуться назад? Взяло верх терпение. Вернулся. Но уходить в полном неведении тяжело. С каждым шагом загадочность услышанного разговора интриговала все острее. И ноги как-то сами, машинально перестали отступать и опять повернули к домику. Подошел к двери. Остановился.
— Все. От тебя передам, как ты требуешь, скромный приветик. Хотя — кому? Петра нет. Ну, а от себя — там, на месте соображу… Пошла, — услыхал Троян сбивчивую тираду Лизы и предупредил ее выход громким стуком в дверь.
Грохот падения чего-то, шорох и — испуганный голос Вали:
— Минуточку!
Послышался торопливый полушепот:
— Спрячься за ширму. Ухожу, мне некогда.
Заледенелая по краям дверь со скрипом отлипла. В прямоугольном проеме вынырнула, как бы вытолкнутая клубами белого пара, румяная Лиза. Девушка вскрикнула от неожиданности. Затем схватила парня за руку и втащила в помещение.
— Валечка, вот он, обманщик! А говорил, будто убывает в командировку.
— Нетерпелось навестить, — подал голос Троян. — Может, некстати?
— Нечего спрашивать у больного здоровья. Валя, выходи. Повезло тебе перед отъездом.
— Куда вы собираетесь? — спросил он. — Если не секрет…
За прозрачной марлевой ширмой слабо виднелся девичий силуэт. «Не может быть… Это не она», — удивлялся парень.
Март 1943 года Войполе.
Лиза решительным жестом сдвинула в сторону марлевую маскировку. Троян и Валя ахнули одновременно: его поразили идеальные формы «силуэта«, а ее привели в смятение незавершенная косметика и неожиданная встреча.
Валя стояла в наспех одетой гимнастерке, с лоснящимися волосами, слегка прикрытыми белой косынкой. Румяные щечки, белый лоб, бледный носик отсвечивали глянцем. Она стала торопливо приводить себя в порядок, стараясь подчеркнуто-отрывистыми фразами отвлечь внимание парня от того, что делала.
— Меня и Лизу откомандировывают с группой медиков в Жихаревский госпиталь. Там пропасть раненых. Через час выезжаем.
— И я спешила к вам. Хотела перед отъездом увидеть Сашу… Но раз вы прибыли, то теперь никуда не пойду, высушу как следует волосы. Валя, — поближе к печке. Петро, нагрейте нас. Нет, нет, не подумайте… Вон дрова. Подложите в печку. Значит, не уезжаете из бригады?
— Задерживаюсь на день, до окончания ремонта машины.
— А мне так хотелось встретиться с Сашей… Хоть плачь.
— Не расстраивайтесь. Пока сушитесь, собираетесь, я махну через овраг и тут же вернусь с ним.
— Идея! Быстрее! — всплеснула руками Лиза.
Прошло немного времени, и Троян вернулся. Один. Самохин и Гридин отправляли неисправные танки на станцию Войбокало.
— Я успел переобуться в валенки. И получил увольнение до утра.
— В таком разе поедемте с нами. Узнаете наше точное место-расположение, — на ходу перестроилась Лиза.
— А не лучше ли мне двинуть на попутных? Раньше вас примчусь в Жихарево.
— Ночью нелегко найти нас в незнакомом районе, — произнесла в затруднении Валя.
— Чего толковать? Мы вас не отпустим, — решила Лиза. — Старший нашей группы — фельдшер Кваша — такой тюха-матюха, сроду не вылезет из кабины полуторки. Главную скрипку в дороге играет шофер Сажаев.
— Я с ним все улажу. Идите, Петро, к шлагбауму.
Троян согласился. В потемках обошел сторонкой палатки, тыльные госпитальные постройки и приблизился к выездной дороге. Ждал недолго. Из ворот проходной сверкнули подфарники грузовой машины. Он двинулся навстречу. Шофер притормозил. Не успел Кваша спросить, в чем причина остановки, как в кузове прибавился новый пассажир.
В пути он не стал раскрывать, что знает Валю и Лизу. Разговаривал, шутил одинаково со всеми сотрудницами госпиталя. С болью в душе видел, как девушки не находили себе места от холода в открытом грузовике. Красноармейские шинели, кирзовые сапоги, меховые шапки с поднятыми вверх ушами — опускать их вниз и завязывать тесемки под подбородком считалось зазорным — не спасали от трескучего мороза и встречного ветра. Лиза неустанно пританцовывала, смеялась, тараторила. Валя сидела на ящике с медикаментами и гулко выстукивала каблуками, как ледяшками. Троян несколько раз порывался обменяться с ней обувью или прикрыть ее полушубком, но она шепотом сдерживала: мол, такой рыцарский жест сразу, же вызовет кривотолки.
Перед Жихаревым регулировщик направил машину в ближайший лес.
Ехали совершенно без света. На ухабистой дороге старые рессоры проскрипели метров 800 и затихли.
— Приехали. Разгружайся! — командовал шофер.
Кто-то открыл задний борт. Среди стройных берез показался высокий человек. Скрип снега приближался. Вырисовалась фигура в темной длиннополой бекеше с каракулевым воротником, в очках. Навстречу поспешил Кваша. Из его сбивчивого, вялого доклада стало ясно, что машина прибыла к месту назначения, и что ее встретил дежурный врач Жихаревского госпиталя.
Густой хриплый бас распорядился:
— Палатки разбивать здесь, в березнячке. Оборудуйте рабочие места своими силами. У нас людей нет. Через час поступят раненые.
— Ого! Срок готовности — по тревоге, — удивился Троян. Началось освоение кусочка леса, засыпанного снегом.
Над головами просвистел снаряд, другой… С душераздирающим треском раздались взрывы где-то вблизи от лесной дороги, на которой скрылась большая машина с красным крестом на фанерной будке.
— С приветом! — пошутил шофер.
— Так у нас всегда, — отозвался густой бас. — Как только выезжает из лесу любой транспорт, так сразу свистят снаряды вражеской дальнобойной артиллерии. Будто слышат, проклятые.
— Надо разыскать корректировщика, — предложил кто-то.
— Некому. Наши работники изнемогают от перегрузок,
недосыпания. Быстрее осваивайтесь, потом общими силами… Дежурный врач ушел. Шофер приступил расчищать лопатой от снега место для палатки.
— Так и быть — помогу вам, девушки, — объявил Троян. — Мне ехать еще далеко, а транспорта пока нет.
Лиза хихикнула в рукавицу:
— Выгодный попутчик нашелся. Перво-наперво установите печку.
— Нет, сначала надо растянуть палатку, — возразил шофер.
— Давайте-ка, вдвоем, по-мужски, — обратился он к Трояну.
В мерзлую землю не вбивались колья. Приходилось топором вырубать лунки. Троян снял полушубок. Работал до пота.
Через полчаса над палаткой, из трубы, засверкали искры. Благоустройство и дооборудование внутри заканчивалось под музыкальное шипение и потрескивание березовых дров в железной печурке.
Медсестры нанесли сосновых и еловых веток, которыми устлали мерзлую землю. От раскаленной докрасна печки начали распространяться испарения с запахами гнилого болота, прелого листа. Пар и дым постепенно вытесняли холод. На полу, под толстым слоем лапника, зачавкала вода. Воздух насыщался сложными лесными ароматами, сыростью, угаром.
— Это уже рабочий, жилой дух, — радовались девушки. Рядом началась разбивка второй палатки.
Артобстрел возобновился. Взрывы снарядов, казалось, брали в вилку место оборудования лесного лагеря. Прибежал дежурный.
— Что вы за сигнализацию здесь устроили? — накинулся он на сестер. — Немедленно прекратите топку печи. Снопы вашего огня из высокой трубы навлекут вражескую авиацию — бомбежки нам ночью еще не хватало. Днем от нее не вздохнуть.
Троян с шофером смастерили примитивный искроуловитель, надели его на верхушку дымовой трубы, и не стало демаскирующих искр.
Медработники окружили плотным кольцом жаркую печку. Грели руки, ноги, делились впечатлениями о новом месте.
Лиза незаметно тронула за плечи Трояна и Валю:
— Идемте за мной.
В тамбуре палатки все трое остановились. Лиза соединила руки подруги и парня:
— Ощущаете разницу? Руки Петра горячие, а твои, Валя, как лед. Почему?
— Не знаем.
— А я знаю. Потому, что ведете себя как чужие. До сих пор друг к другу — на «вы». Не краснейте, все равно в темноте не видно. Ставлю Петр, тебе задачу: разогрей Валины ручки… Не бойтесь – этот тамбур закрыт, вход в палатку и выход из нее — с противоположной стороны. Я пошла. Оставайтесь, не маленькие…
Валя сделала шаг за подругой. Троян вежливо остановил ее. Намеревался привлечь девушку к себе. Под ногами хрустнула ветка. Оба испуганно вздрогнули, прислушались. Снаружи донесся какой-то новый шум.
— Сестры, принимайте раненых! — услыхали они распоряжение дежурного врача.
— Матрацы и подушки еще не набиты. Соломы нет, — жаловался кто-то.
— Ну вот, и работенка подвалила. Сейчас согреюсь, — нашлась долго молчавшая Валя. — Спасибо, Петро, за то, что сопровождал нас. До свидания!
— До встречи, Валя! Когда?
— Приезжайте, как случай выпадет.
Троян нежно погладил маленькие пальчики — они заметно потеплели,- осторожно пожал их своей грубой ладонью и отпустил.
Валя торопливо выскользнула в палатку. Он вылез из-под брезента, попав в рыхлый сугроб.
Ночь близилась к концу. В темноте суматошились люди, стонали раненые — разгружали машины, прибывшие с передовой.
Троян направился к железнодорожному полотну. Надо было перейти через него, чтоб выйти на фронтовой тракт. В воздухе, как назло, вновь засвистели снаряды. Не хотелось кланяться в ответ на вражеские «поздравления» с первым свиданием, но приходилось. Взрывы раздавались вдоль лесного проселка и вблизи насыпи, шуршали осколки, трещали и падали сбитые ветки. По мере приближения к железной дороге снег все больше чернел воронками. Кругом — ни души. «Недоставало, чтоб шальным задело, — насторожился он. — И некому оказать помощь… А вдруг убьет? Что напишут в штабе? При выполнении какого задания погиб? В бою ясно и просто, а тут?»
К станции Жихарево приближался железнодорожный состав. Вблизи него зачастили кровавые вспышки. Особенно тягостны паузы между дальними, глухими выстрелами и близкими, резкими взрывами.
Троян лежал в придорожной канаве. Напряженно думал. Он испытывал более обостренное ощущение страха, чем в бою. «Вот, оказывается, как выглядит на фронте ухаживание за девушкой. Ползай у ног смерти. С бою приходится отстаивать свои чувства. Дорого может обойтись такое свидание. Чем бы оно ни кончилось, а душа поет. Да, но разумно ли это? Другие сейчас дрыхнут без задних ног в теплых блиндажах, а я?… Действительно, здесь уместно перефразировать украинскую пословицу: дай сердцу волю, заведет не то, что в неволю, а в бесславную могилу», — размышлял он, лежа перед железнодорожной насыпью в ожидании прекращения обстрела.
Начало светать. Где-то гудели самолеты. Небо чертили разноцветные трассы, причудливо изгибаясь, будто обходя невидимые препятствия.
Снаряды продолжали кромсать станционные постройки и вдали — трансформаторное хозяйство подстанции. Когда стихло, Троян с трудом начал пробираться через паутину различных спутанных кабелей, разбросанные обломки железнодорожного и электрического оборудования. Со стройной мачты высоковольтной сети беспомощно свисали оборванные провода. Они, безжизненные, обросли инеем, как мхом.
Троян терзался: долго ли суждено ползать в грохоте канонады под линиями передачи волховской электроэнергии в Ленинград? Придется ли еще увидеться с Валей?… Не размягчайся, парень. Впереди более важные события, чем эти. От тебя зависит, окрепнут ли крылья твоих мечтаний в этих испытаниях…
Он сел за рычаги танка с надписью на башне «Урал».
— Прокатиться с ветерком по фронтовой рокаде — мечта! — ответил танкист на дружеские напутствия, наставления, предостережения старых сослуживцев.
Едва уловимый тревожный блеск в глазах, торопливые жесты невольно выдавали: дескать, мечта-то вынужденная; но что поделаешь — так надо.
В самом деле, вряд ли ветеран танковой бригады мог мечтать об откомандировании, хотя и на время одного боя, в другую воинскую часть. Интересы дела, долг, однако потребовали от сержанта Трояна, радиста-пулеметчика, пересесть от танковой рации на место механика-водителя и повести машину к передовой соседа, где продолжалось наступление. И еще немаловажное обстоятельстве. Хотя машину мог перегнать и один танкист, командирское сидение оказалось в ней не пустым. Его занимал Гридин.
В день отъезда Трояна, Гридин — задумчивый и мрачный – зашел в землянку командования. Через полчаса он вышел оттуда… оживленный, сияющий. Просьба была удовлетворена. И Троян обрадовался: «А то одному было бы и у каши не споро». Тут же экспромтом срифмовал: друзьям детства вместе в одной машине не тесно». Он понимал земляка.
Гридин после встречи с Надей переживал вдвойне. Мучили недомолвки, неясности. И ожидание в прифронтовом Шуме пополнения танков, тоже тяготило. Ему хотелось вырваться на передовую из сырых и чадных землянок хотя бы на время.
Отремонтированный танк неузнаваемо изменился. Крышка люка механика-водителя блестела заводской краской. Пушка, пулеметы лоснились свежей оружейной смазкой. Внешние повреждения броневой защиты, пробоины в ней затянуты темно-синими швами, бугорчатыми рубцами электросварки, которые напоминали шрамы заживших ран на коже человека. Одна из вражеских «болванок», не пробив броню, застряла в ней. Мастер-«хирург» решил, что кусочек инородного металла безвреден в здоровом теле машины и не стал извлекатьего. Заваренный в броне противотанковый снаряд наглядно свидетельствовал о том, что враг не смог пробить уральскую сталь. Бесчисленные вмятины, царапины — следы ударов по танку фашистской артиллерии — усиливали эту наглядность.
Из башни выросла затянутая в ремнях фигура Гридина. Сухое лицо — строгое, суровое.
— Мы сердцем, с тобою, Костя! — слышался голос Самохина.
В люке механика-водителя показалось круглое, улыбчивое лицо Трояна.
— Уверены, что дело сделаете за семерых, а слушаться-то надо одного… В общем, знай, мол, наших, — выделялся чей-то басок.
Что и говорить, тяжело уезжать от боевых друзей. Нерушимо фронтовое товарищество, скрепленное совместно пролитой кровью.
Троян, впечатлительный по натуре, расчувствовался. Но тут, же в нем взяла верх гордость, вызванная тем, что на башне танка восстановлена надпись «Урал», содранная пулями и осколками в боях под Синявином. И танкист включил «массу», нажал на стартер. Т-34 фыркнул из выхлопных труб сизыми клубами отработанных газов. Заскрежетали гусеницы. Стальная крепость двинулась вперед.
Фронтовая дорога вывела танкистов под известную на Волховском фронте Карбусель. Это небольшая деревня — 35 дворов, — расположенная на возвышенности между речкой Карбуселькой и ручьем Каменистым, среди болот, лесов, в двух километрах юго-восточнее железнодорожной линии Мга — Кириши. Леса восточнее Карбусели стали местом тяжелых длительных боев. Прорваться советским войскам к железнодорожной насыпи пока не удавалось. Командование маневрировало силами. И понятно, что люди, покидая знакомые места на «своей» передовой, неохотно шли в новый, «невезучий» район.
Лицо Гридина от встречного потока холодного воздуха словно окаменело. Казалось, оно не выражало никаких эмоций.
Троян с самого начала старался настроить себя на мажорный лад. Чувство привязанности к своей танковой бригаде, верность ее боевым традициям возбуждали у танкиста гордое стремление и в новом боевом коллективе не ударить лицом в грязь.
В трагически тяжелой обстановке осуществлялось это желание.
На новом месте, во время передачи Т-34, друзья попросили командование остаться в танке на любых должностях. Услыхав решение, оба несказанно обрадовались. Экипаж «Урала» возглавил политрук Гридин. Троян вернулся к своей рации. Место механика-водителя занял старослужащий сержант — рослый, в летах, с видом тяжелоатлета. В люк заряжающего нырнул — торопливо, запыхавшись — тепло одетый, но стройный рядовой. По-девичьи нежное, свежее лицо вспыхнуло румянцем; видимо, оно еще не знало бритвы. Чувствовалось, что оба скромны, выдержаны.
И вот танковая рота двинулась на сближение с противником в цепи стрелкового подразделения.
Характерной особенностью наступления на лесисто-болотистой местности является то, что обычно не видно всей лавины войск, и порой одна машина втягивается в длительное единоборство с невидимым врагом. «Один, как черт на болоте», — записал однажды Троян в своем блокноте.
— Даешь Карбусель-карусель! — нарушил Троян молчание в танке.
Экипаж повеселел. Танкисты не подозревали, что веселая игра слов через короткое время приобретет далеко не развлекательный смысл, и что в «карусель» они попадут, а Карбусели так и не увидят.
«Урал», подминая гусеницами жиденькие березки, осины, взял курс на Карбусель, железнодорожный мост на линии Мга-Кириши, и двинулся вдоль стрелки, проведенной на карте среди зеленого лесного массива красным карандашом.
О подступах к вражеским опорным пунктам вблизи Мги местные пехотинцы отзывались: гиблые места. И действительно, замерзшие и замаскированные снегом болото Гладкое, озера Белое, Черное, Глухое, Заднее — очень серьезно настораживали. Сами географические названия вызывали на лице танкиста кислую мину.
Сзади осталась знаменитая на фронте Пушечная Гора, справа, в 13 километрах — Мга, укрепления противника, затянутые зловещей мгой — сырым, холодным туманом.
Конец марта 1943 года. Промозглое, пасмурное утро. Впереди выделялись оголенные войной стволы того, что раньше называлось лесом. Некогда труднопроходимые лесные чащи выглядели, как поле буйной ржи, выбитое градом, искромсанное ураганом.
Механик-водитель искусно провел машину через узкий проход, проделанный саперами в массивном дерево-земляном эскарпе, и с облегчением откинулся на спинку сидения.
— Не останавливаться!- вмешался командир танка. — Это только начало…
«Урал» с грохотом и треском преодолевал завалы — нагромождения деревьев, сбитых снарядами, бомбами, сваленных врагом. Высокие пни — препятствия, подобно надолбам. В лесу гулко распространялось металлическое лопотание, лязг гусениц. Эхо повторяло эти звуки, как бы наращивая силу броневого удара.
Раскатисто гремели выстрелы из танковых пушек. Звучной дробью выстукивали пулеметы. Новобранцы-стрелки, непривычные действовать с танками, падали в снег, прячась за стволами деревьев. Впереди, почти рядом, мглистый сумрак чащ оскаливался красными огнями.
Ударили противотанковые орудия противника, — определил Гридин и сделал пометки карандашом на карте. — Далеко. Бьют на звук.
Троян, выполняя требование командира танка, сообщил по радио соседним экипажам координаты обнаруженных ПТО.
«Урал» шел на выстрелы. Его пушка и пулеметы неустанно прочесывали густые заросли огнем, особенно те места, которые высвечивались вспышками.
Слева лязг гусениц стих. Нарастание стрельбы танков и противника — свидетельство того, что левофланговые машины завязали бой с места. Радио донесло:
— Дальнейшее продвижение невозможно. Перед вражеской противотанковой артиллерией простирается непроходимое болото.
Гридин остановился. Накоротке вник в обстановку. Взглянул на карту.
Так и есть… Попытка левофлангового танкового взвода обойти препятствие означала бы подставить борта машин под губительный кинжальный огонь. — Он переговорил по рации с командиром танковой роты, затем связался со стрелками, согласовал с ними вызванный необходимостью маневр и приказал экипажу: — Помочь левофланговым танкам. Для чего, водитель, изменить курс — взять на высокую сосну с кудрявой вершиной.
Через минуту-другую механик-водитель встревожился:
— Товарищ командир, стрелки поворачивают влево. Мы остаемся одни.
— Так надо. Они ударят со стороны болота.
И вот «Урал» стал пересекать нетронутый никакими следами заснеженный участок мелколесья. Механик-водитель тревожился: и заманчиво, и опасно; не таился ли под снегом какой-нибудь маленький аппендицит от большого болота? В этих местах могла встретиться пропасть, в которой мгновенно скроется танк вместе с экипажем, такие случаи бывали. Поэтому он вел машину осторожно, на черепашьей скорости.
Такая атака не по душе Гридина.
Открылась крышка командирского люка. Из башни выскочил Гридин. Держась за поручни, пушку, он передвинулся на лобовую броню. И приказал механику-водителю:
— Правый рычаг — на себя!.. Левый. Чуть-чуть… Прямо!
Танк резко увеличивал скорость, напрямую рассекая белую равнину с чахлой растительностью. Приближалась густая роща. На опушке белел еле заметный березовый частокол.
— Не останавливаться! — потребовал Гридин. — С налета!.. Троян высунулся наружу: Костя с ума сошел, забыл, что он не десантник, а командир танка. А противник… И громко крикнул:
— Вижу скопление врагов возле застрявшего тягача…
— И я вижу, — невозмутимо ответил Гридин. — Приготовить осколочный. Сейчас нырну к прицелу…
Но не успел. В тот момент, когда он опускался в командирский люк, на башню свалилась сбитая снарядом крупная сосна. Удар комлем пришелся по Гридину. И тот медленно сполз на свое сидение, схватившись руками за голову.
Троян расчистил на днище местечко от пустых гильз и переместил туда пострадавшего друга. Впотьмах, ощупью обнаружил на его шее кровь. Взялся за перевязочный пакет.
Тем временем заряжающий прильнул к окуляру прицела. И увидел за беспорядочно поваленными стволами сосен и берез вражескую пушку и суматошившихся возле нее солдат. «Поймал» групповую цель угольником прицела. Нажал на электроспуск. Выстрел! И только один. Некому заряжать. Перешел на стрельбу из пулемета. Строчил короткими очередями, пока хватило патронов в диске. И не зря. Возле перевернутой вверх колесами вражеской пушки — ни живой души.
Троян бормотал, бинтуя друга:
— Эх, сокол ты мой ясный… Так на так с налета не получается. Контузия и царапины. А могло быть хуже.
«Урал» остановился. Экипаж старался сориентироваться в обстановке. Слева послышалось красноармейское «Ура!». Потом с новой силой зарокотали танковые моторы. Ударили пушки.
Значит, левофланговый взвод вздохнул. Наш маневр развязал ему руки. Теперь можно выходить на свое прежнее направление, иначе заблудимся в этом чертовом лесу… — говорил Троян, рассматривая карту.
Пока машина выбиралась на свой маршрут, Троян и заряжающий старались поудобнее разместить на днище контуженого командира. Но в бою нельзя надолго отвлекаться от главного.
Вдруг танк сильно тряхнуло. Мотор затих.
Трояна кольнуло недоброе предчувствие. Он опустился к механику-водителю. И увидел напротив светлого проема в броне водителя с поникшей головой.
— Чертовщина! — возмутился он. — Верь после этого фронтовым приметам, что будто снаряд, пуля два раза не попадают в одно и то же место. Словно какая-то колдовская сила притягивает «болванки» к люку.
Оказалось, в новом районе, точно так же, как в недавнем бою под Синявином, вражеским снарядом срезало крышку люка механика-водителя. Перед образовавшимся окном тихо покачивалась тонкая высокая березка, будто сожалея о том, что произошло.
Троян быстро разорвал одежды на механике-водителе, добрался к окровавленному предплечью, перевязал рану и поспешил на место командира танка. Принял решение: уничтожать врага огнем с места.
Наступили критические минуты. Броня содрогалась, звенела от ударов вражеских «болванок», осколков. Выбивали по ней барабанную дробь пули. Фашисты пытались попасть в открытый люк механика-водителя, вывести из строя смотровые приборы, ослепить экипаж.
Троян крикнул заряжающему:
— Осколочный!.. Диск!.. — и навел, нажал на спуск.
Единоборство с удивительно живучим противником резко оборвалось. Вблизи — ничего подозрительного. Только сзади, несколько уступом справа, послышалась непонятная возня с выкриками.
Неужели собираются садануть нам под дых? — кинулся Троян к щели одного триплекса, другого. И обратился к заряжающему: — Поверни чуть башню вправо.
И как бы в ответ — дребезжащий тяжелый удар. Казалось, броня раскололась и продолжала звенеть осколками. Троян свалился на люльку пушки. В глазах завертелись кругами огненные кольца, шары. Затем все исчезло в сером тумане». Вот тебе и карусель, вместо Карбусели», — кольнуло в голове танкиста. В правом виске зажгло резкой болью. Дотронулся рукой — кровь. И тут броневая стенка, люлька двинулись по кругу — точно рванула с места настоящая карусель.
Оказалось, это заряжающий, обнаружив цель, начал поспешно поворачивать башню в сторону цели. Троян, придерживаясь за гильзоуловитель, старался овладеть собой. «Недоставало еще по глупости очутиться под ударом отката пушки, которая заряжена и вот-вот шарахнет», — встряхнулся он. В тот же миг казенная часть танкового орудия с грохотом рванулась назад. Зазвенела стреляная гильза. Лицо обдало едкими пороховыми газами. «Выходит, меня не так уж сильно контузило, раз я понимаю, что происходит. Могло быть хуже», — ободрял себя Троян.
— Есть последнее ПТО! — победно выпалил заряжающий, не отрываясь от прицела. — Видал, как отскочило колесо в сторону? Это, брат, твоя заслуга. Без тебя мне не собрать бы своих думок.
Троян не отвечал, занятый ощупыванием стенки башни, напротив пораженной части своего лица. Пробоин не обнаруживал. Под пальцами ощутил теплую шероховатую выпуклость брони. Ясно. Снаряд не пробил башню. И он, Троян, ранен мелкой стальной крошкой, которая брызнула от брони с противоположной стороны того места, куда ударил вражеский снаряд. Троян тихо сел на боеукладку и стал искать бинт.
Заряжающий наклонился к товарищу. В лучах лампочки-подсветки увидел на его щеке, виске кровь. Вначале растерялся. Боялся дотронуться до липких, окровавленных волос. Затем овладел собою. Мало-помалу выяснилось, что правая сторона лица Трояна испещрена мелкими ранками, а в висок впилась металлическая пластинка, размером с рыбью чешуйку. Ее удалось вынуть. Глаз цел, но Троян не видит им. Его бросало в пот. И тут же — упрек себе: после недавнего свидания ты готов был горы свернуть… А помнишь возглас перед отъездом под Карбусель: «Знай, мол, наших»!? Поэтому, выше голову! Ради дружбы с однополчанами, ради встречи с Валей, все вытерпи».
— Ничего, до свадьбы заживет, — повернулся заряжающий как бы между делом к триплексу, и, как ошпаренный, отпрянул назад: — Подползают. Гранаты!..
Несколько «лимонок» полетело наружу, через люки командира и механика-водителя.
Потом они договорились: Троян наблюдал за местностью впереди танка с пистолетом в руках — обзор с водительского люка отличный. А заряжающий с автоматом поднялся на командирское сидение. Он открыл тыльный лючок. И башня огласилась гулкими очередями из ППШ. В танке прибавилось едкого порохового дыму. Танкист увлекся. Его окликнул Троян:
— Что там?
— Сейчас. Не отвлекайся от своего…
Он головой откинул крышку командирского люка и повел огонь из автомата с упора о башенную броню. По характеру очередей, довольному кряхтению товарища Троян догадался, что тот удачно поражал цели.
Когда ППШ стих, заряжающий с удовлетворением крякнул:
— Все. Расчистил. Никого больше… Однако, стоп!.. — и вздох. Стон, шуршание грузного падения.
До слуха Трояна донеслась из леса длинная сухая дробь вражеского пулемета. Затем рванул выстрел из орудия. Позванивание пуль об открытую крышку башенного люка заглушил удар снаряда. Корма танка будто сдвинулась в сторону.
Троян повернулся назад. С большим трудом развернул на днище вялое, съежившееся тело заряжающего. И болезненно вскрикнул: вся грудь товарища изрешечена пулями.
После минутного оцепенения он сказал себе:
— Смотрю одним глазом. Значит, вижу вдвое меньше страхов. И злость возросла вдвое. Следовательно, надо справиться за четверых, то есть за полнокровный танковый экипаж. Выход один: искать врага и уничтожать его, а не отбиваться.
Бережно передвинул механика-водителя поближе к командиру. Сел за рычаги. Взревел мотор. «Урал» будто узнал прежнего водителя — сразу подчинился его воле.
В прямоугольной рамке открытого люка, как на киноэкране, замелькали зеленоватые трупы гитлеровцев, распластанные возле разбитой пушки на грязном, окровавленном снегу. В поле зрения белели стволы переломанных берез. Среди них засуетились сгорбленные фигурки в глубоких касках и длинных шинелях. Враги. Троян заерзал на месте, тревожно оглядываясь. Нет, не гитлеровцы были тому причиной. Обоняние уловило зловещий запах. С кормы несло горелым маслом, газойлем — танковым топливом — и чем-то вроде паленой шерсти, парусины. Что это? Неужели какой-то гад поджег «Урал»? «Ага, вон, откуда ударила пушка… Сначала разделаюсь с ней, а потом…» — молниеносно проскакивали мысли в голове танкиста. И он скорректировал движение машины в сторону мелкого березняка.
В проеме люка вынырнуло черное противотанковое орудие. Многочисленная прислуга лихорадочно развертывала ствол навстречу Т-34. Танкист прибавил, газу. В открытый люк как бы силилось вскочить, все, приближаясь, вражеское ПТО. Наконец, сильный толчок о бруствер огневой позиции. Гусеницы жестко подпрыгнули и заскрежетали о металл. Под танком — знакомый стальной хруст. Как во сне, неясно трещали какие-то выстрелы. Сутулые тени пытались скрыться за кучей хвороста. Над ним вился, сизый дымок. Из-под хвои виднелись березовые кругляки накатов. Блиндаж. Вперед! — определил танкист и принял решение. Плавный поворот, уменьшение газа. Затем умеренное прибавление. Когда коленчатый вал достиг, высоких оборотов, танк получил большой разгон. Благо под гусеницами — твердая почва. «Главный фрикцион отключу в последнюю секунду, перед ударом. Как положено. Иначе ходовой части — гроб. А «Урал» должен врага загнать в гроб…» — прыгали мысли в голове Трояна.
Тупой рассчитанный удар. Впереди качнулась цинковая труба, и дымя, повалилась с жестяным дребезжанием на лобовую броню. Машина заметно приподнималась. Под гусеницами грохотали, трещав бревна, как во время какого-то обвала. Корма несколько осела назад. Руки и ноги танкиста машинально выжимали и отпускали рычаги, педали. «Больше газу! Не торопись. Вытянет», — подбадривал себя Троян.
Словно в бреду, слух раздражали чужие выкрики. Каждое встряхивание машины больно отдавалось в голове. Виски, казалось, разрывались от резких, пульсирующих ударов. «Нет, не хочу терять сознание. Не имею права. Меня ведь некому заменить, — упрямо боролась, будоражила какая-то сила в голове, во всем теле. — Я под защитой брони. Стало быть, нахожусь в более выгодном положении, чем в ту памятную ночь под Жихаревом. Сплоховать, опозориться перед танкистами-соседями, своими, Валей? Ни в жизнь! Те, кто меня знают, ждут успешного завершения командировки, а не известия о гибели труса».
Танк остановился на вражеском блиндаже. Из-за спины водителя повалил дым. На днище, у задней стенки, — хлопок. Неужели все горит, и начинают рваться патроны? А если ухнет снаряд?.. Троян решил, дать турмана и потушить пожар на корме. Через минуту-другую он уже на снегу с автоматом в руках. Короткая очередь его встряхнула. Откуда стреляют? Взглянул на свой ППШ. Со ствола — дымок. Прочесал беглым огнем шалаш из лапника, траншею. И двинулся к корме «Урала». На жалюзях дымилась какая-то куча тряпья. Троян – автомат за спину и принялся длинной березовой палкой сталкивать с танка то, что горело. Зазвенели котелки, кружки. Понятно: десантники впопыхах не захватили с собой свои вещи. На левом подкрылке — изуродованный снарядом дополнительный топливный бачок (водитель перед атакой не успел его снять). Значит, от вражеского снаряда загорелись вещи пехотинцев и разлившееся горючее. «Эта беда — не беда, только б больше не была», — бормотал Троян, очищая корму от тлевшего тряпья.
Ему становилось жарко. Одолевала жажда. Он лег возле гусеницы танка, судорожно схватил, пригоршню грязного снега и — в рот. Еще и еще… Становилсь легче. А друзьям в горящей машине ведь ох, как тяжело. Встрепенулся и — в танк. Под руку попался водитель. С трудом протиснул его через люк. На воздухе раненый начал шевелиться, разговаривать. Подтянул его к брустверу ближайшего окопа.
Из тридцатьчетверки доносились приглушенные хлопки.
— Патроны рвутся! — блеснул обезумевшими глазами водитель.
— А там — командир! Как спасти?
— Дело ясное. Себя не щади, а командира спаси. Это известная красноармейская мудрость, — произнес Троян, словно выступая перед новобранцами. Снял шинель, бросил ее к ногам раненого, как некий залог. ППШ — за спину и направился к танку.
Невысокого роста, с белой марлевой повязкой, выбивавшейся из-под черного танкошлема, он шагал широко, вразвалку, со сжатыми кулаками. Что-то неуловимое придавало этому щуплому танкисту вид былинного богатыря.
Остановился перед танком. Вдохнул полной грудью воздуха. Услышав два хлопка, поморщился:
— Ничего страшного. По днищу растекается горящий газойль. Можно потушить… Эхма, смерти бояться — на свете не жить! — конец фразы потонул в люке.
В боевом отделении не видно ни зги.
Троян задыхался от удушливого дыма. На ногах Гридина лежало липкое от крови бездыханное тело заряжающего. Попытки сдвинуть убитого в сторону ничего не дали — мешала загроможденность боевого отделения гильзами, военным имуществом. Не оставлять же парня в горящей машине, подумал Троян и со всей силой рванул на себя тяжелое тело. Перевалил через сидение механика-водителя и вытолкнул в люк, наружу.
Вернулся к Гридину. Наклонил голову как можно ниже, к днищу, чтоб меньше дышать дымом. Носом уткнулся во что-то живое и паленые волосы. Тронул рукой — пальцы скользнули по мокрому, теплому лицу. Обрадовался — земляк сам силился приподняться. Значит, контузия проходит. Взял друга за плечи и потащил к выходу.
Голова закружилась от боли, чада. Временами в мозгу леденила мысль: взрыв машины возможен в любой момент. Хлопки патронов напоминали об этом, поторапливали. Еще усилие и он вытолкнул друга из танка. Гридин скатился по наклонной лобовой броне на снег. Как рыба, выброшенная из воды на сушу, он стал широко раскрывать рот. Оглушительно-близкий грохот взорвавшегося снаряда, тяжелый стон Трояна в люке — все это встряхнуло контуженного. Сделав несколько судорожных вдохов свежего воздуха, Гридин поднялся на четвереньки, затем выпрямился, повернулся к машине и устремился к люку, навстречу нестерпимому жару, дыму, треску. Нет, он был в сознании. Больше того — к нему возвращались не только духовные, но и физические силы. В глазах — тревожный блеск. То, что он увидел, поразило. Еще бы — Троян застрял в тесном люке механика-водителя. Последний раз дернулся вперед, но турмана не получилось, и он со стоном начал сползать назад, внутрь машины.
«Петро ранен. Из-за меня. Может сгореть», — острой стрелой пронизала тревожная мысль все существо Гридина. В нем забурлила энергия, вызванная необходимостью, логикой событий. Со скрежетом зубовным он сунул голову в дымившийся проем люка. Перевалился в танк до пояса. Нащупал ППШ. Взял его себе. Схватил руками обмякшего Трояна и потащил к люку. Тот сначала плохо подавался. Затем конвульсивно дернулся, начал кряхтеть, шевелиться. Оба с трудом оторвались от люка и скатились в снег. Через две-три минуты начали отползать от машины. Вернее, работал руками и ногами Гридин, а Троян поминутно сваливался со спины друга, глухо стонал. Треск, доносившийся со стороны танкового костра, торопил. Смерть напоминала, что она рядом. Гридин понимал это и стремился изо всех сил дотянуть товарища до окопа. У самого бруствера в изнеможении свалился. Разгоряченное лицовдавилось в прохладный снег, проломив твердую ледяную корку. Стало хорошо. Тишина вначале успокаивала, затем взбудоражила. Жив ли Троян? Почему так долго не слышно взрыва танка?
Приподнял голову. Грудь друга детства вздымалась ритмично и высоко.
Дышал глубоко. Живой. Далее, на втором плане, среди обглоданных снарядами стволов сосен поднимались черные клубы дыма. Над кормой появились огненные языки. Из люков теснились серые завихрения. Происходило чудо — танк не взрывался. Интерес к необычному явлению обострился. Сознание подсказывало: еще не все сделано. Прежде всего, телу заряжающего грозила опасность. Его полагается предать земле, а не огню. И Гридин поплелся к танку.
— Куда ты? Вернитесь. Сейчас шарахнет, — захрипел механик-водитель.
Гридин, не останавливаясь, ответил жестом: мол, не мешай.
Пожарище дышало нестерпимым жаром. За башней что-то кипело, трещало. Шкварчит, как на сковородке. Разве можно допустить, чтоб тело доброго человека так горело? За какие провины?» — рассудил политрук Гридин, подтаскивая мертвого заряжающего к окопу.
Обессиленный вконец, он свалился у ног Трояна, бросил две-три горсти снега на его тлеющую одежду. Развел почему-то руки в стороны и упал навзничь. Понятие времени исчезло. Этому способствовала иллюзия исполненного долга.
Но вскоре тупая боль в голове вернула к действительности. И Гридин открыл глаза.
Низко на небе по-весеннему светило солнце. Лучи играли, переливались в каплях талого снега, которые свисали на остриях зеленых игл низкорослой сосенки, на кончиках золотистых прошлогодних листьев стройной молоденькой березки. Крупные стволы деревьев, лишенные верхушек, ветвей, подсеченные снарядами, осколками, обливались весенними соками, словно слезами. Возле огромной воронки покосилась набок кочка. Рядом — глыба ноздреватого снега. А между ними грелась на солнце веточка клюквы с зелеными листиками и ярко-красным букетом сочных ягод.
Гридин перевел взгляд на своих боевых товарищей. Все они лежали в одну линию,
— Горе можно вытерпеть и одному, — будто с трудом вспоминал политрук Гридин чьи-то слова, — для радости нужны двое, а наш экипаж в полном сборе.
— Да, там, где такие, как вы, не может быть горя. И танк пригнали под стать себе. Поглядите, стихает пожар. «Урал» так и не взорвался. Не встречал еще такого чуда. — В сиплом голосе механика-водителя чувствовался прилив сил.
— Обстановка требует… — сказал Гридин. — «Урал» под Синявином и Карбуселью выдержал суровые испытания. Он еще покажет себя.
Троян, услыхав голос друга, стал дышать все ровнее и ровнее. Шевельнулся, вскрикнув от боли.
Гридин подполз к земляку и долго копошился в окровавленных лохмотьях его одежды, перебинтовывая правое плечо.
Юное лицо заряжающего застыло спокойным, с тенью невысказанного какого-то удивления. Самый молодой месяц весны для него навеки уснул.
Свежий весенний ветерок по-птичьи посвистывал в верхушках берез. Воздух чувствительными волнами касался щек танкистов, покрытых копотью, гарью, словно целуя их.
В лесу стала нарастать, все усиливаться ружейно-пулеметная стрельба.
Водитель со стоном приподнял голову. И тревожно заговорил:
— Слышу голоса. Где гранаты? Вон крадутся. — Он показал рукой на сваленную сосну, за ветвями которой что-то шевелилось.
— Не узнаю — свои или враги, — всматривался Гридин в тени, приближавшиеся к танку. — Кто бы то ни был, а во время боя танкист должен быть в своей машине. — Он встал, вручил автомат механику-водителю: — Ты лежишь на правом фланге экипажа. Не подпускай врага к себе, прикрывай товарищей. — А сам с пистолетом в руке направился к дымившемуся танку.
Механик-водитель и Троян не успели постичь услышанное, как Гридин скрылся в проеме люка. И сразу наружу полетели дымя какие-то вещи.
Троян нашел в себе силы приподняться на локте. Затаив дыхание, впился красным глазом — второй забинтован — в столб дыма над «Уралом». Потом окинул взглядом товарищей:
— Что? Одна смерть на всех? Нет, брат… — Вытащил пистолет из кобуры и прищуренным воспаленным глазом стал впиваться в подозрительные кусты, где могли прятаться враги. — Каждый из нас — против всех смертей!
Дымное облако замерло в неподвижности над полем боя. А силуэт танка, оторвавшись от зловещего столба, плавно передвигался вдоль вражеских окопов, утюжа их. На фоне перекатной пальбы и трескотни в лесу бодро зазвучал мелодичный перестук и лязг гусениц «Урала».
Крайне возбужденная и уставшая, она не помнила себя. В лесных зарослях сбилась с тропинки. Еле волокла отяжелевшие ноги. Мешали пни, кочки, валежник. Остановилась: куда бреду? В сруб или обратно, к палаткам? Подошла к могучей сосне. Прислонилась лбом к грубой, шершавой коре, которая показалась мягче и приятнее нежного пуха. Еще раз задумалась: туда ли иду?.. Наверняка, туда. Тяжело вздохнув, затихла. Потом прощальным туманным взглядом окинула госпитальные палатки, домик с трубой-авиабомбой. И — опять в путь.
С каждым шагом волнение нарастало. Немые рыдания подступали к горлу, давили. И с новой силой кинулась бежать, без оглядки.
Под ногами — неровная с ямками, бугорками почва. Подошвы неустойчиво скользили по островкам мха, иглам хвои. Мощные стволы сосен, приближаясь, мрачнели и, словно собравшись плотной толпой, взялись за руки, не давали проходу.
Затем стали появляться лиственные деревья. Смешанный лес перешел в березовый. Бег в нем — все более затруднительный. Она поминутно спотыкалась о пни, коряги, оступалась в замаскированные прошлогодней пожухлой листвой промоины, падала, вновь схватывалась и неудержимо устремлялась, все дальше, в чащу.
По ногам больно хлестали гибкие зеленые побеги молодняка. Руки лицо то и дело задевали, царапали упругие ветки. Косынка, одежда цеплялись за сучья. Все как будто старалось задержать ее. И она на мгновение остановилась. Оглянулась. Качнулась, будто куда-то проваливаясь. И опять с усилием двинулась вперед. Почва тряслась и колебалась. Под ногами, казалось, ощущались бугорки кочек, которые, как бы плавали, поминутно грозя утонуть. Ах, нечего остерегаться. Все равно сейчас провалюсь в бездну, исчезну так же неизбежно, как исчезает человек, заблудившийся в волховских мхах, — пыталась успокоить она себя.
Начала задыхаться. Во рту пересохло. Захотелось пить. Невольно перешла на шаг, вприпрыжку. В ушах гудело. Вздрогнула — сзади почудился шелест. Оглянулась — никто не догонял, ведь выскользнула из палаты никем не замеченная. Кровь гулко стучала в висках.
Остановилась среди высоких стройных берез. Перевела дыхание. Здесь… сказала про себя: и принялась развязывать узелок. Руки дрожали — слишком громко шуршала газета. В изнеможении запрокинула голову назад, полной грудью вдохнула воздуха. Взгляд скользнул по стволам деревьев: высокие прямые березы с гладенькой нарядной корой, длиною до трех метров без единого сучка. Выше — зеленая, еще негустая крона. Там, в сплетении веток темнело гнездо, из которого выглядывала красивая головка птички. Вторая подлетела и села с пучком сухой травы в клюве. В сопровождении мирного, деловитого воркования обе закопошились в своем незатейливом жилище. Над ними просвечивалось, как водные пространства на географической карте, голубое высокое небо. Лучи весеннего солнца эффектно играли в серо-перламутровых перьях увлеченных своими семейными заботами птиц, в молодой ярко-зеленой листве, проникали до земли и приятным ласковым теплом обливали бледное лицо девушки. Она удивлялась: как много неуловимо мягкого света между деревьями, на тонких стебельках травы, среди первых лесных цветов, даже в зарослях густого кустарника! Всюду отливали искристым изумрудом мелкие и крупные капли росы, И — еще. Раньше никогда не приходилось замечать такого обилия вездесущего солнца и такого разнообразия впечатлений, которые вызывали его лучи.
Сложные ароматы лесного воздуха опьяняли. У девушки закружилась голова. Чтоб не упасть, схватилась рукой за дерево.
Невольно зажмурилась. В нежном шелесте листьев почудилось волнение пшеничного моря. В легком, еле заметном, прохладном дыхании кустов — дуновение степного ветра. В сыром запахе листвы, трав — какой-то смутный предвестник надвигающейся грозы.
В голове плыли, кружились спутанные мысли, воспоминания, которые подобно щепкам, увлекались бурным грозовым потоком. Все ее существо, казалось, подхватила какая-то мутная, пенистая волна и понесла, как перышко, к бездонной горловине бешеного водоворота.
Сердце сжимала неизъяснимая тоска. В воображении — картины родных мест, образы матери, Кости… Они туманились, закрывались какими-то отвратительными химерами. Рядом будто кто-то вздыхал — прерывисто, печально.
Надя резко встряхнула головой, стараясь освободиться от всего того, что отвлекало от цели. Ее глаза что-то искали.
На нежно-белом стволе приметно выделялся тонкий, короткий сук. На нем шелушилась сухая кора. Высоко. Не достать. Да этот и не выдержит, — размышляла она. А до того, раздвоенного ответвления мне и вовсе не дотянуться. Подошла к другому дереву, искалеченного шершавыми наростами. На уровне вытянутой вверх руки облюбовала толстый, омертвелый сук. Вытряхнула из газетного свертка клубки старых бинтов. Размотала и начала связывать их. Почти все они оказались грязными, запачканными кровью. Это следы борьбы советских воинов с ненавистным врагом, на смерть — за жизнь. А я что делаю? Хочу использовать бывший в употреблении перевязочный материал при сведении счетов со своей неудачной жизнью. Когда санитары будут снимать с сука мой труп, то подумают, что на бинтах моя кровь — поганая кровь самоубийцы — и будут с отвращением отворачиваться, плеваться, — бурлили в ее голове противоречивые мысли. Чтоб отвлечься, не допустить появления отрезвляющих размышлений стала не смотреть на то, что делала.
И тут опять ее внимание привлекли птицы своим нежным щебетом. Продолжительное наблюдение за жизнерадостной возней пернатых вокруг гнезда навело на размышление. Там, в молодой листве, расцветает, зарождается новая жизнь, а здесь, у подножья могучего дерева, я оскверняю живописный уголок природы подготовкой к позорной смерти. Дура! Надо уйти из жизни незаметно, где-то в темном чулане. Идея! Отравиться! — молниеносно возникло новое решение.
Надя лихорадочно начала собирать бинты в газетный кулек. Один из них зацепился за сухой отросток старой коры на покрытом лишайником стволе дряхлого дерева и, словно не отпускал, девушку, тянул к себе. Это еще что такое? Может, судьба?.. В народе говорят, что самоубийца не в силах уйти от задуманного. Ладно, раз пришла сюда, то нечего трусить. Скорее надо скрутить из этого тряпья веревку и — дело с концом. Прочь нежности! Какая разница?.. Я не узнаю, что после смерти обо мне скажут.
И она возобновила подготовку. Зацепила концы бинтов за сук и принялась скручивать их в единый толстый жгут. На лбу выступил пот. Грудь вздымалась все чаще и с замиранием. Руки так торопливо свивали веревку, будто вот-вот кто-то собирался отнять ее. А мысль в голове подгоняла: мол, времени прошло немало, вдруг в госпитале хватились, ищут. Напряженный слух уловил отдаленный треск валежника. Неужели кто-то напал на след? Надо успеть…
Надя обвела тоскливым взглядом зеленый лиственный шатер над головой с ясно голубыми просветами услыхала пение птиц и представила себе, что через несколько мгновений эта красота станет ее смертным пологом. Всю затрясло, словно в горячечном сне. На глаза навернулись слезы. Слух вновь подтвердил приближение чьих-то шагов. Повернула голову в сторону звуков. О, новое горе! — ничего не видать. В глазах, заполненных слезами, расплывались очертания всех предметов. Что делать? Сердце сжималось от страха и стыда. Опасность быть застигнутой на месте преступления придала смелости, силы. Рывком сдернула с сука бинты, прижала холодными, трясущимися руками их вместе с газетой к груди и пустилась бежать в сторону, противоположную загадочным звукам.
Где-то над чащей послышался раздражающий ропот воронья. Зловещее каркание подстегнуло. И она понеслась среди лесных зарослей, словно в бреду — ничего не видела, не слышала, не чувствовала. Остановилась в окружении толстых сосен. Как ни вслушивалась в лесную тишину, признаков погони не улавливала. Зто успокоило. Сосны будто расступились — дали дорогу. Заплаканные глаза различали знакомые места. Какое счастье! Меж деревьев показался сруб с авиабомбой-трубой. Он манил к себе единственным окошечком-глазком. Ее домик. Опять судьба?..
Привела себя в порядок и направилась домой. Со стороны палаток показался знакомый санитар. Жестами, голосом тревожно звал:
— Сестра, вас срочно требуют.
— Кто?
— Больные.
— Сейчас. Скажите, что я в аптеке, получаю лекарства. Грудь стеснилась от какого-то тягостного чувства сожаления.
А внутри вкрадчивый голос радовался: «Все складывается как нельзя лучше — уж от аптекарши Сони ты не уйдешь без яда».
Свернула в аптечную палатку. Взяла выписанные на день лекарства. Среди них оказались и ядовитые — просить не понадобилось. И она возвратилась не к своим больным, а в домик. Быстро скомпоновала в кружке смертельную дозу отравы. Оставилось только выпить и конец всем терзаниям. Глаза задержались на куче порошков, пузырьков, коробочек. «По какому праву я лишаю больных назначенных им насегодня лекарств? Ведь в суматохе, вызванной — моей смертью, всеэто так тут и останется. Нет, сбегаю сначала в палатки,раздам все, что кому положено, вернусь и тогда выпью свою роковуючашу. Моя кружка никуда не денется. Никто мне здесь не помещает.
Хорошо, что подруги в Жихареве. Собрала медикаменты и побежала в палату.
Начала с распределения лекарств, согласно назначениям врачей.
Как ни старалась овладеть собою, все пошло вверх ногами.
Первый встретил радостным возгласом безногий Любавин. Он с Севера, бывший мастер лыжного спорта. Все время сильно убивался, остро переживал по случаю своего увечья, говорил, что поскольку ему не видать больше лыж, как своих ушей, то и жить не охота.
— Сестра, у меня радость! — неожиданно объявил Любавин. — Вы правы. Вот прочтите письмо из дому. Оказывается, техника не стоит на месте. Я и без ног буду мчаться по снегу быстрее ветра…
С противоположного угла палатки подал слабый голос, обгоревший слепой летчик:
— Сестричка. Хочу лично поблагодарить вас за клюквенный кисель. Где вы достаете такую редкость? Только в ваше дежурство оживаю. Не побрезгуйте, пожалуйста, напоите меня вашим чудесным элексиром.
Надя подошла к койке, думая: «Как раз во время сбора вчера в лесу твоей живительной клюквы я и пришла к мысли об уходе из жизни. Одиночество подстегнуло».
Из-под простыни и одеяла выглядывал свиток бинтов. Это и был знаменитый асс, храбрый сокол волховского и ленинградского неба, гроза гитлеровских воздушных пиратов..
Медсестра зачерпнула чайной ложкой из кружки киселя, раздвинула марлю на том месте забинтованного лица, где положено быть рту, и осторожно влила розовую жидкость. Металлическая ложечка жестко стукнула о твердые, обугленные до черноты губы летчика.
— Спасибочко, — тихо шепнул он. — Сестра, вы сегодня обещали помочь мне написать письмо моим родным.
— Обещала, но вряд ли смогу. Надо было бы и девушке вашей сообщить. Вы до сих пор так и не рассказали о ней, хотя не раз заикались. Ведь есть у вас она, ждет не дождется сокровенного слова.
— Да, верно, есть, — каким-то загадочным шепотом произнес летчик. И неожиданно сказал: — У вас найдется зеркало?
— Нет, — удивилась Надя, вытирая платочком на всякий случай свое лицо.
— Возьмите в тумбочке у соседа.
— Взяла. Что дальше? — все больше недоумевала Надя. «Зачем слепому понадобилось зеркало?»- подумала.
— Посмотрите в него.
— Смотрю.
— Увидели кого-то?
— Да. Себя.
— Это и есть моя девушка.
Надя еле слышно вскрикнула. Нечеловеческим усилием воли заставила себя дружелюбно засмеяться:
— Вон как! А я не знала, — и сказала серьезно: — С такой железной волей, невиданной настойчивостью вы непременно выздоровеете, будете видеть людей лучше, чем зрячие, и станете по-настоящему счастливым…
Конец фразы больной не расслышал. Надю нестерпимо душили слезы. Она мигом выскочила из палатки. В пути к домику дала волю своим взбудораженным чувствам. Плакала, как маленький ребенок. Навзрыд.
Перед дверью сруба остановилась. Вытерла лицо. Внутренне подтянула себя, чтоб как можно решительнее осуществить задуманное». У обреченного летчика хватает выдержки делать вид, будто с ним не случилось ничего страшного, а я… То весенняя природа с птичьими голосами, то окровавленный бинт, то калеки-больные, то чего доброго Костя некстати заявится… Какие только препятствия не подстерегают меня на каждом шагу!.. — размышления прервали частые хлопки: «Тах-тах-так!.. Тах-тах-так!.. Это недалеко ударили зенитки по вражеским самолетам. — Теперь фронтовая обстановка может помещать… Сейчас же напишу записку для всех: мол, нечего меня жалеть. Но я не предательница, не враг народа. И одиночество тут ни причем. Уношу с собою то, что стало поперек жизни. Так надо. Ну, ну, не давай себя расслабить. Будь твердой, как летчик!..
Придав лицу, выражение храбрости, рванула дверь и остолбенела на пороге. За столом сидел Костя. В правой руке держал кружку, левой вытирал губы.
— Ты?.. Выпил?!. — накинулась, задыхаясь, Надя вместо приветствия. В округлившихся глазах – слезы неизбывного горя.
— Я… А кто тут должен быть другой?
И посмотрел в окошко. Вспомнил, что когда подходил к срубу, то какой-то летчик, воровато озираясь, шмыгнул за угол.
— И не от радости, а с горя мне давно пора запить… Постой, постой… Надя, что с тобою? На тебе лица нет. Ты будто давно плачешь.
Действительно, ее вид страшный: веки припухли, глаза красные, лицо мелово-бледное, подбородок мелко дрожал.
— Где ты взял кружку? Скорее!!
— Не украл и не с собой принес. На столе… Да перестань дергаться. Какую-то муть выплеснул вон, за окошко, сполоснул, налил воды из чайника и напился. А что нельзя?..
Надя в изнеможении опустилась на кровать.
— Кто за тобой гнался. Наверно, не случайно в течение дня не могу тебя поймать. Третий раз захожу. Последний раз в березовой роще спугнул дикую козу. Правда, не удалось увидеть ее — такого стрекача дала, что стая ворон поднялась над рощей и долго не могла успокоиться. В твоем жилье холод, а на дворе тепло…
Надя свалилась на подушку. Ее острые плечики судорожно затряслись. И забилась в истерическом плаче.
— … — Ох ты, горюшко мое!… Проснись и успокойся.
Возле столика нетерпеливо переминался с ноги на ногу Гридин, стараясь осторожно растормошить за плечо горько рыдавшую во сне Надю.
Она, видно зашла в сруб на минутку. И, как была в белом халате, так и присела на скамейку, наклонилась к столику, облокотилась, и, изнуренная бессменным дежурством, уснула. И ей приснился такой, глубоко потрясающий сон, что в течение нескольких минут не реагировала на попытки Гридина разбудить ее.
Наконец, подняла голову, все еще всхлипывая. Глаза красные, заплаканные; лицо в слезных потеках. Взглянула в окошко.
— Ой! На дворе еще мартовский снег, а мне приснились птички среди весенней зелени.
— И поэтому ты заплакала? — удивился Гридин.
— Нет. Меня расстроили видения более глубоких перемен. Не перемены над нами, а мы над ними.
— Когда не хочешь ужиться с кривдой, то приходится плакать по правде, — вздохнула Надя и кратко рассказала свой сон.
— Да, — задумался Гридин. Потом глухо произнес: — Твои сонные грезы во многом переплетаются с явью. Почему?
— Не знаю. Я еще не успела опомниться после необычно кошмарного сновидения. Говорить о причинах — конечно, не суеверного порядка, — которые повлияли на то, что я так неспокойно вздремнула, сегодня невозможно — некогда. Сейчас выйдем на воздух и в пути к проходной договоримся.
Надя меняла халат. Приводила себя в порядок. И поглядывала на Гридина.
— После контузии ты, дружочек, заметно изменился. Повзрослел. И вырос в моих глазах. Отрадно, что на поле боя ты проявил волю, о воспитании которой с детства прожужжал мне уши. Вот бы и мне обладать бы такой же силой воли. Я стремилась подражать тебе, и не только тебе, но и нашему общему другу — Петру. Правда, у того свой конек — терпение. Восстановиться ли у него зрение на правый глаз? Хотя бы… Петро хорошо влияет на тебя, человека долга. Воинский долг ты исполняешь превосходно. Но сомневаюсь, способен ли так, же преданно служить своему чувству? Это сомнение — одна из причин… Ну, а об остальных причинах сна потом… Беда едет, беду везет, третья погоняет, — говаривал Петро. Итак, что же предшествовало сну?
На собрании тон задал докладчик. Сначала он «раскачивался», чем основательно утомил комсомольцев. Затем посмотрел на часы. Заторопился. Стал реже прибегать к глоткам воды и чаще проглатывал окончания длинных фраз. Осиливал не своей рукой написанный текст с большим трудом. В произношении сокращений звучали казусы:
— Тов. ксм! Ударим по хвостам медсестры Н. Ликвидируем ее зад. В палатке — сдержанный, гул. И в президиуме — оживление. Председатель — широколобый молодой фельдшер с крупными лиловыми губами — поднялся, будто после сна, обвел слушателей осовелыми глазами, как бы молчаливо призывая потерпеть минуточку. Извинительно посмотрел на своего соседа слева — старшего лейтенанта, представителя «вышестоящего органа». Тот, вглядываясь в первый ряд участниц собрания, на ком-то остановился. Как-то замысловато крутнул стриженной под бокс головой, оседлал нос золотым пенсне, перевернул страницу блокнота и продолжил торопливо и энергично водить по ней карандашом.
— Видать, — начальник, хотя и ниже званием нашего докладчика. Даже на собрании не может оторваться от деловых бумаг. Умственный человек, — шептался с медсестрами самый старый комсомолец шофер Сажаев.
«Гость сверху» действительно за время доклада сделал немало. Прежде всего, на страницах своего объемного блокнота он вволю натренировался быстро и точно наносить цветными карандашами условные топографические знаки. На фоне пестрых ромбов, флажков, различных линий — прямых, с плавными закруглениями, зубчатых, зигзагообразных, с оттенками — появился профиль докладчика. В его крючковатый красный нос и гладкий, как тыква, бледный череп, со всех сторон впивались сильно заостренные красные и синие стрелы. Из черных ноздрей клубился желтый дым. Отвислая щека своим кирпичным цветом мало чем отличалась от натуры.
Последняя страница блокнота посвящалась кудрявой женской головке с бисерным четверостишьем, вписанным в завитушки волос.
Романическую идиллию вызвала у старшего лейтенанта девушка из первого ряда, которая отличалась от других не только необычной прической, но и заметно подкрашенным лицом, и непоседливостью. Она-то и разбудила годами дремавшие в молодом человеке способности к живописи, поэзии.
Началось с кольцеобразных завитушек — первоначально это было изображение проволочного заграждения. Коричневые и красные карандаши придали им сходство с оригиналом на кудрявой голове. Затем — черные ресницы, стреляющие глаза, окаймленные синей поволокой. В таком виде был схвачен начальный момент, когда обладательница выразительной внешности не подозревала, что нечаянно играла роль натурщицы. Только когда старший лейтенант с целью уточнения подлинности или искусственности каких-то деталей изображаемого стал поминутно надевать и снимать пенсне, всматриваясь то с левого, то с правого наклона головы, она кокетливо заулыбалась и открыла беглый огонь из-за своих чем-то залепленных ресниц.
Это обстоятельство, по-видимому, толкнуло творческую фантазию художника за пределы видимого. Он начал опускаться ниже головы. Сначала набросал очертания пышного бюста, затем сузил талию до толщины перемычки в песочных часах (это противоречило истине — девушка была кубастенькой), не поскупился в изображении развитых бедер. Ноги в форме перевернутых вниз горлышками бутылок, оказались обрубленными по щиколотки — не хватило бумаги. Вся фигура рождалась в костюме Евы.
После громкого откашливания докладчик решил прочесть заключительную часть фразы с пафосом. Но не рассчитал — мало вдохнул воздуха. Вышел из затруднения оригинально — раскрыл название знака препинания:
— Восклицательный знак, — хрипло вздохнул он с облегчением, будто свалив с себя непривычно тяжелую ношу.
И все-таки победно посмотрел — первый раз за время чтения доклада — поверх толстых очков на аудиторию.
Председатель объявил, что доклад окончен, хотя в этом никто и не сомневался.
Старший лейтенант встрепенулся. Оглянулся и с гримасой недовольства на лице продолжал торопливо дорисовывать серьги в ушах под завитушками. В президиуме зашевелились. Художнику пришлось с сожалением закрыть блокнот вместе с раздетым творением. Он шепнул что-то председателю, у которого был крайне рассеянный вид. И тот, согласно кивая головой, нагнулся вперед, через стол президиума:
— Теперь, товарищи, кто хочет выступить?
Палатка наполнилась гулом голосов. Почти все участники собрания полушепотом, негромко делились между собою впечатлениями. Вопреки истине, председатель как-то безразлично утверждал:
— Выходит, помолчим, как в рот воды набравши. Получается, что у нас все хорошо и гладко. Нет, так не пойдет. Давайте, товарищи сестры, расскажите, кому, что мешает в работе.
— Ого, немало захотел, — потонула в общем гуле чья-то реплика. Говор стих. Желающих высказаться не было.
Фельдшер вытер платком свой широкий лоб, наклонился к уху гостя, и будто подул на синеватый рубец, рассекавший висок. Перешептывание кончилось тем, что председатель собрания взял на себя непринужденно-веселый вид, но обратился к людям прежним тоном:
— Ну что, товарищи комсомолки, долго будем сидеть, как посватанные? Говорите, не стесняйтесь представителя высшего начальства. Старший лейтенант разбирается в наших делах — не раз бывал под скальпелем хирурга.
Кудрявая девушка энергично повернулась вправо, влево, как-то свысока окинув взглядом участников собрания, и сверкнула глазами в сторону автора ее раздетого портрета: мол, от них не добьетесь активности; ждем вашего выступления с ценными указаниями, а потом…
Старший лейтенант, казалось, понял. И будто смутился.
Медсестры выжидательно смотрели на «вышестоящего начальника». Установилась напряженная тишина. Старший лейтенант нервно заерзал на своей скрипучей табуретке. Стал машинально снимать и надевать пенсне. Это занятие дополнилось протиранием стекол. Без очков его лицо казалось отдаленно-недоступным. Словно зная об этом, он поспешил оседлать нос, отчего глаза, обретя дополнительный блеск, как бы приблизились к людям. Его внимание опять привлекла вертлявая медсестра. Их взгляды встретились. Тяжело нагруженные ресницы интригующе потупились. Оптические стекла гостя на мгновение еще больше округлились и, ответив понимающим блеском, продолжали прощупывать лица других девушек-комсомолок. И только в последнем ряду, в углу, взгляд старшего лейтенанта требовательно задержался на ком-то.
Над головами робко поднялась рука.
— Слово имеет член ВЛКСМ Дубровина, — с облегчением объявил председатель и, держась за лоб, в изнеможении сел.
Победоносное сияние лица старшего лейтенанта, обращенное к фельдшеру, означало: «Надо уметь руководить собранием. Учитесь».
— Мы плохо лечим раненых… — несмело заговорила Надя. — Я, например, не полностью выполняю назначения врачей. Часто случается будто нарочно: как только подходит время выдачи больным сульфидина, старшую медсестру Пейсину Софью днем с огнем не найти. Порой приходится всячески выкручиваться. Разве это нормально? Плохи дела и с вином, вернее, — без вина. Моим двум палаткам положен по пяти рецептам кагор. Раненые об этом знают. И как только появляюсь с обеденным подносом, стараются разглядеть на нем свои стаканчики. Когда нет этого вида лекарства, кто-то обязательно потребует: мол, подай выписанное врачом и баста. А тут, как назло, неувязка: перед началом раздачи пищи старшая медсестра бесследно исчезает. Хоть весь госпиталь переверни, не найдешь ее. — Голоса с мест: «Правильно!» — Я не раз пыталась получить это злополучное вино задолго до обеда или, в крайнем случае, позже — ничего не выходило. «Не торопись — успеешь. Смотри за главным», или: «Что с воза упало, то пропало», — отшучивается Софья. К чему такой неуместный юмор?
Наступило тягостное молчание.
— Интересно, что скажет товарищ Пейсина. Она здесь? — сверкал старший лейтенант очками, впиваясь в ряды медсестер.
Вертлявая девушка с завитушками вдруг сникла, опустив глаза долу.
— Ее нет на собрании? — приподнялся гость с места. В палатке реплики:
— Здесь Софья.
Пейсина не показывается — стыдно.
— Наша Софья не по всем сохнет, а выборочно.
— С жиру окропляется вином за счет больных.
— Ей немного надо. Другим горло смачивает. Председатель попытался руководить собранием:
— Тише, товарищи. Не все сразу. Говорите порядком. Кто просит слова?
Все замолчали.
— Не понимаю. Почему бы Пейсиной не выступить? Где вы? Потрудитесь хотя бы подняться, — настаивал старший лейтенант.
— Я выступать не собираюсь, — заерзала на месте кудрявая непоседа.
«Представитель сверху» закачался и сел. Отблески стекол очков помогли скрыть состояние полной растерянности. Поскольку взоры всего собрания обратились к нему, он после минутной заминки нашел в себе силы нарушить молчание:
— В-вы?.. Почему?.. То, о чем говорила Дубровина, правильно?
— Не все в точности так было, как она разрисовала, но отчасти правильно. Дубровина лучше рассказала бы о своих встречах с танкистами… — беспомощно пыталась защищаться Пейсина, оглядываясь кругом. Не встретив сочувствия, замахала руками: — Ой, и что за люди? — Схватилась с места и направилась к выходу. На полпути одумалась, свернула в сторону, села на край скамейки и расплакалась.
— Ну, товарищ Пейсина, так совсем не годится. Видно, комсорг госпиталя плохо воспитывает вас, — начал тоном осуждения, успокоения старший лейтенант.
— Она и есть секретарь комсомола. Сама себя и воспитывает, — нерешительно разъяснил слабый альт.
— Как так? — вопросительно посмотрел гость на членов президиума.
— В руководство собрания мы ее не избираем потому, что недостойна, — добавил альт.
— Председатель, выполняйте свои обязанности! — крикнул докладчик и, ни к кому не обращаясь, мягче добавил: — Конечно, далеко не все так мрачно выглядит, как пыталась здесь изобразить Дубровина.
— Понятно. Рука руку моет, — вставил кто-то.
— Мы сами разберемся с этими досадными неувязками. Надо же было вам, товарищ Дубровина, дотянуть свои дрязги до собрания, до слез. Зашла бы сразу ко мне. Но ничего, ошибка поправима. Вы еще молоды, научитесь. Товарищ председатель, не спите. Заканчивайте собрание, — выговаривал, наставлял, распоряжался докладчик.
— Не спешите, товарищ Гарам, — официально вмешался старший лейтенант. Он окончательно опомнился, рассердился на свою оплошность и требовательно предложил: — Пусть выскажутся комсомольцы.
— Они больше ничего не скажут. Я их повадку знаю, — громко ответил майор, обращаясь не столько к старшему лейтенанту, сколько к участникам собрания.
Председатель и гость как ни разъясняли комсомольцам, чтобы они продолжали обсуждение доклада. Однако никто не изъявил желания попросить слова.
— Ну, вот видите, убедились? — самоуверенно обратился Гарам к старшему лейтенанту. И на ухо добавил: — Не тяните канитель, Иван Иванович. Нас ждет свежая рыбка.
Старший лейтенант вспомнил, что однажды мимоходом ему случалось обедать в госпитальном домике майора, и что на столе, по выражению гостеприимного хозяина, «как из пушки» появились две бутылки кагора, и что их поставила бойкая, кубастенькая девушка, предварительно стрельнув — тоже «как из пушки» — плутоватыми глазами из-под тяжелых ресниц. «Вон оно, в чем дело… Нет, дорисовывать не буду, пусть остается голой. Молодец. Дубровина — словом лучше, чем я карандашом, раздела эту вертихвостку Пейсину. А я тоже хорош…» — прояснялось сквозь болезненный шум в голове — напоминали о себе недавние ранения и контузия — и он скороговоркой ответил:
— Спасибо. На ужин я не останусь. У меня есть срочное задание — спешу к вашим соседям, танкистам.
— Несерьезные люди. Шкодят в моем хозяйстве. А как попросишь достать что-либо в Ленинграде, черта с два.
На выходе Софья Пейсина тихо, сквозь зубы прошипела Дубровиной:
— Я один раз поплакала, а ты десять раз заревешь горючими слезами. Будь уверена — я свое возьму. А ты останешься с носом.
Такое собрание было бы недостойно упоминания. Комсомольская масса, воспитанная Партией, самой советской действительностью, правильно понимала свои задачи. Но этот частный случай, порожденный нехваткой кадров в тыловом учреждении, все-таки заслуживает внимания. И хотя бы потому, что он усугубил личные переживаниями без того тяжелые душевные муки молодой медсестры, довел ее до отчаяния.
На второй день после собрания в Надины палатки прибыла «комплексная проверка». В углу, на столе раздачи пищи старшая медсестра обнаружила жирные, плохо вымытые тарелки. Никогда раньше она не проверяла простыни, а на этот раз тщательно осмотрела их под каждым больным. Кое-где краснели кровоподтеки.
— Дубровина! Кто будет перебинтовывать раны? Пушкин? Не видите, что кровь просачивается на чистое белье. Все цветочками да салфеточками занимаетесь, а главное упускаете, — зло выговаривала Пейсина.
Надя обслуживала две палатки по 25 человек в каждой. В одной контуженные, во второй — раненые в живот.
Однажды она задержалась продолжительное время у койки тяжелораненого в брюшную полость. В то же время со второй палатки контуженный звал ее к себе — не мог помочиться. Надя попросила санитара принести больному грелку и приложить ее к низу живота — этим облегчалось мочеиспускание.
Пожилой, неповоротливый боец положил контуженному на голое тело слишком горячую грелку, отчего на коже вздулись пузыри ожега.
За это Наде здорово попало.
— Огненно-горячей грелкой вы причинили больному вторую травму.
Это вредительство! — выходила из себя старшая медсестра. — Да еще совершенное на фронте. Знаете, что за такое бывает? Подумайте. Так может поступить только враг народа. Вот об этом и расскажете на внеочередном комсомольском собрании. Я, как комсорг, обещала представителю вышестоящего начальства взяться за ваше воспитание.
У Нади несколько дней все из рук валилось. Ходила расстроенная, с опухшими глазами от слез и недосыпания.
«Поймали» злополучную медсестру и на «вредительском» рецепте. Согласно врачебным назначениям, отмеченным в историях болезней, Надя заполняла рецепторные бланки, которые за подписью врача направлялись в аптеку. В одном из таких рецептов должны были значиться кодеин и сода. Надя соду пропустила — сказались бессменные дежурства, усталость, расстройство от бесконечных придирок, дерганий, а также душевная боль, причиненная «секретами» Мотылькова о Косте. Врач, не глядя, подписала неправильный рецепт. Когда ошибка обнаружилась, все шишки посыпались на палатную медсестру.
— Вы подсунули мне на подпись документ со смертельной дозой лекарства. Да, да! Кодеин без соды — это яд. Такое «лечение» — вредительство.
Надя хотела ответить вопросом: «Почему вы сначала подписали заведомо «вредительский» рецепт, а потом стали искать виновного?» но она не была в состоянии никому возражать или давать объяснения.
В спешном порядке созывается внеочередное комсомольское собрание, на котором Дубровину исключают из членов ВЛКСМ.
Надю поразило то, что за исключение голосовали многие из тех, кто на словах осуждали придирки к ней. Часть комсомольцев воздержалась от голосования.
— Положите на стол президиума ваш комсомольский билет, товарищ Дубровина, — велел председатель.
Комсомольцы затихли, будто в ожидании какого-то сверх естественного события. Надя поднялась с места. Напряженное молчание в палатке предвещало бурю. И она разразилась.
Вначале Дубровина осмотрелась вокруг себя. Хотя у всех рты были закрыты, в голове девушки стоял сплошной шум, будто каркала разноголосая стая ворон.
— Комсомольский билет я никому не отдам! — громко заявила
Надя и твердыми шагами покинула собрание.
Все произошло так быстро, что никто не успел сказать ни слова…
Вслед за Надей выбежали друзья. Реагировали по-разному:
— Молодец! На передовой люди жизнь отдают с билетом у сердца.
— Это все Софа подстроила.
— Трудно против нее… ППЖ — и все тут.
— Извини, Надя, что я воздержалась.
— А меня вынудили поднять руку. Смотрели с президиума такими глазами, что другого выхода не было. Но ты не переживай.
— Поверь, что мы всей душой с тобою…
У Нади с той минуты не стало души к тем, кто проявил беспринципность.
Она прибежала в сруб — пустой, холодный. Села за столик. Облокотившись, уперлась подбородком в ладони, уставилась в фотокарточку Гридина и с пристрастием стала выговаривать:
«Во всем виноват ты. Я тебя боготворила, считала идеалом, но ошиблась. Щеголяешь волей, а превращаешься в тряпку перед первой встречной. Мотыльков не все знает. От сослуживцев ты скрыл свои госпитальные романы. Когда меня съедала Пейсина, ты не пришел, не вник в мои затруднения, не посоветовал, что делать. Где же, правда?»
В это время в дверь кто-то осторожно постучал.
— Войдите, — ответила Надя.
И к ее немалому удивлению на пороге появился Гридин.
— Здравствуй, Надюша! — протянул он с радостью к ней руки. — Ты расстроена? Что произошло?
— Будешь расстроена, когда не с кем поделиться, посоветоваться.
— Что за горе у тебя?
— Исключили из комсомола.
— Тебя?! Да ни в жизнь этого быть не может!
— Оказывается, может… — и Надя начала рассказывать о собрании.
Трудный разговор прервал настойчивый стук в дверь.
Не успела Надя ответить, как в помещение с шумом ввалился Сажаев.
— Ну, что, Надюша, как себя чувствуешь?.. Извините, товарищ старший лейтенант, — обратился он к Гридину.
— Здравия желаю! Мы тут по-свойски, знаешь — понимаешь… Я ездил за продуктами и всю дорогу, Надя, душевно переживал твое горе. Вот, возьми, разжился для тебя кое-чем вкусненьким — подкрепи свои надорванные силы, — и он выложил на стол свертки, банки, кульки.
— Не нужно все это, Сажаев. Ты бы лучше на собрании помог мне. Открыл бы глаза тем, кто заблуждался, колебался. Тебя, обычно слушают.
— Ну, там, знаешь-понимаешь, невозможно было. Начальство всех пронизывало глазами, как током. Попробуй загнуть свою линию. Съели бы вместе с кирзовыми сапогами и шерстяными портянками. Я ничего не изменил бы, а за баранкой уже не сидел бы и тебе лакомств не привез бы.
— Значит, из-за боязни быть съеденным, решил отдать на съедение мой комсомольский билет?
— Зачем так резко? Ты допустила ошибку. Выступила… Помолчала бы и все было бы в ажуре. Что толку лезть на рожон? Временно отдала бы билет…
— Нет, брат. На фронте каждый молодой воин считает для себя за высокую честь идти в бой с комсомольским билетом в кармане. Разве могу я лишиться этой дорогой для меня книжицы?
— Знаешь-понимаешь, не возводи все в такую высокую степень. Перемелется — мука будет… Лишь бы в душе остаться ленинцем…
Говорили долго. В конце беседы Сажаев вынужден был признать шаткость своей позиции. Осудил свое непоследовательное поведение.
— Фу, аж вспотел. Накоротко ты меня замкнула. По всем статьям бьешь как есть в самую десятку. Откровенно сказать, я и без тебя понимал, что поступал неправильно, но мне не было с кем спароваться. Теперь у меня созрел план: побеседую со многими хорошими комсомольцами, в отдельности, по секрету. И увидишь — никто Пейсину не поддержит. Правда все равно возьмет верх! — горячо закончил Сажаев.
Гридинслушал и начинал видеть в Наде нечто новое. Выходит, он еще плохо знал свою землячку.
— Да эта бомбежка — предметный урок. Но каков урон!
— Не без причины — все«хозяйство» враг увидел с воздуха. Весна зиму борет.
Разговор красноармейцев-санитаров прервал запыхавшийся дежурный врач:
— Передайте носилки сестрам. Топоры в руки и — бегом за мной!
Они побежали в дальний березняк рубить ветки для маскировки.
На обратном пути распорядился:
— Прежде всего, пока светло, замаскировать палатки приемного отделения, хирургическую.
— Надо было вовремя маскировать, а не после бомбежки, — бурчал санитар с забинтованной шеей.
— И теперь не поздно. По поре глядя и маскируемся, — вставил седоусый напарник. — На фронте не бывает без урону. Всяко случается. Весна да лето, пройдет и это.
Они сбросили с плеч связки березовых веток и начали прикрывать ими продырявленные осколками палатки.
В тот весенний день госпиталь пережил большую беду.
С утра было тихо. Кристально-чистые капельки росы сверкали на остроконечных зеленых листочках травы, березы, черемухи, блестели в нежных чашечках первых цветов. Солнечные лучи радостно искрились в росяном бисере. Всюду пробуждалась, расцветала жизнь. Слышались тонкие звуки насекомых, мелодичные напевы птиц.
И вдруг живые голоса в природе подавил металлически дребезжащий гул. Вся округа заполнилась стрельбой, грохотом.
Вначале вражеская авиация налетела на станцию Войбокало. В ясное небо поднялись клубы дыма, пыли. Горели не только станционные постройки, вагоны, цистерны на путях, под откосами, но и крестьянские избы в Шуме, машины на фронтовом шоссе, которые вблизи станции пересекали железную дорогу. Что-то взрывалось, дымилось в окрестных перелесках.
Над Шумским лесом завязались воздушные бои. Не один вражеский самолет вспыхивал и пытался дотянуть черный шлейф дыма до западного горизонта. В задымленном воздухе белели, приземляясь, парашюты, среди которых были и советских летчиков.
Территория военного госпиталя с демаскирующими строениями, палатками, дымившимися трубами, подъездными проселками также подверглась ударам с воздуха. Во время второго авианалета вражеские бомбы угодили в проходную, приемное отделение, разнесли вдребезги машину с ранеными, перепахали глубокими воронками основную въезную дорогу. Перед обедом снесло воздушной волной навесы над кухней, складами, осколки изрешетили две палатки с больными. Гитлеровские истребители носились над лесом и строчили из пулеметов дотемна. Среди жертв немало оказалось медработников. А поток раненых не прекращался — прибывали машины с передовой, со станции, с разбитых колонн на фронтовой дороге.
На плечи Нади свалилась двойная нагрузка — четыре палатки. К ним не подступиться. Всюду лежали раненые: на носилках и просто среди развороченных бомбами бревен, расщепленных сосен, глыб земли. Во второй половине дня Наде помогала Муза, направленная дежурным врачом из приемного отделения.
И сразу помощница завопила о помощи:
— Ой, Надя, бегом сюда! Не могу…
— Что не можешь?
— Взглянуть… На окровавленных носилках, кажется, он…
— Кто «он»? — задрожали побелевшие губы Нади.
— Боюсь сказать. Как смерть… Не похож, но…
Надя мигом очутилась возле двух носилок, снятых с грузовика.
— Этот, — кивнул санитар на рослого, полураздетого и невозмутимо спокойного артиллериста, длинные ноги которого свисали с носилок, — привезен из-под Синявина.
Надя, увидев раненого, вдвойне успокоилась: его мужественные черты не выражали ни тени паники, ни физических страданий. Главное — то не был Костя.
— А тот, — недовольно сгримасничал санитар в сторону вторых носилок, накрытых шинелью, — страшно беспокойный. Даже наша храбрая Муза отскочила от него. Беспрерывно жалуется то ему холодно, то больно, то плохая повязка.
В это время прибежала взволнованная Лиза. Быстро приподняла край шинели, обнажив лицо беспокойного больного. Ахнула, сразу отвернулась и, бросив осуждающий взгляд на Музу, взяла под руку Надю.
— Нельзя, Надюша, в нашем деле так переживать. На тебе лица нет. Возьми себя в руки. — Она увела подругу за палатку, шепча:
— На петлицах шинели знакомые эмблемы. Я узнала его…
— По-моему, не жилец… Четвертая жертва. Ах, Муза, муза, пора тебе остановиться… Ладно, потом расскажу, — и Лиза убежала к своим раненым.
Поздно вечером врач закончила обход палаток. Перед убытием на операцию она вызвала Надю на улицу и удивила странным распоряжением:
— Артиллерист пусть остается на носилках возле тамбура. Не в наших силах спасти его — запущенная газовая гангрена. А того раздражительного, крикливого что с эмблемами летчика, перенесите на койку дежурного. Пусть угомонится и на других не наводит тоску. Если что-либо возникнет неотложное, я — в операционной.
Надя приступила к выполнению врачебных назначений, которых за день накопилось немало. Больные, довольные заботливым уходом, лечением, успокаивались, многие начинали засыпать.
Она подошла к обреченному артиллеристу.
— Наконец-то вы освободились, сестричка, — проговорил он со вздохом облегчения и надежды. — Принимайтесь теперь за меня.
Надя не сразу сообразила, что от нее требовалось. На мгновение представила себя на месте пациента. И это помогло ей понять человека. Но как медик стала в тупик. Какими приемами, способами начинать борьбу со страшным процессом омертвения тканей организма, явными признаками гниения, против чего опытная врач оказалась бессильной? Что сказать в утешение несчастному?
Глубоко задумалась. И все же приступила к делу — знакомому, привычному. Открыла простынь. Перед ней лежал смуглый, мускулистый человек. Видно, еще вчера сильный, физически натренированный. Спортсмен. Сняла загрязненные, заскорузлые бинты с правого плеча. В нос ударило гнойное зловоние. Налицо очень серьезное ранение с повреждением кости. Нажала несколько раз пальцами вокруг черной, запущенной раны, ниже ключицы — всюду раздавался характерный зловещий хруп — свидетельство обширного распространения газовой гангрены. Особенно угнетало то, что пораженные участки тела находились недалеко от сердца.
«Врач совершенно права, — размышляла Надя. — Смерть неминуема. Такого больного не спасет никакой профессор. Что же предпринять мне, простой медсестре? Ясно, как день — дело безнадежное».
Так подсказывал здравый смысл. Одновременно в душе, рядом с искрой участия затеплилась искорка какой-то смутной надежды. И нечто подсознательное заставило говорить, действовать вопреки медицинской логике.
— Сейчас начну все по порядку, — старалась медсестра успокоить себя и пациента. — Вы немножко потерпите и все будет хорошо.
— Ничего. Я терпелив. Смело, без жалости делайте то, что положено. Вам не впервой.
Надя вытерла загрязненное плечо, прочистила разорванные осколками ткани, остригла ножницами волосы, с засохшей кровью омертвелые кусочки кожи. Обработанную рану присыпала стрептоцидом и аккуратно забинтовала. Обновленной повязкой осталась довольна;но то, что творилось внутри раны и за ее пределами — ужасало. Сменила бинты и на ногах, где, к счастью, были легкие повреждения мягких тканей.
— Ноги — хоть сейчас на танцы, — воодушевила Надя больного.
— Во всем остальном — дело за вами: лежите спокойно, не тревожьтесь, постарайтесь уснуть… — она не знала, что советовать человеку, которому не только слова, но и сильнейшие лекарства уже не могли помочь.
— Спасибо, душа моя. Вы уже наполовину вылечили меня. Постараюсь все исполнить, как велите.
«Я совершенно ничем не помогла ему, — думала Надя. — Тоже себе на уме — старается делать хорошую мину при плохой игре». Направилась к выходу. Ее остановил твердый, в извинительном тоне голос:
— Минуточку, сестричка. Понимаю… Ужина у вас так поздно не бывает. Но, если бы у повара что-то завалялось, я с аппетитом съел бы. И выпил бы…
Надя повернула голову назад. Поискала глазами больного, который после полуночи столь деликатно высказал такую странную прихоть.
— Это я прошу, — отозвался под боком артиллерист.
Медсестра остановилась в недоумении. Ей ни разу не встречались тяжелобольные с подобными желаниями. «Может, у него что-то с психикой?» — мелькнуло в голове. Однако ни один мускул на лице ни малейшее движение рук, выражение глаз — ничто не выдало ее крайнего удивления. Она быстро побежала на кухню, упросила раненого в ногу повара приготовить на скорую руку что-то поесть больному, для которого еда, мол, вопрос жизни. Сонный красноармеец со стонами, ворчанием сделал все, что мог.
Вкусные ароматы подогретой тушенки с макаронами, поджаренного на масле хлеба вызвали на лице артиллериста оживление.
— О, спасибо, нашлась еда. Не вижу, однако питья.
— Взглянете на тумбочку. Осилите ли? — указала Надя на дымившуюся большую кружку с горячим чаем.
— Это вторичное. Мне надобно первичное, которое разогревает кровь, разгоняет ее по жилам. Одолжите, сестрица, граненый стаканчик спирту. Гарантирую выздороветь и вернуть долг в десятикратном размере. У меня на батарее имеется НЗ.
Надя остолбенела. Его глаза… Нет, в них не было ни тени того, что выдавало бы мрачного пьяницу, ни малейших признаков унизительной мольбы, присущей алкоголикам. Глаза светились необыкновенным блеском, сродни тому, который излучают своими гранями драгоценные камни.
И когда она вернулась в палатку, протянув ему наполненный спиртом стакан, он принял его будто с неохотой, и выпил так, как пьют неприятное, но необходимое лекарство. Ел медленно, аппетитно. С похвалой отозвался о чае.
— Немножко подкрепился. Теперь сил прибавилось, можно бороться. Сразу видно, что попал в заботливые руки. Чувствуется, что здесь мертвых поднимают на ноги, — говорил он, словно про себя.
Утром прибыла врач. Запнулась о носилки на полу и намеревалась сделать замечание санитарам за то, что те не отнесли труп в морг. «Труп» опередил просьбой:
— Товарищ доктор, распорядитесь, чтоб меня определили на человеческую койку. Здесь я, как лишний — добрым людям мешаю ходить, начальство нервирую.
Врач с выражением на лице смущения и неловкости велела медсестре подготовить больного к перевязке.
С носилок послышалось возражение в тоне легкого юмора:
— Мне положен сначала завтрак. А то хирург приступит с ножом ко мне поемши, и возможности у нас будут неравные. Не хочу терять физическую силу. Воодушевлять меня не надо. И перевязка ни к чему, ее проделали ночью искусные руки.
Врачу не раз приходилось терпеливо выслушивать самые неожиданные высказывания раненых. С присущей сдержанностью она осмотрела раны обреченного. Ничего нового, отрадного не обнаружила. Прежний диагноз не изменился. Срочные, неотложные операции вынудили врача ограничиться только сменой бинтов.
Мы бросаем все силы на спасение тех раненых, у которых есть объективные данные выздороветь. Артиллерист — совершенно бесперспективен. Не отвлекайтесь. Наши возможности ограничены, — наставительно растолковывала врач медсестре.
Но необычный больной и под его влиянием Надя не посчитались с медицинскими законами. Они продолжали неравную борьбу с роковым недугом.
От наблюдательного артиллериста не ускользнуло нечто своеобразное в отношении к нему врача. И он с утра перешел в решительное наступление:
Товарищ доктор, бросьте играть со мною в кошки-мышки. Я догадываюсь, в чем дело. Плевать мне на объективные данные и ваши ученые прогнозы. Требую дать мне немедленно место на нормальной койке. Это Прокрустово ложе осточертело. Относительно лекарств — дело ваше. Думаю, однако, что и без пилюль у меня хватит внутренних сил выстоять. Полагаю, что критическую точку я уже миновал.
Врач не рассердилась. Наоборот, похвалила больного за то, что он непоколебимо верил в крепость своих жизненных сил, распорядилась перевести его на дополнительно втиснутую в палатку койку и вплотную приступила к лечению.
Результаты поразили всех. Артиллерист назло смерти буквально возвращался с того света. Произошло чудо — гангрена отступила. Через короткое время больной поднялся на ноги.
— Вот это и называется брать жизнь с бою, — подытожила врач.
Пациент с эмблемами летчика на петлицах, будто учитывая опыт артиллериста, боролся за свою жизнь еще более настойчиво. На этом пути он невольно толкал на грань смерти тех, кто стремился ему всячески помочь.
Несмотря на трудную обстановку в госпитале, врачи трижды осматривали беспокойного больного. Они хотели определить степень тяжести слепого ранения в нижней части брюшной полости.
Строптивый раненый кричал:
— Коновалы бездушные! Почему не отправляете немедленно на операцию? У меня все нутро истекает кровью от осколков. В рот ничего не могу взять.
К какому бы участку живота ни притрагивались руки специалистов, больной громко вскрикивал. Особенно истерически-нетерпимые звуки издавал он тогда, когда делались попытки прощупать кожу вблизи раны.
А тут новый налет вражеской авиации.
Случайно в щели, рядом с операционной палаткой оказался майор Гарам. Хирург обратился к нему:
— Ваш знакомый с аэродрома Кобоны требует срочно оперировать его и только под общим наркозом. Мы с ним не согласны. Как быть?
— Делайте так, как желает раненый. Меня бы тоже усыпили на время бомбежки, — провожал майор тревожным взглядом новую цепочку продолговатых точек, отделившихся от «юнкерса». Он отличался повышенной самолето боязнью.
Делать нечего — раненый оказался на операционном столе.
Вскрыта брюшная полость. Поиски злополучного осколка затянулись. В это время на госпиталь опять налетели самолеты противника. Возобновились бомбежки, обстрелы. Оперирование закончилось спешно, под вой бомб, свист пуль и осколков. И без того продырявленная палатка превратилась в клочья рваного брезента. Хирург ничего не обнаружила в брюшине пациента, зато сама получила смертельное ранение в шею. Из рук операционной медсестры выпали в грязный таз инструменты, а она с кровавым пятном на груди свалилась на раненого.
На второй день оперированный чувствовал себя плохо. Участливое, душевно-близкое отношение к нему медсестры Музы почему-то не воодушевляло его, а, наоборот, злило, доводило до какого-то панического отчаяния.
Он непрерывно жаловался на боли во всем теле. Хирел, терял силы. И все кончилось смертью.
Врачи вскрыли и обследовали труп. В брюшной полости обнаружен окровавленный, разлагающийся комок. Выяснилось, что во время авиационного налета, в спешке, по недосмотру, была зашита в брюшине марлевая салфетка. И спросить не с кого — оперировавшие хирург и медсестра умерли от ран.
Лиза отвела Надю в тамбур и тяжело вздохнула:
— Я этот исход предвидела… — и пустилась обосновывать свои домыслы: — Еще задолго до твоего приезда в госпиталь, Муза познакомилась с фельдшером из танковой бригады. Тот воспылал к ней такой любовью, что открыто, проклинал свою судьбу, костил себя за то, что посвятил жизнь медицине. Завидовал летчикам и танкистам. Ему хотелось ради такой красивой девушки носиться в дерзких атаках против врага, а не ползать среди подбитых танков с ранеными. И вот однажды он упросил своего командира заменить в бою контуженного заряжающего.
И случилось так, что наш рыцарь не вернулся из атаки — сгорел в танке. Муза страшно переживала, ходила, как тень. Вернул ей жизнерадостность веселый летчик. Он поступил к нам с простреленным легким. Когда выздоровел, в день отъезда подчеркнуто-двусмысленно говорил: «Прибыл к вам с пустяковым ранением в правой половине груди, а убываю с неизлечимой зазубриной в левой». В первом же бою храбрый летчик таранил фашиста и сам погиб. На третий день Муза получила письмецо, написанное им перед вылетом на задание. От фразы: «Этот вылет посвящаю тебе, Муза…» она упала в обморок. И далее, надо же статься такому, чтоб взялся развеять ее грусть раненый друг погибшего героя. «Гордитесь тем, что были близки с ассом, грозой фашистов, не падайте духом», — убеждал он Музу. И не без последствий — они подружили. Им было хорошо. И не без «отплаты» — в воздушном бою над территорией госпиталя летчик не вышел из штопора и упал по соседству — в Тобинское болото…
— Ты, я вижу, ведешь к тому, что, мол, причиной трагического конца героев является их знакомство перед боем с Музой? — вставила Надя.
— В день гибели второго ухажера Музы мы рассуждали и так, и эдак. Но третий случай невольно насторожил. И вот этот, четвертый… Не слишком ли?..
— Ну, уж четвертого ты Музе не приписывай. Его свели в могилу трусость, безволие, дрожание за свою шкуру.
— В частности — так… Но когда, в общем-то, глядишь со стороны, то подозреваешь, что все это будто нарочно подстроено.
— Кстати, Лиза, последний вовсе и не летчик, а, по словам Сажаева капризный говорун-интендант. Наш шофер рассказывает, что этот интендант был завсегдатаем госпиталя, не раз привозил раненым летчикам конфеты, шоколад, одеколон.
— Но сладостями угощал среди сестер только Музу. Как только он начал заводить с ней шашни, мы стращали его плохим концом. Одно время, казалось, подействовало — перестал заходить в наш домик. Но вот Муза начала «закручивать» с Ваней и интендантишка забегал… И не избежал своей участи — его нашел осколок авиабомбы в кабине продуктовой машины на пути с аэродрома к железнодорожному переезду. Теперь я боюсь за Ваню…
— Не мели глупости, — возразила Надя и задумалась о Косте. «Глаза открываются: не из-за меня ли он вдруг вызвался пойтина «Урале» в бой. Не заговорило ли в нем чувство ревности после случайных встреч с интендантом-летчикомком возле нашего сруба?» Встрепенулась и поторопилась сменить тему разговора.
В тот же вечер Гридин привез раненых в госпиталь. Зашел к Наде. Беседовали допоздна. Обсуждался ближайший больной вопрос: в случае вызова Нади на партийную комиссию следовало или не следовало положить на стол комсомольский билет, если потребуют?
— Да, видимо, от судьбы не уйти, — расслабленно проговорила Надя и рассказала о печальной участи интенданта. — Я разъясняла Лизе, что она сбивается на суеверие, но саму подтачивает недоброе предчувствие — все ведет к тому, что я лишусь комсомольского билета.
— Петро как-то говорил, что бывают предчувствия и лжепредчувствия. Я не верю ни в те, ни в другие. То, что наговорила тебе Лиза, выглядит трагически-трогательно. А по существу — это сказка про белого бычка. Все очень просто: в интенданте не было ни искры мужества, и врачи не разглядели, что имели дело с бурей в стакане воды. Таков конец каждого, кто по-животному вопит при виде собственной крови. Ему казалось, что он боролся за жизнь, а на самом деле приближался к смерти.
— Да… А вот артиллерист — сильная, непреклонная натура. Кажется, весь его облик, особенно глаза, выражают счастливую судьбу, здоровый дух.
В это время за окном два бойца-санитары заготовляли дрова. Пила стихла.
— Верно, сказано: своя воля — своя доля, — с силой вогнал топор в чурку седоусый и выпрямился.
— И еще, — значительно добавил напарник. — Искра дружеского участия медсестры встретилась с искрой надежды в глазах артиллериста. И хотя его тело начало портиться, эти искры разожгли в могучем мускулистом организме бурное пламя жизни.
Надя не заметила, как в палатку вошли люди. Впереди — невысокий седой майор. Сразу же от тамбура он свернул к первой койке и начал тихо беседовать с раненым.
Тем временем, в дальнем углу артиллерист, поощряемый вниманием слушателей, в числе которых находилась и медсестра, полулежа с увлечением рассказывал:
— …Марья Петровна оказалась довольно представительной, солидной женщиной. Одета в пепельно-коричневую шубу, на голове — маленькая шапочка с ушками, руки — в большой муфте. Все эти вещи, со вкусом сшитые из шкурок сибирской кошки, очень шли к ее лицу.
Я предложил гостье табуретку, но она предпочла разговаривать стоя. С волнением взяла телефонную трубку и поразительно нежным голосом произнесла: «Здравствуй, Прошенька! Это — я…» Ее прервала грубая, брюзгливая нотация — мембрана дребезжала на всю дежурную комнату: «Софа, сколько раз тебе разъяснять, чтоб ты не звонила мне в служебное время? Уже подчиненные начали замечать. Это подрывает мой авторитет. Пойми же ты своими куриными мозгами — у меня все-таки семья, законная жена…»
Я в отчаянии схватился за голову.
«Сибирская кошка» беспомощно опустилась на табуретку. Уставилась в потолок невидящим взглядом. Побелела. Через мгновение очнулась. Закусив нижнюю губу, медленно поднялась. Казалось, и меха ощетинились на ней. Серые большие глаза, в которых сверкнули холодными пластинками злые огоньки, показали на дверь. Твердый звонкий голос подкрепил: «Видите!». Волевое, сосредоточенное выражение лица, плотно сжатые губы не вызывали никаких сомнений относительно отчаянного характера ее намерений.
У меня от столь неожиданного поворота событий отнялся язык. Пришлось как-то слепо, инстинктивно повиноваться жене своего начальника.
Через несколько минут мы были у цели. «Сибирская кошка» без стука в дверь решительно ворвалась к мужу. До моего уха долетели выразительные, с сарказмом произнесенные слова: «На какую-такую-разэтакую Софу ты меня принял? На кого променял?..» И началось…
Голос рассказчика потонул в возгласах одобрения, хохоте. От души смеялась и Надя.
Из-за полога вынырнул Гарам. Тихо, по-кошачьи, подошел к седому майору. Метнул недобрым глазом, ища медсестру, и, найдя ее в обществе артиллериста, как бы обрадовался:
— Вон, полюбуйтесь. Это та, исключенная из комсомола, о которой я вам докладывал. Ей хоть бы хны — заигрывает с больными.
Майор вежливо поднял руку, выразив тем самым намерение закончить начатый разговор с раненым.
— Ни стыда, ни совести. Развлекается в такое горячее время. Загляните, пожалуйста, за ширмочку: посуда с завтрака не вымыта, а она справляет хихоньки да хахоньки, — усердно строчила Пейсина, загораживая дорогу майору и пытаясь повернуть его влево. Тот деликатно отвел старшую сестру своей рукой в сторону, шагнул вперед и громко поздоровался с больными.
Заскрипели кровати, послышались нестройные ответы. Говор стих.
Надя вздрогнула, повернулась к вошедшим и застыла в нерешительности. Наступила неловкая выжидательная пауза.
Ну, что, Дубровина, растерялась? Комиссия, — старался Гарам тоном особо подчеркивал последнее слово, ошеломить и без того растерявшуюся медсестру. Пользуясь заминкой, насмешливо добавил:
— Что надо сказать, деточка? — и кивком карикатурноизобразив на лице наставительную гримасу, показал в сторону седого гостя.
— Товарищ майор, разрешите доложить. В палате — 25 человек. Из них… — покраснела Надя и зарапортовалась.
— Уже 24. Один только-что в операционной умер — не помогло твое лечение, — выскочила с уточнением Пейсина.
— Что, Дубровина, кислороду не хватает? Минуту назад за животик бралась от хохоту. И вдруг на лице — мировая грусть, — самонадеянно осклабился Гарам, полагая, что выразился образно и остроумно.
— Так у нее во всем. Рапорт перепутает, в рецепте наврет, лекарство забудет дать вовремя, — сыпала Пейсина.
— Что это за птица? Я здесь старожил, а такой строгой начальницы ни разу не видывал,- взвелся на локоть розовощекий больной, ища глазами Пейсину.
— Не торопитесь. Давайте все по порядку, — выглянул из-за спины седого майора человек со шрамом на лице, в пенсне.
Надя тотчас узнала его. Это был тот старший лейтенант, который присутствовал на памятном комсомольском собрании. Заговорили больные:
— Вот именно, товарищи члены комиссии, надо во всем разобраться, а не так с плеча…
— Беседуйте с нами здесь, на месте, а не в кабинете начальства.
— Сестру нашу, Надю, в обиду не дадим.
— Товарищ майор, — звучал ровный голос артиллериста. — Я был на краю могилы. Могу вам подробно доложить, как с помощью сестры Нади ожил. В госпитале ходят легенды о ней. Послушайте о Табакове, обгорелом летчике… Пусть каждый скажет.
— Верно, о нашей сестре есть что рассказать.
— Заявляю официально, — продолжал артиллерист: — За таких медиков, как Дубровина, я готов в любую минуту жизнь отдать. Правильно! Все мы…
— Что за митинг?! — испугался Гарам. — Ишь, как распустила больных. — Его глаза на выкате гневно засверкали.
Надя закрыла лицо ладонями и кинулась к выходу. Вслед за ней направился старший лейтенант в пенсне. Возгласы возобновились:
— Нам непонятно, за что молодая, трудолюбивая девушка подвергается гонениям?
— Дубровина работает среди больных день и ночь. Если и надо пожурить ее, то лишь за то, что себя совсем не щадит. Неизвестно, когда она отдыхает, обедает…
— Нас возмущают мелочные придирки к лучшей медсестре.
— Товарищи, успокойтесь, — поднял вверх руку седой майор.
— Мы прибыли к вам не на один день. Время есть без спешки, спокойно разобраться во всем, побеседовать. Итак, товарищи Гарам и Пейсина, продолжайте заниматься своими служебными делами. Все остальные, в том числе и те, кто прибыл в госпиталь вместе со мною, так же выполняйте свои обязанности. Мне разрешите остаться в палатке, — улыбнулся он и добавил:
— Кстати, не следовало бы именовать нашу группу комиссией. Это слово по-бюрократически, неприятно режет слух. Мы — командиры, политработники, врачи — прибыли не инспектировать госпиталь, а, как говорили в старину, на толоку, то есть помочь вам вникнуть в трудности, научиться кое-чему, поделиться своим скромным опытом, совместно выработать рекомендации, направленные на дальнейшее улучшение лечения больных.
В тот день приезжий майор не выходил из палаток. Обедал и ужинал вместе с больными. Его сотрудники сразу же окунулись в кипучую госпитальную жизнь. Каждый из них, в соответствии со своей специальностью, включился в лечебно-оздоровительную, воспитательную работу. Специалисты госпиталя на местах получали помощь от своих старших коллег.
Через несколько дней выяснилось, что в составе рабочей группы из вышестоящего штаба была все-таки и комиссия, но не та, которую имел в виду Гарам.
Однажды перед обедом в палатку ввалилась возбужденная и красная Пейсина. Куда девалось ее привычное самоуверенно-ироническое выражение лица?.. С паническим страхом в глазах и наигранной начальнической заботой она объявила Наде:
— Беги скорее в землянку хозяйственного отделения. Там заседает партийная комиссия. Тебя вызывают. Достукалась. Я раздам обед.
Надя схватилась рукой за левый кармашек гимнастерки и закачалась, шепча про себя: «Не отдам, ни за что не отдам». Растопыренными пальцами ощупывала под тканью твердую обложку комсомольского билета. Тут же тряхнула головой, выпрямилась и быстро зашагала к выходу. За ней следовала Пейсина, хрипя вдогонку:
— Не будь дурой. Лишнего не болтай. Комиссия столкнет нас лбами и уедет, а нам с тобою работать. Комсомольский билет сразу брось им на стол, чтоб я не краснела за тебя. От души советую — не как старшая медсестра, а как комсорг, товарищ.
Последние слова прозвучали неестественно, будто с чужого голоса.
Надя бежала мимо палаток, землянок, срубов, плохо различая местные предметы. Рядом раздавались какие-то голоса, называлось ее имя. Слух воспринимал, а уста не отвечали. Голова, все существо, заняты одним: выдержать, устоять, каким-бы ни был жестоким удар судьбы.
Часовым в районе расположения хозяйственного отделения, складов оказался красноармеец Сажаев. Он шутливо взял на караул, ободряюще подмигнув:
— Грудь колесом, Надюша. Наша возьмет — понимать надо! Кто-то открыл дверь землянки. Ранее известное Наде сумрачное, тесное помещение выглядело неузнаваемо просторным, с мягким освещением. Куда-то исчезли скаты, колеса, сбруя. В потолке светилось широкое окно. За длинным столом, где в дни относительно небольшого наплыва раненых санитары забивали в домино, сидели человек пять-шесть, в центре — седой майор.
— Присаживайтесь, Дубровина, — ласково пригласил приезжий майор. Обернувшись к Гараму, он сказал — Просим извинить нас за то, что сегодня парткомиссия отвлекла вас от службы по партийно-комсомольским делам, хотя вы и беспартийный. Больше не будем злоупотреблять вашим вниманием. Кстати… — обменялся он взглядами со старшим лейтенантом в пенсне. — Наш Иван Иванович советует вам, майор, лично проверить, куда бойцы переносят морг. До сих пор эта мрачная конура размещалась рядом с кухней. Теперь бревна перекрытия оказались почему-то возле вашего домика. Как бы ни начали рыть злополучную яму под вашим окном. Иногда случаются казусы. Приходится вникать самому во все мелочи.
Гарам сморщился, кивнул головой и, ничего не ответив, счел почему-то уместным перед уходом ободрить Надю:
— Выше голову, страдалица. Опять у тебя мировая грусть на лице.
Тягостная пауза, хотя и продолжалась всего с минуту говорила сама себе: все ждали, когда – «беспартийный» уйдет. Тот понял и в чрезмерном рвении удалиться причинил себе ущерб: на выходе зацепился полным животом о гвоздь, торчавший в дверном косяке, и разорвал новенькую гимнастерку.
— Что ж, Надя, надежда наша, — дружески обратился седой майор к девушке. — Вижу, переволновалась не на шутку. Успокойся.
— Зато повзрослела, возмужала, — добавил старший лейтенант в пенсне.
— Заметно окрепла.
Майор продолжил:
— Мы тут немного разобрались в ваших делах. Наши товарищи с удовлетворением изучали характер, содержание, объем и качество работы медсестер, в том числе не прошли и мимо твоего участка.
У нас начали складываться определенные впечатления. Среди них на первом плане: в целом госпиталь, его комсомолия своей неутомимой я бы сказал титанической работой, способствуют спасению сотен и тысяч жизней советских воинов, возвращают их в строй. Однако есть и шероховатости. Хотелось бы знать и твое мнение. Расскажи, как жила, трудилась после того собрания, на котором впервые прозвучала критика проделок Пейсиной.
Наде трудно было вспоминать и заново переживать самые тяжелые дни в своей жизни. Когда ее речь прерывалась, майор приходил на помощь, сам уточнял некоторые подробности, называл фамилии, приводил факты. Оказалось, он знал многое, вплоть до специфических тонкостей медицинской работы.
Затем выступили все члены парткомиссии. У каждого из них нашлись теплые, отеческие слова, советы, пожелания. И журили, но без колкостей. Трогательная забота со стороны совсем незнакомых людей приятно удивила, обрадовала девушку до слез.
Обсуждение персонального дела Дубровиной логически подошло к концу. Председательствующий поднялся, шагнул из-за стола к Наде в готовности сделать вывод. Перед светом из окошка на лицах обоих рисовались мельчайшие черточки. Открытые глаза майора, вопреки стальному блеску, излучали тепло:
— Итак, Надя, мы вместе и разобрались с твоим горем. В госпитале кое-кто держался мнения, будто причиной всех неприятностей явилось твое выступление на собрании, что если бы ты не подняла руку и не взяла слово против Пейсиной, то, дескать, все было бы шито-крыто. На деле вышло не то. Оказывается, нельзя замалчивать о ненормальностях в работе, в поведении людей. Мы поддерживаем твой смелый голос. Ты, верно, также поступила, когда не отдала Пейсиной свой комсомольский билет. Партийная комиссия отменяет решение комсомольского собрания об исключении тебя из членов ВЛКСМ. Ты остаешься в комсомоле, — перевел он задумчивый взгляд поверх головы Нади и пониженным голосом заметил: — Моя дочь, наверное, проявила бы дисциплинированность — отдала бы свой билет. Воспитанные Партией и комсомолом, вы верите старшим, уважаете мнение других. В общем, это правильно. Но надо в каждом конкретном случае уметь разобраться в обстановке, и ты разобралась. У тебя есть характер, хотя кое-кто утверждает обратное, — майор по-отечески взглянул девушке в глаза:
— Молодец! Береги комсомольский билет, как зеницу ока! И еще один совет: разберись-ка в своих сердечных делах. Передаю мнение старшего лейтенанта, — он кивнул на офицера в пенсне: — Костя порядочный парень. Танкисты отзываются о нем, как о человеке дела и долга. Ну, а известная жесткость, неудовлетворенность собою — это особенности твердой натуры. Берегите свежесть своих первых юношеских чувств, овеянных романтическим Причерноморьем, запахом цвета акаций, дымом войны…
Надя уходила с парткомиссии, не чувствуя от радости земли под собою. На душе ощущала действие некоего целительного бальзама.
Группа майора продолжала трудиться в госпитале еще неделю.
За это время прошли комсомольское и партийное собрания. Комсоргом госпиталя стала Дубровина Надя.
Гости уехали. На второй день майор Гарам зашел к Наде в палатку. Беседовал с больными — такое случилось впервые, — одобрил меры медсестры по благоустройству, созданию уюта и в заключение наклонился к ее уху:
— Может, проводишь меня?
Во дворе остановился. Молчал. Нервно потер ладонями. Темная бочкообразная фигура уперлась о ствол сосны. Пытался закурить, но поминутно гасла спичка. Ночь была пасмурной. Надя видела холодное поблескивание очков и еле услыхала из темноты странное предисловие к разговору:
— Что ж, товарищ новый комсорг, теперь помогай руководству устранять недостатки. Ты слыхала от майора о сроках. Мало отведено времени. Если не справлюсь, выгонят… У тебя доброе сердце. Ты — опора и надежда. Комсомолия госпиталя — сила. Без нее нельзя… Верю, что на этот раз ты поможешь согнать с моей физиономии выражение мировой грусти…
Подбежал дежурный врач и доложил о поступлении новой большой, партии раненых.
Тогда Надя не успела ничего сказать майору. Впоследствии, разговаривая с ним по служебным делам, старалась делать вид, что забыла недавние неприятности. И все же во время таких встреч в ее груди ощущалось нечто, похожее на нытье застарелой, незаживающей раны. Зато встречи с ранеными, выздоравливающими в своих палатках и приятно волновали, и по-настоящему исцеляли ее.
Провожая артиллериста-здоровяка в часть, Надя расстрогалась до слез.
— Ну, милая сестричка, низкий тебе поклон от меня и от моей мамы за исцеление, за твой бесподобный бальзам. В долгу не останусь. До свидания!
Последние слова он произнес подчеркнуто, по слогам. «Неужели судьба еще сведет нас?..» — отразились на взгрустнувшем лице Нади и, радость, и испуг.
Двигатель зарокотал. Т-34 как бы присел в готовности к прыжку.
Старший лейтенант Самохин опустился на корточки. Поднял ладонь к глазам в виде козырька, всмотрелся в рельеф продолговатой ровной поляны, прощупывая на ней темные кочки, желтоватые песчаные бугорки, зеленые впадины; в дальнем кустарнике скорее угадывались, чем просматривались инженерные сооружения переднего края.
С озабоченным видом он поднялся во весь рост. Подал знак «Внимание!» Через мгновение решительно взмахнул флажками. Тридцатьчетверка рванулась с места.
Май 1943 года.
За кормой, из выхлопных труб зачастили струи отработанных газов, сопровождаемые мощным гулом. Заклубилось густо-серое облако, которое, казалось, уперлось в стену леса и с большой реактивной силой толкнуло 26-ти тонную гусеничную машину вперед. Она метеором вырвалась на простор. Скорость все возрастала. Курс — на толстую сосну, за которой смутно виднелась широкая канава и далее — блиндажи, траншеи.
Самохин с волнением наблюдал.
Смело и уверенно взял старт молодой механик-водитель. Хватит ли у него выдержки преодолеть с такой же ретивостью препятствия? Он знает, что в траншеях — новички. На них с грохотом надвигается стальная махина. Не испугаются ли новобранцы? Не вынырнут ли толпой под гусеницы? В таком деле недалеко до ЧП.
Расстояние до одинокого дерева быстро сокращалось. Башня танка начала поворачиваться кругом. Остановилась тогда, когда пушка, спаренная с пулеметом, вытянулась назад, в направлении пыльного хвоста. Вихрь, стремительно рассекавший поле, казалось, вот-вот готов взмыть ввысь.
Вдруг старшему лейтенанту показалось, что скорость танка падает. «Не уменьшай газ! Больше разгон. Приготовиться!»- чуть не вскрикнул Самохин. Еще минута и голова пыльного метеора коснулась сосны. Ее макушка сразу же резко качнулась, сучковатый ствол переломился в двух местах; нижняя, утолщенная часть с треском и грохотом подалась вперед и скрылась в дымном облаке. Ветви верхушки посыпались на башню, как от взрыва; самая крупная из них зацепилась за жалюзи и поволоклась сзади. Тотчас же башня стала возвращать оружие в первоначальное положение. Танковая пушка, как бы удлинив обтекаемый корпус машины, придала ей еще большую целеустремленность. От этого усилилось впечатление несокрушимой стремительности тридцатьчетверки, ее готовности неистово и грозно обрушиться на новое препятствие. Стреловидная голова бурого вихря брала все больший разгон. Самохин приподнялся на носках. Ему казалось, что в моменты преодоления воронок, ухабов — пушка слишком низко опускалась дульным срезом ствола к земле. «Как бы она не клюнула своим концом в почву», — переживал командир.
Приближалась канава. Опасность врезаться стволом танкового орудия в земляную насыпь на противоположной стороне рва все увеличивалась. Старший лейтенант кинулся было к рации –
Май 1943 года Войполе П.П. Зобнин.
хотел напомнить экипажу о необходимости придать оружию наибольший угол возвышения, но сдержался. Да и не успел бы. Танк на миг оторвался от земли и, подняв за кормой облако пыли, смешанной с отработанными газами, тотчас очутился на противоположной стороне канавы. Во время удара всей тяжестью о высокий земляной вал, тридцатьчетверка будто качнулась назад, но гусеницы цепко схватилисъ за грунт, вырвали из-под себя темно-бурые тучи пыли и вынесли многотонное стальное тело вперед. Только крупный обломок сосны свалился в черный провал канавы.
Самохин вспомнил первый день войны — прыжок БТ-7 через овраг под огнем противника. Невольно присел, съежился, словно хотел этим смягчить удары о внутреннюю броню, которые неизбежно испытывает в таких случаях экипаж. С облегчением вздохнул: «Проскочили, молодцы. Впрок пошел рассказ о прыжке БТ-7». Продолжал всматриваться в желтые линии траншей. Там — люди. На пути к ним стальной таран разметал в стороны бревна трех накатов блиндажа и продолжал мчаться по полю. Приближался нарастающий грохот, металлический лязг к свежее — насыпанному и немного замаскированному сетками брустверу. Случилось то, чего старший лейтенант больше всего боялся. Перед танком, в траншее замелькали каски. И сразу скорость упала. Видимо, механик-водитель заметил, что вправо и влево шарахались люди. У самого бруствера заскрежетали тормоза. Пыльный хвост деформировался, раздулся в головной части и в нем все потонуло. Только спустя минуты две-три, когда пыль немного рассеялась, стало видно, как Т-34 медленно перевалил через эскарпированную насыпь и продолжал углубляться в оборону «противника».
— Не выдержала пехота. Разбежалась, — досадливо хлопнул Троян ладонью по клапану своей полевой сумки.
— И механик-водитель спасовал, испугался, что под гусеницы могут попасть молодые бойцы, — с сердцем добавил Самохин и обернулся к очередному экипажу, который на исходной ждал команды «Вперед»!
— Подойдем, на месте выясним, — предложил Гридин. Они направились к переднему краю.
— Вчера, во время встречи молодого пополнения с танкистами, казалось, зарождался высокий дух боевого содружества, а сегодня, оказывается, грозный шум над учебными окопами все и
22.04.1943 года.
расстроил. Что ж, необстрелянных бойцов надо понимать — на них впервые в жизни накатывала такая страшная сила, — начал лояльным тоном объяснять неудачу Троян.
— Неважно, что впервые, — возразил Гридин. — Важно сейчас научить, чтоб в бою человек уверенно сделал свой единственно правильный шаг, так как этот шаг, может статься, будет первым и последним в его жизни. Отсюда — важность моральной подготовки новобранцев к такому шагу.
Из траншеи слышался крупный разговор:
— Вон идут к нам танкисты. Стыдно им в глаза смотреть. Убежать от своего танка — позор! Что вы запоете, когда фашистские чудища попрут? — горячился командир роты.
— Ну и чего бы это я шарахался от красавицы -тридцатьчетверки? — ощупывал Троян руками неглубокие следы гусениц на бруствере и незначительные обвалы песчаной почвы под ними со стенок траншеи.
— Так сдуру не мудрено угодить и под стальные шпоры. А какой смысл погибать без толку? Не хочется повторять вчерашний разговор. Вспомните одно: обкатка поможет каждому новичку выработать стойкость перед лицом возможной вражеской танковой контратаки, и выдержку во время обгона бойцов в окопах своими танками.
— Почему все-таки кое-кто струсил? Каково ваше мнение, товарищ красноармеец? — обратился Гридин к рослому бойцу в новом обмундировании, выпачканном глиной.
— Мы не больно из трусливых, — начал боец тоном уязвленногодостоинства. Замялся и продолжил оправдательно: — Здесь, на учебе, пришлось малость посторониться. Просто не хотели, чтоб из танка бревном угораздило по кумполу. Вон, сколько он наворочал дров! И в пути ронял из себя целые деревья. В бою мы не испужаемся.
— А какого здоровенного дуба раскрошил! — добавил второй.
— Затем без передыху разворотил крепость-блиндаж. Силища! Очутись под ним… Лучше со стороны полюбопытствовать.
Троян ковырнул носком сапога танковый след на краю окопа:
— В бою «стороны» не будет. Боец должен уметь действовать и на танке и под ним. Взгляните, много ли причинено вреда вашей траншее?
Бойцы ощупывали земляные стенки.
— Верхний слой почвы немного содран.
— С большого грому всего лишь две жмени песочку сыпанулось бы за ворот.
— Потому, что он на тихом ходу переползал.
— Толкуешь. Если бы смаху взял траншею, то и вовсе не осыпалась бы земля.
— Понятно, одну страсть навел грохотом да треском.
В конце дня Гридин и Троян возвращались с танкодрома в лагерь.
— Пока ты, Петро, после карбусельской карусели лечился в госпитале, у меня тут возникла одна думка, — начал, было, Гридин издалека и, подумав, произнес скороговоркой:
— Сегодняшнее занятие лишний раз подсказало, что надо использовать перерыв между боями для воспитания у воинов стойкости, выдержки, воли в бою. Волевой механик-водитель не растерялся бы перед траншеей, не дергал бы зря машину. И мотострелки, кроме всего прочего, показали свое безволие, когда разбежались кто куда. Уже одно ожидание танкового грохота над головой обострило у них танко боязнь. Надо глубоко, если хочешь, теоретически разъяснить…
— Не думаю, Костя, что фронт — подходящее место для разъяснения каких-то теорий. Тут дело простое и ясное: и танкист, и пехотинец должны набраться терпения и стойко переносить все тяготы фронтовой жизни.
— А я считаю, что надо помочь каждому человеку уяснить, понять, что на поле боя действуют железная воля советского воина и тупое упрямство фашиста, и всегда решается вопрос — что осилит? Помимо того, в человеке противодействуют две воли: воля к победе и стремление или инстинкт самосохранения. Отсюда каждый должен сознательно принудить себя совершить действия, которые обеспечили бы победу одной воли над другой.
Эти умные мысли появились у тебя, Костя, на новом поприще помощника начальника политотдела по комсомольской работе? — усмехнулся Троян.
— Нет. Меня надоумила…
— … Сегодняшняя обкатка. Так ты хотел сказать, Костя?
Июнь 1943 года деревня Сирокаска П.П. Зобнин
— И, да и нет. Больше всего, если начистоту, меня надоумила Надя, хотя после всего пережитого ею мы с ней встречались накоротке. Да, да, Петро, поучительны и ее личная драма, и примеры поведения безногого и безрукого бойца, обгорелого летчика, артиллериста, интенданта…
— Костя, ты неисправимо бессердечный, бесчувственный сухарь и деляга, — остановился Троян, схватил друга детства за плечи и потряс изо всей силы.
— Даже мое терпение лопает… Как тебе не стыдно вспоминать о такой чудо — девушке, как Надя, только в связи с обкаткой? Почему ты вчера не составил мне компанию в госпиталь? Раненых теперь в ее палатках — единицы. Такая была бы встреча!
— Хватит, Петро, тормошить меня,- шутливо отбивался Гридин. Я встречался с пополнением из маршевой роты.
— Давай сядем вон на тех бревнах и спокойно потолкуем.
— Тебя надо по-настоящему измолотить, — отпустил его Троян и первый сел на березовый кругляк. — И надо же так очерстветь, чтоб быть рядом с девушкой своей мечты и не найти полчаса, чтобы поинтересоваться ее состоянием после таких передряг. Не задумал ли ты новые, еще более драконовские испытания чувств, чем прежде?
— Наша дружба с Надей особая — без сюсюканья, и без оригинальничанья.
— Не заостряй, Петро… И не уводи в сторону от главного, — начал Гридин чертить березовым прутиком на песке ромб — условное обозначение танка.
— Я не сельский парубок-бездельник, чтоб ходить к Наде на посиделки да еще с пустыми руками. Намечалось было дать о себе знать с передового танкового экипажа. Не вышло.
Теперь возникла новая идея. Скоро вместе сходим к Наде с черновыми набросками доклада о воспитании силы воли. Ты вникни, как это важно. Даже Надя со своим, казалось бы, твердым характером, не смогла различить, в чем проявляется сильная воля, а в чем слабоволие. В связи с ее сновидением, перефразирую пословицу: что сонному грезится, то бодрствующему думается.
— Ты, любишь противопоставлять… Мне нравятся сны. Поэтизирую их. Правда, бывает, приснится такое, что ни в какие ворота не лезет.
— Последнее верно. Давай наяву обмозгуем положение о том, что на поле боя действуют, взаимодействуют, противодействуют воли: моя и моих товарищей, командования, противника и его подчиненных, а также в каждом из нас — осознанная и неосознанная…
— Боюсь, что эти твои сухие размышления фронтовиков не особенно заинтересуют.
— Ошибаешься. Вот послушай, как логически просто и убедительно звучит вот такая формулировка …
Он достал из сумки блокнот; полистав, нашел нужную запись: Для волевых процессов характерны: 1) Большая степень сознательности, 2) переживание чувства усилия и 3) предварительное внутреннее построение будущего поведения, с субъективной стороны — «решение».
— Я — то улавливаю существо дела… Однако считаю, что из этих качеств переживания волевых процессов может возникнуть и ложное представление о «свободной воле». Возможны отклонения и в другие крайности. Имею в виду отсутствие свободы воли — пример буриданова осла. Помнишь, рассуждения схоластика 14 века Буридана: осел, поставленный между двумя одинаковыми связками сена должен умереть с голоду, не будучи в силах выбрать одну из них… Не представляю, как с такой мудреной наукой выйти к людям?
— В философские дебри не залезать. Разъяснять молодежи на доходчивых жизненных примерах существо волевых актов.
Друзья вспомнили начало войны. Перед мысленным взором встали бесконечно дорогие образы: первый командир лейтенант Яровой /невысокий ростом, мускулистый/, который олицетворял сгусток железной воли; стройный, обаятельный и доступный политрук Зорин; спокойный, по-отцовски рассудительный полковой комиссар Дорофеин — одним своим внушительным видом вселял в людей непреклонность, уверенность.
Они отличались внешностью, манерами поведения, подходом к людям, но, как я теперь окончательно понял, обладали одним общим качеством: твердым воинским характером, стальной волей, — как бы впервые сделал для себя открытие Гридин.
— Да, и с этими качествами они навсегда ушли от нас.
Октябрь 1943 года Малая Винора.
— Нет, оставили частичку себя в каждом танкисте. И сейчас замечаю, что многие сослуживцы повторяют их. Но этого мало. Стихийность следует дополнить организованностью.
— Костя, а что, если бойцы засыпят каверзными вопросами?
— Не торопиться. Предоставить возможность желающим ответить.
— Например, как следует истолковывать, проявил ли я силу воли или совершил преступление, когда всеми правдами и неправдами старался вернуться из госпиталя в свою танковую бригаду?
— Да, — почесал Гридин свой угловатый подбородок.- Я бы полагал, что в данном случае сказался дух товарищества, точнее проявлено то, что у нас называют местным патриотизмом, привязанностью к родной танковой семье. Ты стремился к своим боевым товарищам. Наверное, безвольный человек не смог бы преодолеть все преграды на пути из госпиталя к фронту.
— А не чистым произволом тут пахнет? Своеволие может показать по-разному: дай человеку волю, он все перевернет; или — дай боли волю, полежишь да и умрешь /рассказы Нади о поведении различных раненых/. И еще — волокиство Мотылькова: дай душе волю, захочет и боле. Недаром говорят: не умом грешат, а волей… Вон, сколько тут может быть оттенков.
— Считаю, что нужны и ум, и воля, — нарисовал Гридин впереди ромба остро направленную стрелу. — Первое уже дано человеку природой, а второе наживное, за него надо взяться и внедрять. Начнем, Петро, с твоего батальона. Готовь к середине следующей недели комсомольское собрание.
— Почему так спешно?
— Потому, что мы на фронте, — изобразил Гридин прутиком на песке «контратаку противника» во фланг ромбу со стрелой. — Сегодня затишье, а завтра — бой.
— За такое короткое время я не смогу составить популярного, доходчивого доклада, — ерошил Троян замасленной пятерней свои русые волосы, сдвинув на затылок танкошлем.
— И не надо. Эту работу беру на себя. Учти, что для собрания с такой своеобразной повесткой дня не столько важно содержание доклада, сколько предварительная подготовка людей. Неподготовленная аудитория прослушает доклад, как занимательную лекцию, задаст вопросы и на этом все закончится. Поэтому,
с завтрашнего дня приступай к проведению бесед о жизни и деятельности выдающихся представителей большевистской партии, о подвигах Матросова, Космодемьянской, Чайкиной, о жизни и борьбе Островского… В каждом экипаже готовь собрание по существу, — и Гридин решительно встал, поправил пистолет на боку, затянул ремень. Он казался стройнее и выше своего земляка. На самом деле, оба среднего роста, издали — типичные танкисты-коротыши. Вблизи Троян отличался от своего сухощавого товарища некоторой округлостью форм и черт, более плавными и неторопливыми движениями.
— Выходит, Костя, плохо иметь друга среди начальства.
— Почему? Старый друг лучше новых двух — твоя поговорка. По-дружески полдела снимаю с тебя. Уверен, что ты не провалишь важное собрание. Приду не один — прихвачу с собою комсоргов из других подразделений бригады. Они используют твой опыт для подготовки и проведения у себя таких же собраний. Надеюсь, Петро, что ты — комсорг передового танкового батальона — задашь хороший тон в этом деле.
— Что я могу возразить? — заморгал Троян — своими васильковыми глазами. — Придется согласиться с ролью подопытного кролика.
В прифронтовом лагере танкистов перемежались: слова — дела — слова…
Гул моторов, стрельба из пушек, пулеметов выделялись на фоне отдаленной канонады, доносившейся с передовой.
К вечеру люди собрались на исходной позиции, под кронами ветвистых вековых сосен. Разместились кто где: на бревнах, ящиках и просто на земле, усеянной хвойными иглами, сквозь которые пробивалась молодая трава.
Пыльные комбинезоны — новые, с иголочки, немного поношенные, и старые, замасленные. Ребристые танкошлемы — от слежалых на складе, с острыми складками до зимних, подбитых мехом, с подпалинами.
Лица… Дубленые январскими морозами и весенними ветрами; смуглые, запачканные машинным маслом, со шрамами; с усами—признаками солидного возраста или щеголеватости совсем юные, со светлым пушком над верхней губой. Все прямо с занятий — в боевом снаряжении, с оружием. Гридин встал из-за нагромождения — снарядных ящиков, за которыми, как за столом, размещался президиум собрания. Достал из планшетки большой блокнот. Полистав, нашел нужную страницу, исписанную чернилами, исчерканную цветными карандашами. На мгновение вгляделся в первый абзац, оттененный красной вертикальной линией. Обвел соображающим взглядом танкистов, разместившихся в виде подковы. Встретился с десятками пар пытливых глаз. В голове тревога: «Как ты дерзнул выступить по вопросу, существо которого едва постиг только прошлой ночью?» И тут же — успокоение: «Ничего страшного. Не зря ты до утра корректировал свои записки под диктовку полкового комиссара Кузнецова. Фронтовая обстановка, интересы повышения боеспособности воинов требуют проявить волю«.
«Мямля. Раздваиваюсь. Опять: «Жили два друга… Один говорил «Да», другой — «Нет!»… Эта поперечная» песенка набила оскомину. Жми напрямую!» — приструнил он себя и начал:
— Воля, характер человека или нрав, нравственные свойства его души и сердца получают свое выражение в сознательных действиях и поступках, направленных на достижение поставленных целей, и связанных с преодолением внешних и внутренних препятствий на пути к этим целям …
В его ушах звучали, как ему показалось, необычные, слишком академические формулировки. Слушатели на удивление притихли.
«Остановись, — притормозил себя. — Хватит теории. Не злоупотребляй терпением дисциплинированной аудитории. Называй основные положения темы, иллюстрируй их фактами из боевой жизни».
И Гридин стал рассказывать о волевых качествах советского воина. Спрятал блокнот. Щелкнул кнопками планшетки и заговорил отрывисто, с подъемом:
— Решительность. Знакомое слово. А вот, как в боевой обстановке раскрывают его сущность комсомольцы, старые и молодые? … Командир экипажа старший лейтенант Самохин! прорвался на Т-34 в оборону противника. В жарком бою разрушил
четыре вражеских дзота, уничтожил фашистский танк и расстрелял более полусотни гитлеровцев. Закрепить захваченный рубеж должны были советские пехотинцы, но они этого не сделали — прижатые вражеским огнем к земле, отстали. Старший лейтенант решил небольшим маневром на поле боя соединиться со стрелковыми подразделениями.
Враг разгадал тактический замысел советского танкиста и вмешался массированным огнем. Тяжелый снаряд перебил левую гусеницу тридцатьчетверки.
— Механик-водитель и радист-пулеметчик, устранить повреждение, — приказал командир.
Вокруг танка бушевал огненный вихрь, зловеще рикошетировали от брони осколки. Танковая пушка и ДТ то и дело заглушали своими ударами грохот разрывов вражеских мин и снарядов. Это старший лейтенант Самохин и заряжающий огнем прикрывали своих товарищей, занятых ремонтом.
Когда поврежденные траки были заменены и танк выбрался из зоны обстрела, механик-водитель с облегчением отпустил рычаги:
— Фу ты, ну ты! Если можно представить себе ад, то мы только что в нем побывали. Мало того, что житья не давали вражеские осколки и пули, над головой бухала своя пушка, и стрекотал ДТ. Слова нельзя было вымолвить. Объяснялись друг с другом мимикой, жестами как глухонемые.
Он недавно прибыл на фронт из глубокого тыла, где обкатывал новые танки.
— Все же для полной картины ада не хватало пламени и пляски в нем чертей, — пытался в унисон шутить второй новичок, радист.
— Перестаньте каркать, пустомели, — оборвал ветеран, заряжающий. Через минуту в перископе командира показалась вражеская пешая колонна. И машина ринулась против нее.
— Вот вам и фашистские черти, — начал командир экипажа, шутя, и закончил строго: — Они направляются против нашей пехоты. Дави их гусеницами, расстреливай из пулеметов! Танк после успешного маневра и выполнения задачи двинулся к своим на соединение. И тут, словно до иронии судьбы, в наушниках шлемофонов прозвучало:
— Огонь!
Нет, это была не команда. Заряжающий показывал на открытый тыльный лючок, из которого пробивалось в башню пламя.
Т-34 загорелся. Остановился. Экипаж выскочил наружу и — в укрытие. Через минуту командир сориентировался и принял решение:
— За мной! Потушить пожар!
Сам первый бросился к пылавшему топливному баку. За ним — остальные члены экипажа. Тяжелая схватка с огнем закончилась победой танкистов.
Подоспела наша пехота. Экипаж Т-34 продолжал громить врага. Вот как много значит решительность в бою.
Гридин замолчал на несколько секунд. Открыл планшетку. Полистал записи. Прошелся взглядом по головам танкистов, кучно сидевших на каких-то возвышениях, и задержался на сержанте с прутиком узловатой антенны в руках.
— Настойчивость, — как бы прочел докладчик на сосредоточенном лице сержанта. — О ней красноречиво говорит запись радиограмм, которые передавал из вражеского расположения командир тяжелого танка старший лейтенант Павел Бачилов. Их тщательно занес в тетрадку сержант Петр Троян — вон сидит на снарядном ящике. Вы видите в моих руках этот документ, — потряс Гридин в воздухе книжечкой в синем переплете. — Послушайте. Первое радиосообщение: «Продолжаем наступать. Все в порядке. Состояние экипажа бодрое». Через 45 минут — второе: «Веду бой. Справа три ПТО — термитки». Два часа — молчание. Танкистам не до разговоров — они дрались в это время. Наконец краткое известие: «Испорчена гусеница, поврежден поворот башни. Дорога и кюветы завалены трупами фашистов. Это дело наших рук». И снова эфир пуст. А потом радиограмма: «Стоим на месте. Не отступим с достигнутого рубежа. Если есть возможность, окажите помощь». Ответ «Помощь идет» окрылил экипаж. Радист-пулеметчик передает: «Держимся. Косим арийцев из пулеметов». Записаны слова командира экипажа, сказанные радисту: «Передай так: умрем, но не отойдем».
Отчаянные попытки врага взять экипаж с танком тщетны.
Переждав, пока вокруг Трояна стихло оживление, Гридин подчеркнуто произнес:
Декабрь 1943 года Левый берег Волхова
— Выдержка. Стойкость. — И в быстром темпе: — Экипаж старшего лейтенанта Бачилова сражался в осажденном танке до последнего. Пулеметные диски опустели. Патроны — только в наганах. А враги все ползут и ползут. Стало темнеть…
— Трудно, но мы из револьверов душу у фашистов берем, — вспоминает, младший механик-водитель славного экипажа КВ. — Одна контратака за другой, и уже мало патронов в наганах…
Командир орудия тяжелого танка Лопата предложил:
— Споем, други, Интернационал, может, в последний раз… старший лейтенант прервал:
— Рано еще, ребята, запевать. В последнюю минуту запоем, а сейчас надо драться.
И они бились. С наганами против сотен до зубов вооруженных гитлеровцев, и сражались.
К осажденным подошли два тяжелых танка противника. KB запылал. Командир приказал экипажу покинуть машину. Сам решил уйти последним. Трое выскочили наружу и отползли в воронку. Оглянулись. Из люков KB вырывались клубы дыма и огня. Павел Бачилов и Андрей Лопата погибли.
«Навсегда остались в наших сердцах старший лейтенант Бачилов и сержант Лопата. Они с нами и сейчас идут в атаку», — сказал Троян, — на исходной, перед новым броском на врага.
Гридин несколько раз переступил с ноги на ногу, кивнул кому-то из представителей мотострелкового батальона, приглашенных на собрание и — чеканно, отрывисто:
— Инициатива. Самостоятельность.
… Когда танки прорвали вражескую оборону и начали крошить огнем и гусеницами врага, мотострелковая рота потеряла в бою своего командира. Наступила минута замешательства. Фашисты воспользовались ею и попытались сильным огнем отсечь пехоту от танков. Тогда красноармеец Чернигин принял команду на себя.
— Вперед, за мной, в атаку! — воскликнул он.
Бойцы дружно поднялись. Совместным ударом с танкистами они разгромили противника. Впоследствии Чернигин организовал оборону захваченного рубежа и отражение вражеских контратак.
Докладчик вновь обратился к своему блокноту. Полистал и произнес как бы оправдываясь:
Апрель 1944 года Порхов.
— Назову самое существенное качество советского воина. Хотя оно значиться здесь, у меня, предпоследним, но по своему значению должно быть первым. Это — самоотверженность, способность к самопожертвованию. Для иллюстрации приведу примеры…
… Взвод танкодесантников комсомольца лейтенанта Василия Маркова сошел с боевых машин в момент начала боя за первую вражескую траншею. Тридцатьчетверки двинулись на огневые позиции гитлеровских пушек. Мотострелки очищали от противника окопы. Трудно было находить замаскированные норы в запутанном лабиринте различных ходов. Во время боя на перекрестке двух траншей лейтенант получил ранение в правое плечо. Он упал.
— Командира убило! — крикнул кто-то.
— Нет, вперед! — ответил Марков. Поднялся и продолжал руководить боем.
В разгар жарких схваток лейтенант нашел в себе силы метать гранаты по входам в блиндажи, по амбразурам огневых точек.
Позади остались уничтоженные минометная батарея, несколько пулеметов, блиндажей, десятки врагов. Раненый лейтенант Марков во главе взвода преследовал противника, застиг врасплох фашистский обоз. Смелой атакой перебил гитлеровскую охрану и захватил много боеприпасов и военного имущества.
Лейтенант отдал себя в руки санитаров только тогда, когда полностью выполнил боевую задачу.
… Танковый экипаж, в составе которого действовал радист-пулеметчик комсомолец старшина Сема, прорвался на Т-34 за передний край обороны противника. Танк оказался подбит и окружен фашистами. Из состава экипажа только Сема сохранил боеспособность — остальные вышли из строя. И старшина принял решение: вызвать по рации на себя огонь советской артиллерии. Через несколько минут на головы врагов полетели снаряды. Сема корректировал стрельбу до тех пор, пока не была ликвидирована опасность захвата врагом поврежденной машины.
Всем известны подвиги старшего политрука Заботина, капитана Кирьякова, старшего лейтенанта Самохина, сержантов Моторного, Чапурина…
Апрель 1944 года Сирокаска.
В блокноте комсомольца Моторного записаны слова Николая Островского: «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе — вот девиз советской молодежи…»
Гридин спрятал свои записи. Отошел к президиуму собрания. После паузы в заключение сказал:
— Последний пункт моего доклада. Он тоже по своему значению просится на первое место. Но так, как всего не скажешь в первом пункте, то в конце хочу особо выделить известное всем понятие, чтоб оно лучше отложилось в памяти. Это — дисциплина. Без нее, как без воздуха, воин не может жить.
Твердым, волевым характером обладает обычно дисциплинированный человек. Нерадивый, слабый духом тяготится требованиями дисциплины. Вспоминается высказывание Михаила Васильевича Фрунзе о том, что воинская дисциплина является тяжелым бременем лишь для того, кто не понимает ее целей и значения. Следовательно, нельзя воспитать в себе воинский характер, не усвоив значения дисциплины, не став дисциплинированным воином.
Твердая воля советского человека — это воля к победе. Она вырастает из любви к Родине и ненависти к врагу. Воспитание воли — есть воспитание патриотизма, преданности великому делу Коммунистической партии.
Таковы основные мысли, развитые политруком Гридиным в докладе «О воспитании воли, воинского характера».
Докладчику поступило много вопросов. Он записал их. Обещав ответить в заключительном слове, попросил также желающих во время обсуждения повестки дня высказать свои мнения.
Начались прения. Первым взял слово Троян.
— Кому, как не нам заниматься воспитанием и самовоспитанием? Из литературы, опыта старших известно, что, обычно, люди в нашем возрасте выковывают в себе твердый, непреклонный характер. Посмотрим критически на себя, на своих товарищей. Мы встретим хорошие и дурные примеры. Вот сержант Аглушевич. Мечтал стать геологом-исследователем. Но война внесла свои поправки. Кто теперь не знает разведчика Аглушевича? О его вылазках в тыл врага гремят газеты. Под стать ему и напарник — Терновой. Рвался в летчики, но не прошел медицинскую комиссию. Переборол себя. И стал не хуже «ястреба» выхватывать из гущи фашистов нужных «языков». О таких людях говорил
в свое время генерал Драгомиров, что главнейшим их качеством «является воля, развитая и укрепленная при достаточном уме».
Далее, Троян, раскрывая особенности морального облика молодого воина, критиковал случаи безнравственности. Он говорил, что если ты допускаешь в своих сокровенных, сердечных делах отступления от моральных норм, если ты не в силах удержаться на нравственной высоте человека, то сомнительно, способен ли ты в критическую минуту боя сделать правильный выбор между инстинктом самосохранения и долгом, хватит ли у тебя душевного благородства отдать жизнь, скажем за командира, за друга, за коллектив, за ту же девушку-санинструктора, которой ты на досуге изливал душу и которая еле поспевает с салазками в атаке за твоим танком?.. Есть воля и своеволие. Люди издавна видят разницу между этими словами. И предпочитают осознанные, морально оправданные поступки. Не зря говорят: дай уму волю, он и две возьмет. Еще пример своеволия. Это пристрастие к зеленому змию. Считаю, что в этом случае человек проявляет полное безволие. Мой старый однокашник Федот Чапурин, механик-водитель, когда захотел, освободился от дурной привычки туманить мозги спиртным. Думаю, что каждый из нас может повседневно тренировать, закалять свою волю, как в малом, так и в большом, в быту и в бою. Главное — на каждое хотение надо иметь терпение… — Троян чуть было не взобрался на любимого конька/всему голова терпение/, но, встретив осуждающий взгляд Гридина, «закруглил» выступление так, как хотел друг детства, /«Воля — свой бог»/.
— Сама обстановка, дружный боевой коллектив помогают нам воспитывать волю, — сказал Моторный. — Я не подружился бы так крепко с техникой, если бы не видел примера в бою сослуживцев — Самохина, Гридина, Трояна…
— Мы еще покажем фрицу свой характер, — погрозил кулаком на запад разведчик рядовой Терновой. — Иначе нельзя. Дай фашисту волю — живьем проглотит. Мы сейчас настроены так: не отдашь захваченное волей, отберем неволей.
— Правильно. Чтоб полностью снять блокаду с города Ленина, нам следует прорваться туда, на волю, — показал рукой на багровое зарево заката сержант Аглушевич. — В логове врага мы продиктуем ему свою волю.
— Иначе и быть не может, — согласился старший лейтенант Самохин, коммунист. — Но в дни передышки, чур, не спать!
Вспомните старое суворовское правило: «Приучайся к неутомимой деятельности, будь терпелив в военных трудах…» Прав Троян… — Зная давний спор земляков /Троян на первый план, выдвигал терпение, а Гридин – волю/ он добавил: — Его слова не противоречат основным положениям доклада… В заключение хочу напомнить командирам-комсомольцам, да и всему собранию, слова Энгельса о том, что «воля — … не что иное, как способность принимать решения со знанием дела».
— С приездом и отъездом.
— Опять антонимы. Шутишь?
— Нет, всерьез уезжаю. По реорганизации. А ты зачем приехал?
— Говорят, попался на глаза. Еще раз убеждаюсь, что все на свете случай, случайность. Наверное, получу какое-то задание. — И куда тебя?
— С политической на командную.
— В самом деле? Значит, сбылась мечта. Помог немаловажный случай — приказ сверху о переводе части политработников на командные должности. Надеюсь, ты рад.
— Было бы «да», если бы не маленькое «но». Хотел остаться в бригаде, а меня откомандировывают в резерв фронта.
— Полковой комиссар Кузнецов тебя не отправил бы.
— Да, отъезд Александра Логиновича переживаю больше, чем свой. После проводов брожу, как очумелый. Ночь не спал.
— Это было заметно на вчерашнем семинаре, где ты показал свой характер. Давай, Костя, потолкуем, перед дорогой, сидя, — шагнул Троян к жердевой завалинке под окнами бревенчатой избы.
Он выбрал место поближе к двери. Гридин, прежде чем сесть уперся ногой об угол деревянного выступа у стенки дома, нажал — гнилой материал затрещал, из щелей посыпалась труха. С сердцем махнул рукой.
— Чем на гнилье садиться, лучше постоим. Итак, Петро, я еще раз продумал дискуссию на семинаре и все-таки не разделяю идею ключа. И ты меня не убеждай.
Троян поднял с земли широкий отпилок доски, стряхнул с нее пыль, положил на трухлявые жерди.
— Садись, Костя, не горячись. И не ударяйся в крайности. Оба сели.
Гридин не унимался, нервно выстукивая каблуками о дерево.
— Я не понял нового начальника и до сих пор не могу понять. Что значит вырабатывать в себе умение подбирать ключи к сердцу человека? Ведь человек — это чудо природы. Грек Протагор еще 24 века назад сказал: «Человек есть мера всех вещей».
— Этот афоризм и поныне толкуют по-разному. И не забывай, Костя, что Александр Логинович требовал от командиров и политработников индивидуально подходить к людям, не мерять всех на один аршин. Его преемник, полковник Катков, утвержадет то же самое.
— Сглаживаешь, Петро, острые углы — впрочем, как всегда. Полковник в категорической форме требует: иметь ключ к каждому подчиненному. Предо мною сразу встал образ нашего отца Кузнецова. Вспомни, разве полковой комиссар подстраивался к кому-либо, лез в душу, открывал ее какими-то тайными ключами?
— Были бы все мы были такими, как Александр Логинович, то никто бы и не запирал свою душу. Люди льнули к Кузнецову как-то инстинктивно, поворачивались к нему, как подсолнухи к солнцу. И он видел в каждом человека, знал, у кого какой сапог жмет.
— И заботился о подчиненных. Но не брался переворачивать нерадивому бойцу портянки, а Катков почти этого требует. Александр Логинович всегда и везде оставался самим собою, был простым, обаятельным человеком. Силою своего примера, влияния выковывал даже из слабых — сильных, волевых.
— Этому учит и новый полковник.
— Не учит, а поучает. Все эти контрасты привели меня к тому, что я вспылил: мол, на фронте некогда подбирать ключей к каждому, не смогу стать этаким универсальным слесарем-взломщиком.
— А ты слыхал, какую реплику тогда бросил лейтенант Заборов?
— Нет. Вот его слова: «Гридин не нуждается в ключах. Он и без них пройдет туда, куда надо. Люди перед ним не замыкаются».
Под боком скрипнула дверь. Показалась лысеющая голова инструктора политического отдела бригады лейтенанта Фатеева.
— Заходите, землячки.
Троян вскочил с завалинки. Принялся отряхивать, заправлять гимнастерку. Гридин нервно дернулся и продолжал сидеть. Фатеев торопил приглашающими жестами:
— Оба. Быстрее. Не крути головой, Костя. Ты еще наш. Выписка из приказа об откомандировании — в сейфе политотдела, а не в твоем кармане.
— Все решено. Полковник Катков объявил мне… Документы велел получить у Заборова, — произнес Гридин тоном, каким сообщают о свершившемся неприятном факте. Резко поднялся, выпрямился.
— Не бери так круто, Костя. Еще не все. Ты свою должность никому не передал, — и Фатеев перевел сверкающий взгляд на Трояна.
— В самом деле? Петро — вместо меня? — обрадовался Гридин. Инструктор политотдела поторопился замять разговор.
— Узнаем после встречи полковника с Трояном. Проходите. В тесных, темных сенях под ногами заскрипели половицы. Кто-то нащупал дверную ручку. Осветился квадратный проем. Они вошли в небольшую, полутемную комнату.
На первом плане, за столом вырос высокий, плоскогрудый лейтенант Заборов, инструктор политотдела по информации.
— Пока Петра там «сосватают», — он показал глазами на обитую парусиной дверь — кабинет заместителя командира танковой бригады по политчасти — начальника политотдела полковника Каткова, — подойди ко мне, Костя, распишись в получении документов.
Троян постучал в дверь. Получив разрешение войти, скрылся за ней.
У лейтенанта Заборова был такой вид и говорил он таким тоном будто там, за начальнической дверью, происходили какие-
29.10.1943 года Сидоренко А.И.
то второстепенные события, необходимые только для соблюдения простых формальностей, а главное совершалось за его столом. Не без удовольствия осмотрев свое канцелярское хозяйство, протер чистой тряпочкой крышку пишущей машинки, хотя в этом не было никакой надобности, еле упросил Гридина сесть на табуретку с подушечкой. Сам, стоя, согнувшись дугою, интригующе, но по-домашнему заговорил:
— Ну-ка, старый разведчик, определи, чем у нас пахнет?
— Должно быть, клеем, пишущей лентой, бумажной пылью, мышами.
— Удивительно — и наш пропагандист Алексей Исаевич такого примитивного мнения.
За столиком, возле массивного сейфа, хитровато улыбнулся Фатеев.
— Костя, Заборов хочет с твоей помощью скрыть новую проделку.
— Дагадываюсь — он не поделился с вами чернилами к трофейным авторучкам?
— Маловато для кадрового разведчика, — трунил лейтенант, раскладывая бумаги перед Гридиным.
— Вот тут распишись. Еще раз здесь. Аккуратнее, не так размашисто… Теперь открываю свои «проделки».
Заборов прислушался к двери, обитой парусиной, и продолжил: — Судя по наставительному тону начальника, Троян сейчас выйдет в новой роли. Надо поторопиться. Дело вот в чем… Вчера мне стало известно, что сегодня ты, Костя, уезжаешь, и на твое место проектируется Троян. И мне захотелось преподнести вам сюрприз. Вспомнил, что в это время у нас, на Смоленщине, уже появляются первые грибы. Взял у тети Дуси — соседки — лукошко и пошел в лес.
Ходил до темна. Собрал 50 штук первачков — по десять штук на брата /экипаж КВ/. Сознаюсь: скрылся в клети от вездесущего Сергея Васильевича, — он кивнул на Фатеева, — где разобрал и почистил свое богатство. О, какое это приятное занятие!
— Представляю, — вставил тоном юмора Фатеев. — Твоя слабость, фанатик. Наверняка над каждой сыроежкой священнодействовал. Как вижу: брал грибок двумя своими тонкими пальчиками за ножку, рассматривал перед пучком света у
маленького окошечка, нюхал и вслух восхищался бесподобным ароматом, то бишь лесной гнилью.
— Не перебивай, Сергей Васильевич, — продолжал Заборов. — Вспомнилась моя милая бабушка. Правда, она утверждала, что в доме, где появляются грибы, пахнет бедностью. И в моей голове стукнуло: и мы беднеем — уезжает Костя, убыл наш дорогой отец Александр Логинович. Чур, молчок об этом, — и он приложил к губам два пальца. — Да, с такими мыслями я приводил в порядок лесные дары… Глаз не оторвать… Этакая кругленькая, выпуклая шляпка на утолщенной ножке… Идиллия! Конечно, тебе, Костя, южанину, трудно понять…
— Я уже наполовину загипнотизирован, — заморгал глазами Гридин.
— Допустим. Далее, значит. Сегодня утром, втайне от Сергея Васильевича — дело облегчалось тем, что полковник отправил его куда-то с заданием — я, здесь, у себя на столе, подобрал и сложил в лукошко в нужных пропорциях лавровый лист, лук, картошку, масло… все, что требуется для приготовления грибного блюда. Полуфабрикаты снес на кухню, к тете Дусе. И что ты думаешь? Как только Сергей Васильевич переступил порог нашей комнаты, сразу — нюх, нюх и объявляет: «О, сегодня грибками разговеемся«. Ну, что ты скажешь? Какое феноменальное обоняние у человека! Как я ни старался спрятаться от него, проныры, и поразить всех новиной, ничего не вышло. Не успели вы появиться во дворе, как он выбежал навстречу с новостью.
— Не с этой, — охладил Гридин лейтенанта, учтя мимику Фатеева.
— Ну вот, раньше времени и разболтал свою тайну. Все из-за мнительности. Тащи быстрее расхваленный деликатес, — не терпелось Фатееву. — В окне, на подходе вижу Алексея Исаевича. И Троян сейчас откроет дверь.
Грибная трапеза, однако, не состоялась.
Началось с того, что пришел политотдельский шофер — он же и ординарец — и объявил, что кухня тети Дуси на замке. Лейтенант Заборов не поверил, словно угорелый, кинулся лично проверить, как готовятся грибы. Через десять минут вернулся с поникшей головой.
Июнь 1944 года Каромышево Латвия.
Гридина уже не было. Фатеев и Троян, сумрачные, стоя, молчали. Заборов, будто сообразуясь с их видом, уныло произнес:
— Не повезло. Во время вражеского авианалета на Сирокасску хозяйка убежала в соседнюю деревню, впопыхах захватила с собою ключ. Не ломать же чужую дверь. — Оглянулся, принужденно улыбнулся и добавил: — Был бы Костя. Он не искал бы никаких ключей. С такими, как он, и тетя Дуся перестала бы замыкать свои сокровища.
Фатеев, уронив голову на грудь, окончательно испортил настроение Заборову:
— Твоя неувязка — полбеды. Пока ты бегал, нас постигла более серьезная неудача. Полковник Катков не сумел подобрать ключа к Трояну. Петро не согласился занять место своего земляка. Не хочет работать с новым начальником, стало быть, и с нами. А помнишь, как мы старались помочь Петру оформить, уладить его побег из госпиталя? Теперь он чурается нас.
— Невероятно! Почему? — воззрился Заборов на Трояна.
— Объяснял уже. Сергей Васильевич расскажет… Разрешите откозырять? Спешу догнать Костю — он ушел к автомобилистам, узнать о попутной машине в штаб фронта, — с этими словами сержант Троян подчеркнуто щелкнул каблуками, отдал честь и вышел на улицу.
Возле избы, где размещалась техническая часть штаба бригады, он встретил Гридина.
— Ну как, выпадает транспортная оказия?
— У меня — порядок. Завтра весело укачу. Тебя неприятно оставлять здесь такого скучного.
— Все стерплю. Пойдем, Костя, ко мне, пообедаем вместе напоследок. За это время, может, что изменится.
— Покладистый ты. Пойдем. Заберу из твоего сруба свои вещи. Друзья направились по дороге из Сирокасски в Щум. Светило солнце, на небе — редкие, будто призрачные облачка. Под щебетание птиц в придорожном лесу продолжалась беседа.
— Надю ты так и не увидел. Когда она вернется из командировки в госпиталь?
— Вчера не мог добиться толку. Не говорит очкастый монстр ни о Наде, ни о Вале. Вечером сходим вдвоем. Это просто. У тебя получилось очень сложно. Ты не захотел работать вместе с полковником Катковым? Не понравился он тебе? Мнение о нем сложилось плохое?
— О мнении еще рано говорить. Скажу о впечатлении. Так и стоит сейчас перед глазами — словно загораживая кого-то — коренастый, круглолицый, широколобый. Говорит с трудом. Фразы длинные, правильные, как из написанного. Перед тем, как взяться за лист бумаги касается пальцем нижней губы, будто смачивает его слюной. Не суровый. Кажется добрый, доступный. Во время разговора не смотрит собеседнику в глаза. В общем, как видишь, и такой бывает человек.
— Да, в этой характеристике — вся твоя философия: начальников не выбирают, стерпится, слюбится. А раз так, то почему не согласился на должность, которая больше подходит тебе, чем мне?
— Потому и не согласился, что у меня спросили согласия. Здесь, наверное, сказалось твое влияние. С кем поведешься, от того и наберешься. Назначили бы приказом, и слова не промолвил бы.
— Вот именно. В такой хороший коллектив политотдельцев попал бы. Закончил бы проведение во всех подразделениях бригады комсомольских собраний о воспитании воли, воинского характера.
— Сам рвешься в танковый экипаж, а меня отрываешь от него.
— Я — другое дело, как ты говоришь, с занозой. Меня неудержимо тянет на командную работу. Сплю и слышу музыку тридцатьчетверки. Тебе же после Карбусели нельзя действовать в танке. Не забывай, что правым глазом ты видишь чуть-чуть.
— Ты, Костя, довольно долго мурыжил меня в Т-34 и убедился, что я после госпиталя не потерял качеств радиста-пулеметчика. Переживаю теперь о другом. Все-таки в кабинете полковника надо было сказать о своем физическом изъяне. Новое начальство, однако, не расположило к откровенности.
— И не сожалей. Начались бы дотошные расспросы, протокольные записи и кончилось бы посылкой на медкомиссию.
— Хочешь сказать, что могло быть хуже? — улыбнулся Троян своей поговорке. — Нет, хуже того, что произошло накануне беседы с полковником, не могло быть…
Троян не договорил о самом существенном. В его груди бурлило недовольство новым начальником по другой причине. Сержант не понимал, почему тот вопреки просьбам политотдельцев не нашел возможным использовать Гридина на строевой работе в одном из танковых батальонов бригады, а откомандировал на фронт? Следовательно, отказ Трояна от предложенной должности помощника начальника политотдела по комсомольской работе был своеобразным протестом против откомандирования друга детства, ветерана бригады.
Лето вступало в пору расцвета.
В течение всей первой половины того памятного дня друзья не замечали красот природы. Идя по тропинке к срубу, они не ощущали в лесном городке запахов свежей травы, хвои, цветов. Их не привлекало ослепительное сияние молодой зелени.
Вошли в пустой лагерный домик. Прохладный, сырой полумрак, казалось, импонировал невеселому настроению. Гридин, молча, искал под нарами, среди сухого, пыльного лапника, на стеллажах свои вещи, книги, блокноты. Троян гремел посудой, готовясь к обеду.
И тут настроению молодых людей суждено было измениться.
Началось с маленького очарования. Троян присел на корточки у холодной печки и замер с порожним котелком в руках — залюбовался солнечными лучами, которые проникали в помещение сквозь щели, из-под дверной притолоки, играя радужными красками.
Неожиданно лучи как бы шевельнулись. Снаружи послышался шорох, шепот. Затем кто-то робким стуком спросил разрешения войти. Минутное ожидание и дверь сама начала открываться. В тон предупредительно-осторожному скрипу петель мелодично прозвучал дуэт:
— Разрешите?
— Можно?..
Мрачное помещение сразу просветлело. И оттого, что в прямоугольный проем хлынул поток мягкого солнечного света, и — это главное! — в нем вырисовались, как в рамке, обрамленной серебристой березовой корой, две приветливые девичьи головки с сияющими улыбками. Хотя глаза у них были разные — у одной темно-карие, у другой — светло-голубые, — но они одинаково искрились теплым светом.
Троян вскрикнул не своим голосом:
— Костя! Посмотри, кто к нам пришел!
Гридин медленно, с каким-то недоверием повернул голову. Из темного угла он неподвижно уставился расширенными зрачками, как в чудесный кадр кинофильма. Хлынуло чувство бурной радости, отчего на мгновение язык будто онемел.
— Здравствуйте! — произнесли одновременно-протяжно в прежнем музыкальном тоне Надя и Валя.
— Добро пожаловать в наш терем, — двинулся навстречу Троян.
— … Вернее, в берлогу, — поправил, наконец, Гридин, вскочил и, спотыкаясь о какие-то предметы, двинулся к выходу.
— Быстрее переступайте порог, если вы реальность, а не привидения.
— Мы — действительность и существуем независимо от вашего и нашего сознания, — шагнула Надя через порог. Посторонилась вправо, пропустив подругу. — И действуем, наверное, по интуиции. Нам самим непонятно, как мы вас нашли. Ни у кого не наводили справок — стеснялись. Ваше лесное селение, как вымерло. Встретился боец. Лиза сразу огорошила его и захватила в плен – утащила искать Сашу. А я и Валя, без всякой подсказки, наугад набрели на ваш березовый дворец.
— Вы — настоящие разведчицы! – восторгался Троян. Как хорошо, что у вас проснулось какое-то особое чутье, которое помогло найти нас.
— Я в течение нескольких дней выполняла в Жихареве задание своего начальства, — продолжала Надя. — На обратном пути забрала домой наших девчат, только Любу (Валину сестру) не отпустили. Уже в дороге мы единогласно решили сделать поворот налево. Сошли с попутной машины и – глядь! В пространстве между березками лесной лагерь… Одноко опасаемся: не будет ли вам головомойка от начальства за то, что в расположении части принимаете посторонних. Если бы не тараторка Лиза, нас никто не услышал и не увидел бы. Она без умолку, громко на все реагировала, а сейчас, наверное, там, где живет Саша, всех подняла по тревоге. Далеко он от вас?
— Сразу за широкой поляной, в крупном лесу.
— Надо знать, где нам собраться перед уходом отсюда.
— Лиза не пропадет, — вставила Валя. — Она довольно прозрачно дала понять, чтоб о ней не беспокоиться, что встретимся дома, на дежурстве.
— Шевелись, Петро. Чем ты намерен угощать дорогих гостей? — сказал Гридин, — накрывая нары плащ-палаткой. — Присаживайтесь, отдохните с дороги.
Троян кинулся к полочке над нарами, к снарядному ящику в углу. Выставил свой НЗ на стол. Затем мигом слетал с посудой на кухню.
На шершавых досках, застеленных газетами, вкусно задымились котелки со щами, кашей, вокруг них появились — консервные банки, пакеты с caxaром, печеньем, розетка с маслом, ломти хлеба. Рядом весело загудела железная печка, на которой подогревался чай.
За обедом потекла по-домашнему теплая беседа о делах в госпитале, о жизни, о настоящем. Слова о будущем усиливались междометиями, восклицаниями.
Прежние встречи Гридина с Надей были кратковременными, всегда торопливыми.
— Вечно, будто совершали какие-то преступления, чего-то боялись, скрытничали, что-то подозревали. Довольно! Сегодня у нас — радостный праздник, — горячо высказался Гридин тайно, с грустью сознавая, что эта первая, обоюдно искренняя встреча, может стать последней.
Он с удовлетворением заметил, что с лица Нади исчезли тени прежней внутренней борьбы, замкнутости, отчужденности.
Троян, с переездом Вали в Жихарево, виделся с нею только один раз. По дороге на Карбусель он упросил Гридина сделать остановку вблизи станции и заскочил на несколько минут в госпиталь. Трепету сердец во время свидания аккомпанировала канонада фашистской дальнобойной артиллерии. Парень и тогда уходил, как первый раз, когда сопровождал на машине Валю к новому месту работы, под разрывами снарядов. Валю не раз в ту ночь влекло к обстреливаемой дороге, на которой вдали, в ослепительных сполохах, сопровождавшихся оглушительными взрывами, чудились искры, вылетавшие из выхлопных труб танка, и прерывистый рокот двигателя. Лиза успокаивала: мол, по словам друга Петра — Гридина — огни и грохот — проявление сильных страстей, бурной жизни; за разлукой будет встреча.
И вот они вновь встретились. Валя заметила шрам на виске парня. Встревожилась. Ей показалось, что Петро старался реже поворачиваться к ней травмированной стороной лица, и будто его правый глаз выглядел темнее левого.
Троян предчувствовал, что девушки вот-вот начнут расспрашивать о командировке под Карбусель. И он на мгновение задумался, как избежать разговора о злополучной «карусели».
Выручил Гридин.
— Друзья, знаете что?.. Нет, не знаете. А я знаю: давайте сфотографируемся.
— Заманчиво! — обрадовалась Надя.
— Да что вы,- засомневалась Валя. — Мы так плохо одеты.
— Зато хорошо настроены, — поправил Гридин. — Петро, разыщи Соловьева. Дай ему вот эту пленку, — он вынул из полевой сумки и протянул другу бумажную пачку. — Пусть зарядит фотоаппарат. Оба спешите к шоссе. Я тем временем покажу девушкам наш городок-парк и выйду с ними на восточную окраину березняка.
Через минут двадцать друзья сошлись на оживленной фронтовой дороге.
— Как я понимаю, это место не подходит для прогулок с фотоаппаратом, — вежливо заметил фотограф Соловьев; лицом напоминавший Тевье /в исполнении артиста Михоэлса из пьесы Шолом-Алейхема «Тевье-молочник»/. Энергичный, поворотливый рядовой, хотя и затянул шерстяную гимнастерку комсоставским ремнем с портупеей, каждым своим шагом невольно выдавал, что курса молодого бойца он не проходил.
Гридин окинул критическим взглядом придорожные деревья с обломанными сучьями, содранной корой.
— Это искалеченное смертью редколесье — неподходящий фон для снимков, которые должны выражатьживую жизнь.
— Все наши угрюмые леса, мглистые мхи не украсят фото, — оглянулась вокруг Валя.
— Что за вопрос? — начал «Тевье» тоном задетого самолюбия. — Я не сын Волхова, но если доверитесь мне, как гиду, то мы побродим минут 30-40 и откроем где-то в двух-трех километрах
Июнь 1943 года.
отсюда живописный пейзаж с интереснейшими аксессуарами на ближнем и дальнем плане, в перспективе.
— Но, чтоб второстепенные детали — ваши аксессуары — не затемняли главного, — подсказал Гридин.
— Думаю, что настоящий художник сумеет выбрать среди местной природы детали, предметы, которые сделают снимок выразительным, — взял Троян девушек под руки. — Прогуляемся. Соловьев, выходя вперед, тактично прокладывал себе дорогу комплиментом:
— Не допускаю мысли, чтоб такая девушка, как уважаемая Валя я бы сравнил ее с царевной Волховой — выросла среди мрачной природы. Позвольте мне, прибегнув к военной терминологии, уточнить на местности свои предположения.
И «Тевье», поощряемый возгласами одобрения, ускоренным шагом повел группу запыленной обочиной. Мимо беспрерывно грохотали по разбитому гравию большака различные машины. Недалеко от железнодорожного переезда фотограф свернул в сторону. Шли ухабистым проселком, петлявшем по ничем не примечательной равнине с темно-серебристыми островками мелких кустарников.
— Впереди, в двух километрах от нас — деревня Речка, — тараторил «Тевье». — Мы туда не пойдем, там нет никакой речки. Справа, в одном километре, виднеется селение Концы, а перед ним прячутся в зелени карьеры по добыче камня. Никакие ямы и «концы» нас не интересуют. Для перспективного дела важно хорошее начало, от него и конец зависит. Поэтому меня привлекают вон те неказистые кустики, — он показал фотоаппаратом влево.
Троян развел руками:
— Пока что здесь не выделяются предметы, достойные глаза художника. Вид нашей березовой рощи возле кухни отличается гораздо большей привлекательностью красок.
«Тевье» с присущей вежливостью многозначительно улыбнулся:
— Не торопитесь. Тут недалеко замаскировался ручей, который на карточке может показаться крупной рекой. Я добиваюсь того, чтоб на снимках правдоподобие обычно выглядело убедительнее правды. Ну, а как покажется вам найденный здесь чистый родничок и какую он сыграет роль в вашем будущем, мне гадать трудно.
— Не совсем ясно. Загадками выражаетесь, — с неудовольствием заметила Надя.
— Возможно. Я смотрю на все в природе глазами фотографа и…, пожилого человека, женатого. Троян заметил добродушно, шутливо:
Товарищ Соловьев, ваши слова хочется приправить легким юморком. Можно?
— Не возражаю.
— Однажды наш ординарец рядовой Чернигин возле костра очень забавно трунил: мол, вы, по своей профессиональной рассеянности, открываете при красном свете консервные банки и письма от жены. Вы тогда не отпарировали остряку. Неужели это похоже на правду?
«Тевье» остановился, отодвинул в сторону ветви молодой осины, сделал рукой галантный жест, приглашая девушек повернуться влево, и – ответил Трояну:
— Похоже, в такой мере, в какой эта водная преграда /так выражаются командиры/ может сойти за бассейн Черного моря. Но если посмотреть на нее не с военной, а с поэтической точки зрения, то мы найдем виды, красивее, чем в Сочи или в Ялте.
Девушки рассмеялись.
В кустах блеснула стальная полоска ручья, шириной один-полтора метра. Светлая змейка воды извивалась между высокими, местами каменистыми бережками, покрытыми густой травой, низкорослыми деревцами. Крупный валун, подобно утесу в миниатюре, навис над ручейком и своим основанием так прижал его к другому камню, что поток между ними протискивался с натужным журчанием. Низко над водою, в зеленых ветвях черемухи виднелось гнездышко. Из него беспокойно сверкнули глазенки — мокрые черные смородинки.
Пугливая пепельно-серебристая головка птички втянулась в шейку, притаилась и напряженно, стоически следила за людьми. Очевидно, желание хозяйки гнезда продолжать, во что бы то ни стало выполнять свои родительские обязанности — не допустить охлаждения высиживаемых яичек — сильнее страха.
1943 год.
Своебразный уголок живой природы всем показался чудесной находкой среди окрестной монотонности. Молодые люди вдруг стали на всесмотреть другими глазами. И луг вблизи уже выглядел совсем в ином свете. Кругом сверкала свежая зелень, пестрело обилием цветов. Едва уловимый шаловливый ветерок играл листвой кустарников, за которыми, казалось, пряталось нечто загадочно-привлекательное. Над головой плыли легкие, белые облака и — удивительно! — на землю они не отбрасывали теней. Чистый воздух пьянил.
Троян приложил два пальца к губам:
— На ципочках обходите справа, не спугните птичку — будущую мать…
— Далеко не уходите, — всматривался Соловьев в линзу видоискателя. Очень важно, чтоб в объектив попало гнездышко. Это и красиво, и символ… Не слишком отдаляйтесь и от причудливо изогнутой сосенки. На первом плане фото она будет выглядетьмощным столетним великаном.
Троян выпятил грудь, широко раскинул в стороны руки, будто собирался обнять весь мир.
— Как вы хотите, товарищ фотограф, увеличивайте, или уменьшайте при помощи своей оптики то, что попадает в объектив, но я и без оптического обмана нахожу, что перед нами — живописнейший вид.
— Согласен с превосходной степенью Петра, — приподнял Гридин ветку зеленой черемухи, занесенной во время паводка илом.
Вдоль берегов ручья, над мелким кустарником поднимались стройные, высокие березки, отражаясь в зеркальной воде. В просветах между зеленой, опрокинутой: вниз листвой, виднелась ясная лазурь неба — его цвет отражался в глазах Вали — и светлые курчавые облака, которые поразительно гармонировали с волосами девушки. Трояна очаровало отражение в ручье.
Гридин подметил сентиментальное настроение друга:
— Я вижу, что ты сейчас больше расстроган, чем ранее кинокадрами «Концерт-вальса».
16.09.1943 года Волховский фронт.
— Конечно. Там — мертвые светотени, а тут — сама жизнь. Пойми: стоило нам с Валей залюбоваться прозрачной кристальностью ручья, как легкое облако в воде начало светлеть и постепенно таять.
— И это не обман зрения, — серьезно уточнил Гридин — В поднебесье солнечные лучи нагрели тучку и она частично испарилась, рассеялась.
Троян с притворной горячностью запротестовал:
— Нет и нет!.. Здесь, на земле, тени исчезают потому, что стало теплее, светлее… Причина? Очень просто — какие могут быть тени там, где появились Надя и Валя?
Гридин предупредительно шагнул вперед и отбросил из-под ног Нади сухие ветки.
— Ну и Петро!.. Что я буду делать без тебя, без твоего поэтического видения жизни?.. Вспомнится и госпиталь… — и осекся, покраснев: с языка слетело лишнее. Чуть не проговорился о своем предстоящем отъезде. А уж воспоминание госпитальных терзаний на Урале где не было друга детства, совсем некстати. Как он ни противился, а в воображении всплывали картины строгой, раздольной Камы, зеленого обрывистого холма на ее берегу с двумя елями… И здесь в Приволховье за тысячи километров от тех памятных мест, он, как бы заново открывалто, что там была красота слишком возвышенная, недосягаемо сказочная, какая-то неземная.
Здесь, среди суровых лесов и перелесков, как самородок, как золотая жилка в толще дикой породы нашелся и зажурчал живой ручеек, и он выглядел богаче, красивее Камы. На его пологом бережку стояла Надя, такая же чистая, как вода, в которой отражался ее облик. Грубые красноармейские сапоги еще больше подчеркивали девичью красоту и нежность, значительность выполняемого ею нелегкого труда. Эта красота — простая, душевная,близкая — вовсе не претендовала на то, чтоб затмить собою все в окрестностях, а, наоборот, — самобытно-неподражаема и в то же время гармонически сливавшаяся с окружающей жизнью.
1943 год.
Троян интуитивно почувствовал, что перед мысленным взором друга появились тени беспокойного недавнего прошлого, что они могут затмить настоящее, и он поторопился образно настоящее, и он поторопился образно вызвать видение многообещающего будущего: — друзья, взгляните, мы не заметили, как очутились недалеко от Щумского леса. Вон, за дымкой угадываются домики. Рукой подать.
Все обернулись в юго-западную сторону.
Они жмурились от вездесущего блеска.
Соловьев разъяснял, как много могут рассказать на фото глаза.
Валя старалась привыкнуть смотреть, не жмурясь — чтоб не выйти на карточке слепой. Она отворачивалась от солнца, сверкавшего ручья. Легкий ветерок ощутимо касался ее разгоряченных щек, шевелил молодыми листьями березы, осины, пепельными сережками лозины, подхватывал где-то белый, будто прозрачный пушок, и нес его над ручьем. Взгляд девушки вновь обращался к воде, в зеркале которой, на фоне жиденьких пушинок улыбалось лицо Трояна.
— Петро, не заставляй Валю жмуриться перед отблесками полуденного солнца, и сам приучайся к северному, рассеянному свету, — шутил Гридин.
— Мы тренируемся. И уже готовы. Товарищ Соловьев, снимайте. Троян издали, театрально подал девушке руку. Оба стали полуоборотом к пестрому лугу и застыли в принужденной позе.
— Э, нет. Так не годится. Слишком напряженно позируете. Лица плоские, на них не играет свет. Второй план затемнен, перспектива невыразительна, туманна. Снимок выйдет мрачный, будто сделанный ночью.
— И хорошо. Будем вспоминать…
— Что? То, чего не было?
— Почему? Разве человек иногда не может чувствовать себя днем, словно в волшебном тумане, или будто в полусвете лунной ночи?
1943 год.
— Может. Но для этого в наших местах есть поистине царское время — ленинградские белые ночи.
— Последние два слова вызывают у меня жуть, дрожь. В воображении встает ничейная зона на Волхове. Вспоминаются пушкинские строки: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?..» — и Троян рассказал о вылазках разведчиков во время светлых июньских ночей 1942 года под Киришами. Картины драматических событий омрачили представления о летних вечерах, ночах, вдохновенно воспетых художниками слова.
Соловьев согнал с лица парня тень воспоминаний словами:
— Понимаю. Разведчик обычно считает своей союзницей темную ночку. Надеюсь, что со временем его очарует и белая ночь. Она вызовет прямо противоположные эмоции. И душа наполнится светлым счастьем.
Вскоре оказалось, что словоохотливый «Тевье», как в воду смотрел.
— Вернемся все же к нашим дневным делам, — спохватился фотограф.
— Оставайтесь на своих местах, а я определю нужный ракурс, — и он стал делать шаги назад, в стороны, опускался на корточки, прицеливаясь фотоаппаратом. Валя вздрогнула от внезапно разразившегося артиллерийского грохота в районе Жихарево.
— Мы здесь гуляем, а Люба там… — съежилась она.
Троян попытался сделать шаг к ней, но зацепился обо что-то острое в траве. Наклонился и увидел продолговатый кусок ржавого металла, который уперся своими заостренно-рваными концами с одной стороны в Валин сапог, а с другой — в его, Трояна, носок.
— Вот, оказывается, что нам мешает приблизиться друг к другу, — швырнул он в сторону увесистый осколок какого-то боеприпаса.
И тут же из-под примятой металлом травы выпрямились стебельки маленького растения с нежно-лиловыми цветочками. Троян набрал букетик и преподнес Вале:
1943 год.
— Война войною, а жизнь берет свое. Из-под смертоносного осколка пробивается к свету растение. Вид его символичен. В самом деле, кажется, что природа заранее побеспокоилась, чтобы оно победило в борьбе за существование. Посмотрите ниже цветка, вдоль стебелька расположены листочки и сердцевидные, и ланцетовидные /точнее, в форме штыка/ — как бы для защиты сердечной нежности растения.
— Петро, ты всегда видишь то, что захочешь увидеть, — заметил со стороны Гридин.
— И правда! — воскликнула Валя. — Я бы никогда не заприметила под цветком такого обилия замаскированных «сердечек» и «штыков». А ведь это маткина – душка мои любимые цветочки.
Надя залюбовалась подругой:
— Чудесно! Они очень идут к твоему лицу.
Она не успела приколоть булавкой к Валиной беретке пестрый пучочек, как Троян вьюном мотнулся среди зелени маленькой полянки и вмиг одарил всех такими же букетиками. К своей пилотке он прикрепил над левым виском только один пятилепестковый цветочек и наигранно-демонстративно прислонился к плечу Вали, позируя перед фотоаппаратом.
Надя, всматриваясь в лица счастливой пары, чуть отступила назад.
— И надо же случиться такому, чтобы вы нашли друг друга! Эти перелесковые цветочки так роднят вас. Не случайно их называют и братками, и брат-и-сестра, и просто Иван-да-Марья.
— А, по-моему, это самая настоящая душистая фиалка, — наклонился Троян к беретке Вали, нюхая букетик.
— В цветах не разбираюсь, — медленно тянул Гридин,- смеряя глазами парня и девушку. — Но после слов Нади пригляделся и увидел нечто общее… А именно, в мягких переходах окраски лепестков цветка как бы угадываются и светло-синий, то есть васильковый цвет глаз Петра, и светло-голубой оттенок Валиных очей.
— Тоже мне нашли поэзию в обычных сорняках, — зарделась Валя.
— Которые так и льнут к сердцу, — поправила Надя новый букет фиалок, вложенных Петром в левый кармашек подруги.
Та, лишь бы не молчать, застенчиво отмахнулась:
— Этого сорного цвету много разбросано по белу свету.
И, к счастью, только Петру удалось найти среди моря цветов самый тонкий, душистый аромат, присущий южной розе, по-украински — троянде. Не отсюда ли — Троян? — рассуждала Надя.
— Позвольте внести ясность, — вмешался фотограф. — Фиалок на земле — около 500 видов. Столько, кстати, сколько однажды пришло писем от девушек в нашу бригаду одному адресату. Этот нежный цветочек является символом ежегодного пробуждения природы, ее весенних творческих сил, молодости. А что до цветочных лепестков, то они встречаются с таким же богатством оттенков, как и глаза девушек.
— И ваш объектив может передать их на пленку? — вопросом выразил кто-то сомнение.
— Я запечатлеваю самые сокровенные, тончайшие оттенки, которые часто невольно проступают на лице человека, — натыкался фотограф на кусты, кочки, камни — все, что мешало выбрать удобную точку съемки.
— Поразительно большая разрешающая способность объектива! — изумился Троян. — Пожалуй, он может поспорить с нашими глазами.
— Соловьев остановился, подумал, улыбнулся, значительно поднял палец вверх и нашел, что сказано:
— Остроумно.
— К сожалению, ни эти мудреные разговоры, ни живописный фон, ни фиалки не могут скрасить наш внешний неприглядный вид, — с неудовольствием рассматривала Надя свои большие, неуклюжие сапоги с желтыми кожаными головками и серыми кирзовыми голенищами, выстиранную до белизны юбку и такого же линялого цвета гимнастерку.
1943 год.
— Госпитальные халаты скрывают плохую подгонку наших хлопчатобумажных мундиров. Пока мы собирались перешить, они успели выцвести, — добавила Валя.
— Я прибыла на фронт в хорошем курсантском обмундировании, сшитом по росту, но оно сгорело во время бомбежки госпиталя. В день авианалета было тепло и мне, как нарочно, взбрело в голову дежурить в легком платье и халате. За недисциплинированность и поплатилась. Наш майор удружил со склада такой комплект БУ — бывшего в употреблении, — чтоб я, за непочитание старших, стала резко отличаться от сверстниц. Полы моей красноармейской шинели запахиваются за спину и доходят до хлястика, — делилась Надя.
Соловьев, устав бегать, вздохнул, подобно Тевье:
— Пока вы беседовали, мой объектив «схватил» вас в интересных, непринужденных позах. На ходу учтены ваши пожелания.
— Ой, надо было предупредить. Мы не причесались и складки на обмундировании не расправили, — обеспокоилась Валя.
— Не волнуйтесь. Уверен, что фото получатся замечательные. Увидите себя в естественной, неповторимо своеобразной обстановке, безо всякой искусственной натянутости, позирования. Теперь готов перейти к тематическим сюжетам.
Гридин с Надей забрались на седловину низкорослого, наклоненного над водою дерева. Оба так заглядывали сверху вниз, будто на дне ручья происходило что-то необыкновенное. В действительности они рассматривали на фоне опрокинутого неба свои отражения, да так, словно в дальней перспективе рисовалось их ближайшее будущее.
Надя, очарованная красотой небесной глубины с еле заметными двумя облачками, воскликнула:
— Какая прелесть! Никогда не видела так близко небо.
— И я, — поддержал Гридин, имея в виду и другое: никогда ранее он вместе с Надей не чувствовал себя так высоко над облаками, которые проплывали внизу, почти касаясь ног. Это обостряло душевное волнение в связи с предстоящей разлукой.
Троян с Валей сидели на травянистом берегу в позе заправских рыболовов-удильщиков. Касались локтями друг друга, и это
1943 год.
отзывалось в душе каждого смутной, непривычно новой радостью. Их внимание сосредоточилось на конце длинной кривой палки. Лица выражали ожидание клевка. В момент щелчка фотоаппарата чуда не произошло: рыбка не клюнула, спокойная вода не вздрогнула, на фотопленке не зафиксировались концентрические круги. Какие чудеса скрывались за символическим видом любителей рыбной ловли, они узнают позднее.
Поблагодарив и отпустив фотографа, молодые люди направились в госпиталь. Шли, не выбирая дорог, через поля, перелески, вдоль опушки Щумского соснового бора. Было радостно и привольно на душе.
По мере приближения к темно-зеленому массиву, под тенью которого скрывались медицинские палатки, срубы, становилось грустно. Как парни и девушки ни замедляли шаги, какие ни делали зигзаги — то за тем, чтоб сорвать редкостный цветок, то, обходя рытвины, окопы, воронки — конечный пункт неумолимо приближался. Стремление замедлить течение времени ничего не дало — солнечный круг все же зацепился где-то вблизи Мги за дальние мачты высоковольтной электропередачи.
Вот и щумский овраг. Они, медленно балансируя на длинном бревне, достигли противоположного берега. Вступили в березовую рощу, которая примыкала к территории госпиталя. Надя и Гридин намеревались пройти быстрым шагом знакомые с зимы места. Оба, однако, невольно останавились — между стройными, темно-белыми стволами просвечивался румяный западный небосклон. Это загоралась вечерняя заря.
Девушка прижималась к локтю парня:
— Пойдем быстрее. Скоро смеркнется.
— А мы продлим день, — замедлил он шаги. И, чувствуя, что приближается разлука, произнес подчеркнуто, значительно:
— Зачем торопиться в ночь, продолжительность которой неизвестна.
Надя не поняла безжалостно-жестокого намека.
Рядом послышался голос Трояна:
— Много ты, Валя, сегодня проиграла. Когда расплатишься?
1943 год.
— Вы все о том же? — заметила Надя и, увлекая Гридина на госпитальную тропинку, через плечо бросила назад: — Не будем вам мешать. Рассчитывайтесь, благо еще не совсем стемнело — со счета не собьетесь.
— Представьте себе, Валя сегодня четыре раза назвала меня на «вы».
— Да ну тебя… Всем расскажешь.
— Каким «всем»? Надя знает. Костя на полуслове оборвал меня:
— Мол, договоренность о том, что за каждое обращение друг другу на «вы», виновник расплачивается поцелуем — взрослое ребячество. Он забыл, что недавно мечтал всегда фантазировать по-детски, а действовать по-взрослому. И чтоб вы, Валя, по-детски не возражали, я по-взрослому закрою вам рот, — скороговоркой произнес Троян и быстро поцеловал девушку в губы.
— Это нечестно. Ты нарочно проговорился, — вырвалась Валя из объятий парня.
— Теперь твоя очередь. Возмещай свои четыре проигрыша.
— Хочу остаться в долгу. Быстрее за ним приедешь. Жду тебя завтра в это же время, — поспешила Валя догнать Надю с Костей.
Троян, не выпуская руки девушки, оказался рядом со всеми.
— Что ж, — вздохнула Валя, — пора, ребятки, вам возвращаться. Дальше провожать опасно — начальство увидит.
— Пусть видит меня и тебя, и всех нас, — гладил Гридин нежные девичьи руки, — сегодня, и через месяц, другой… и всегда.
— Непонятно растягиваешь слова,- удивленно посмотрела Надя в глаза парню.
— Тише. Костя уже накаркал, — снизила Валя голос до шепота.
— Повернитесь налево — из-за березы кто-то подсматривает за нами.
В полумраке отошла от стройного белого ствола фигура, затем вторая.
— Не пугайтесь — свои. Вы помешали нам свести счеты за погрешности в языке, подобно вашим, Валя, — объявился Моторный, выводя за руку девушку на тропинку.
— Неправда, мы давно уже разговариваем на «ты». Я имел штраф только за неправильные русские слова, а Ваня — за лишний жест, — возразила Муза, кокетливо дергая плечиками.
— Слыхали? Объяснилась на свою голову, — обрадовался Моторный, предварительно два раза развел руками. — Когда расчет за две ошибки?
— Сначала — за твои, а потом за мои. Я по-русски не понимаю. Поэтому надо учиться, — одергивала Муза гимнастерку, поправляла прическу, словно готовясь к смотру.
— Правильно. Учеба с увлечением, с душой, полезнее, чем без увлечения, по-казенному, — одобрил Гридин,
— Я всем сердцем за вас, — подтвердила Муза. Ответ вызвал улыбки.
В конце просеки мелькнули новые тени. Парни шагнули на средину тропы, чтоб лучше разглядеть, кто приближался к ним. Девушки спрятались за кустом, кроме Музы. Та осталась на месте. Вынула из кармана гимнастерки маленькое зеркальце и начала вспушивать волосы, дотрагиваться почему-то мизинцем бровей, ресниц.
Валя недоуменно пожала плечами. Надя ответила взглядом: мол, такая у нее манера, что поделаешь?
Многие в госпитале замечали в поведении модной и красивой девушки с иностранным акцентом странности. Ходили всякие толки.
Муза рассказывала, что родилась и выросла в Прибалтике. Ее отец, мать и старшая сестра остались на временно оккупированной территории, где-то под Ригой. В первые дни войны она категорически не согласилась остаться с фашистами и в 17 лет от роду ушла с Красной Армией на восток. Окончила курсы медсестер, стала комсомолкой. Попросилась на передовую. Получила направление в шумский госпиталь. С первых дней показала трудолюбие и аккуратность в работе. В коллективе дружила со всеми девушками. В любое время суток, несмотря на усталось, ночные дежурства, рвалась помогать всем, кто в чем-то затруднялся. В то же время удивляла скрупулезность, с которой следила за своей внешностью, она не показывалась на люди в неподогнанном по фигуре обмундировании, халате. Неизвестно когда и как делала замысловатые прически, всегда подкрашивала брови, ресницы, подделывала на щеках румянец, хотя естественная привлекательсность ее лица не нуждалась в этом. При мужчинах неизменно кокетничала, краснела, прятала глаза и чаще обычного ошибалась в произношении русских слов. Свою робость, стеснительность подчеркнуто объясняла незнанием русского языка. Подруги, однако, заметили, что Муза на работе разговаривала с едва заметным акцентом и отлично понимала больных, начальников, сотрудников. Ходило мнение, что при кавалерах она любила притворяться и старалась своей необычностью привлекать их.
Все это и особенно ее дружба с Моторным удивляло Валю.
Что могло возникнуть общего между флегматичным, мешковатым, немногословным и к тому же по внешности неказистым Ваней и раскрасавицей Музой, на которую, кажется, можно только глядеть, не дотрагиваясь, чтоб не нарушить ее изящества, — шепнула она Наде.
— Со стороны трудно судить. Бывает… — разводила руками подруга. Подумав, добавила: Вижу только то, что они не могут жить друг без друга. Каждую свободную от дежурств минуту она с ним. Даже бывает, после нескольких бессонных ночей убегает через рощу к нему. Другая на ее месте не выдержала бы такой перегрузки, без сна свалилась бы.
Да. Это уже перекос, излишества. Как бы опять не вышло кривобоко: сначала много, затем ничего… Злые языки мусолят: печальные истории с летчиками начинают повторяться. Страшно подумать, если Ваня станет пятой жертвой.
Костя уже предупредил Ваню. Говорит, тот, щутя отпарировал: «Не беспокойся обо мне. Сам не раз твердил, что события в точности не повторяются. А главное, я все-таки выполнил щекотливую задачу: не допустил Мотылькова в теремок пяти царевен». Ничего себе обоснование!
— Дай бог нашему теляти волка съести.
На просеке показались Лиза и Самохин. Пригляделись, взялись за руки и пустились бегом. Переводя дыхание, счастливо хохотали.
— Удачное совпадение. Не сговаривались, а оба экипажа оказались вместе. Это не случайно, — распростер объятия Троян перед веселой парой.
— И то, что мы сейчас видели в кустах Геру Мотылькова с Софой Пейсиной, тоже не случайность.
— По фомке и шапка, — сострил кто-то.
Завязался спор о случайностях и закономерностях. Всей группой гуляли, бродили по лесу, пели. Над землей — мглистый полусвет. Зоревые краски не тускнели.
Счастливым парам казалось, что за деревьями не угасло дневное светило, а начинался рассвет. С неба действительно ни на минуту не сходила заря. Только никто не заметил, в какой момент вместо вечерней постепенно подкралась с востока утренняя.
Гридин, наконец, собрался с духом и объявил:
— Друзья, теперь, когда наши танковые экипажи — штатный и дублер — в сборе, объявляю оргмероприятие.
Пауза. Все насторожились. И он закончил шепотом:
— Завтра уезжаю к новому месту службы.
— Надя качнулась назад. Схватилась за березку и с недоумением произнесла:
— Не может быть. Почему до сих пор молчал?
— Ясно. Не хотел омрачать светлый, радостный день, — поспешил на выручку Троян. — Без теней…
— Больше того — ударился в суеверие, загадал: если сегодняшний розовый вечер не превратится в темную ночь, то все мы встретимся… еще раз, — шутливо оправдался Гридин, подстраиваясь к тону друга.
— Почему «раз»? Еще много, много раз, — поправил кто-то. Надя укоризненно покачала головой:
— Твердокаменный ты, Костя. Додержал весть об изменении своей судьбы до минуты прощания. Вышло ничуть не лучше, чем с отъездом в армию.
— Нет, есть разница. Тогда я совсем умолчал об отъезде, а теперь громогласно обнародовал.
— Разве от этого легче? Сегодня было как никогда хорошо, и до слез мало… Просто не верится. Не сон ли?.. Когда увидимся? Где?..
— И место, и время определит зарница, — значительно произнес Гридин.
— И, возможно, не такая светло-розовая, мягкая, спокойная заря, какая украшает сегодняшнее небо, — уточнил Троян. Пристально вглядываясь в западный горизонт, добавил: — Хотя местный старожил, наверно, заприметил бы едва видимые багровые завихрения и определил бы, что они являются признаком близкой бури.
— Поэтический образ Петра помог мне продолжить мысль. Именно, зреет буря, которая не затемнит, а осветит наши пути-дороги.
— Точнее, Костя, — в дальнейшем символом наших встреч будут зори: нежные, мягкие, подобно сегодняшней; яркие и ослепительные зарницы; бурные, взрывчатые сполохи…
— Согласен с Петром, — воодушевился Гридин, окидывая друзей горящим взглядом. – Итак, у нас была возможность наглядетсядруг на друга. Теперь давайте будем смотреть в одном направлении. Держите, девушки, курс на свет, который будет вспыхивать на западе. И там, впереди, встретимся, и не раз.
— Да, — мечтательно произнесла Надя. — Мы будет двигаться за вами, на сполохи.
Высказывались различные предположения, отчего будущее становилось еще более неясным.
Троян и Гридин увлекли всех на южную опушку березовой рощи. Запрокинув головы, они искали среди звезд свои дороги. С удивлением обнаружили, что северное небо светлее и дальше от земли, чем южное, и гадали: в какой роли мерцала Венера — вечерней или утренней звезды? Вопреки обоснованным доказательствам земляка, Гридин стоял на своем — в путь-дорожку ориентировала утренняя звезда. Друзья детства время от времени ловили искорки в глазах своих девушек и думали: рядом, в мягком полусвете радуют душу нежные и дорогие черты простых, открытых лиц, необыкновенно поблескивают их очи, от лучей которых, казалось, меркли далекие звезды; и все же легкие тучки на небе, хотя и освещались каким-то таинственным полусветом, но вызывали грусть.
— Вон, оказывается, из-за кого здесь, над нашими головами так мало звезд, — утешал Троян себя и других, обнимая обеих девушек.
— Пусть так будет всегда. Мы согласны видеть обесцвеченные вами созвездия Девы, Гидры, Короны, Волос Вероники… Они потеряли чувство времени.
Гридин наклонился к голове Нади.
— Так и не смерклось. Мрак не сумел взять верх над светом.
Валя спохватилась и сказала во всеуслышание:
— Ура! Костина загадка счастливо отгадалась. Встретимся, не раз.
— Вы не забывайте, что нам не дождаться темноты. В здешних местах начались белые ночи, — нашла повод Муза, чтоб заговорить.
— Мы и не ждали. А ты откуда знаешь наши ночи? — съязвила Лиза. Муза по обыкновению потупила глаза.
Неловкую паузу нарушил полушепот:
— А фиалки не увяли. Продолжают пахнуть.
— Не все. Некоторые поникли головками. Они будут жить в ином… Фраза прозвучала с подчеркнуто глубоким сочувствием и надеждой. Еще долго раздавались в мягкой тени берез приглушенные голоса, сдержанные шутки, смех. Когда заря на востоке стала явно пересиливать западную, наступило расставание.
Гридин отпустил теплые Надины руки:
— Скажу только два слова, и — в буквальном смысле: до свидания! В светло-голубом полумраке разошлись, расстаяли две четверки.
Одну принял в свои объятия сосновый бор, вторая торопливо скрылась среди стройных шеренг березовых стволов.
За оврагом друзей настиг пятый сослуживец — Мотыльков.
Все на миг остановились. Прислушались. Навстречу пронеслось перекатами эхо рокота танковых моторов. Меж деревьями замелькали огоньки.
— Сполох! Бегом в танковый парк! — кинулся вперед Мотыльков. Оказывается, он слышал о символическом позывном.
Шум — позади. Мимо проносились зимние пейзажи Приволховья.
Тяжело груженые машинн морозно скрипели по разбитой прифронтовой дороге. Частые и продолжительные остановки. На обочинах — ломаные, ободранные деревья, придавленные к земле кустарники, распаханные артогнем поляны. Снега и снега, загрязненные гарью, копотью.
Ночь. Впереди трепетали холодные зарницы. Из сумрака вырастали полуразваленные печные трубы, обугленные стены каких-то строений, над ними кое-где переломанные ребра перекрытий. Бывшая деревня. Колонна миновала ее и остановилась на окраине. В кузовах давно затихли разговоры песни. Под брезентом – заскорузлым от мороза и белым от инея — люди, казалось, окоченели.
Открылась и с металлическим дребезжанием захлопнулась дверца кабины переднего грузовика. К заднему борту приблизился резкий скрип шагов. Сквозь хриплое покашливание послышался голос:
— Эй, народ, расшевеливайся. Нельзя, знаешь-понимаешь, спать на трескучем морозе.
Наверху переполненного автомобиля, в ворохах госпитального имущества затрещал, словно ломаясь, обледенелый брезент. Из-под него ответил спросонья тоненький девичий голосок:
— Это ты, Сажаюшка?
— А то кто же?
— Долго нам еще мучиться? Что начальство говорит?
— Согласно карте, конец. Майор ушел в лес, на огонек. Узнает.
— Валя, ты крайняя, слезай.
— Бр-р-р!.. Как студено, — отозвалась девушка, с трудом разгибая застывшие на холоде ноги, руки.- Все суставы и подсуставы, жилки и поджилки — не мои, дед-мороз незаметно подсунул деревянные. Но со стороны попахивает горелым. Знать, рядом где-то тепло.
Она сползла на край борта. Свесилась вниз, ища сапогами точку опоры. Не найдя ее, спрыгнула на твердую, как железо, дорогу. Непослушные ноги во время приземления плохо самортизировали — но всему телу, до самой головы пробежала острая боль от удара. Валя не устояла — упала. Шофер кинулся к ней, помог встать. Затем стал ловить на лету остальных.
Девушки, будто калеки, осторожно, неуверенно делали разминку. Под жесткими, негнущимися подошвами сапог снег повизгивал сухо, пронзительно, зло.
— Побегайте друг за дружкой — согреетесь. Майор не возвращается, значит, дальше не поедем, — повернулся шофер к кабине, поднялся на ступеньку и заглушил мотор.
— Скорее бы кончилось это дергание. Только то и делаем, что трогаемся да останавливаемся. Не едем и не стоим. Лучше бы пешком, — Лиза прыгнула то на одной, то на другой ноге, украдкой осматривая на снежной обочине отпечатки следов машин:
— Не ищи на правой стороне. Их потянуло налево, в нарушение правил дорожного движения и клятвенных обещаний, — съязвила Пейсина. — Иди сюда, я как раз стою на рисунках танковых гусениц.
Вернулся майор. Распорядился:
— Приготовиться к разгрузке. — Шоферу добавил: — Пройдемте вперед. Здесь все леса забиты войсками. Может, чуть подальше найдем подходящее местечко.
Выбирать, однако, негде. В заранее обозначенном старшим начальником квадрате на карте оставался незанятым на местности тольконебольшой участочек молодого леса. Пришлось обосновываться в нем. К колонне вернулся Сажаев.
— Всем, кто не хочет замерзнуть,- объявил он, — немедленно вооружится шанцевым инструментом и — за мной.
— На завоевание жизненного пространства, — пошутил кто-то из врачей.
Санитары, медсестры, врачи взяли в руки орудия землекопов, плотников. Все двинулись трусцой, друг за другом, по узкой тропинке.
Глухо ударили топоры, прерывисто завизжали пилы, зашуршали лопаты, натыкаясь в снегу на твердые сучья валежника, задубелые кочки.
— Со сна и с непривычки оно, знаешь-понимаешь, туговато, — рассуждал шофер. — Но ничего, раскачаемся и песни запоем.
— Хорошо, что темно — у кое-кого не видно на лице выражения мировой грусти, — счел уместным отпустить свою избитую остроту майор.
Разбивка палаток, их оборудование, оснащение всем необходимым для лечебной работы закончились к утру. Девушки собрались у ярко-багровой печки. Каждая старалась напитать свое тело теплом, которое исходило приятными волнами от раскаленной жести. На измученных от длительной дороги и недосыпания лицах оживляюще замелькали отблески красноватого пламени. Мало-помалу разговор начал затихать. Всех клонило ко сну.
Вдруг земля тяжело качнулась, упруго залопотал брезент палатки. Тусклый двуцветный язычок огня керосиновой лампы заколебался. Веселый, убаюкивающий треск дров в печурке потонул в сильном грохоте.
Надя с Валей выскочили наружу. Кругом из-за деревьев сверкали огни. Воздух рвали частые выстрелы. Девушки недоумевали: неужели в ночной темени их угораздило расположиться на огневых позициях артиллерии? Из-за кустов выскочил с чайником и ведром в руках Сажаев. Взволнованный, но медсестер успокаивал:
— Мы очутились, знаешь-понимаешь, у самого главного дела. Все правильно — не бойтесь. Наши дают перцу фрицам. Сходимте со мной, здесь рядом Волхов.
Шофер поставил возле палатки посуду с водой и увлек девушек за руки по тропинке к берегу реки. В предрассветной сизой дымке все леса в окрестностях озарялись сполохами. Слева взвились в небо десятки огненно-оранжевых снопов.
— Милые «Катюши» вышли на берег. Запели. Пусть еще сильнее грянет песня! — старался перекричать канонаду Сажаев. — Сотни орудий, знаешь-понимаешь, палят. Сегодня 14 января 1944 года. Запомним зарю этого дня.
— Медсестры, по своим местам! — распорядился дежурный врач.
— Приготовиться к приему раненых.
Со всех лиц, как рукой смахнуло усталость, сонливость. Наступил полный рассвет. Но видимость плохая. Кругом — туман, смешанный с дымом. Орудийному грохоту, казалось, не видно конца.
Только спустя часа три, вокруг палаток затихли выстрелы. Зато впереди, за Волховом, и далеко слева продолжался артиллерийский гул с неослабевающей силой. Вблизи все чаще падали с треском вражеские тяжелые снаряды.
Врачи и медсестры полевого подвижного госпиталя привычны к шуму, но не к беспрерывному. Принимая носилки с первыми ранеными, они сталкивались с затруднениями — приходилось громко кричать, обращаясь, друг к другу, что противоречило характеру лечебного учреждения.
Медперсонал за работой не заметил, когда закончился день, прошла ночь. Казалось, не успел победить полный рассвет, как опять наступили ночные сумерки.
Однажды, в конце короткого сумрачного дня, на территории госпиталя стали рваться снаряды дальнобойной вражеской артиллерии. Это произошло как раз в момент разгрузки новой партии раненых.
Медсестры, врачи, поминутно шарахаясь от оглушительных взрывов, обходя поваленные деревья, не прекращали снимать с машин раненых и рассредотачивать их, где попало — в воронках, под укрытиями завалов.
Наконец, грохот и треск переместились вдоль волховского берега на юг. В лесу наступила тишина. За Волховом гром канонады не затихал ни на минуту. Кто-то высказал предположение, что артиллерийский гул все-таки удалялся на запад.
— Товарищи, чует мое сердце, что этот обстрел был последний предсмертной судорогой Гитлера на волховской земле, — старался Сажаев передать свою радость другим.
— Твоими устами да мед хлебать, — отозвался санитар.
— Это точно, папаша. Здесь собаке — крышка. Как пить дать…
Возле тропинки зашевелилась куча хвороста, и раздался слабый голос:
— Медицина… Слышу ищешь тех, кого привезли из-за Питьбы. Здесь мы. Нас малость придавило ветвями — взрывная волна набросила маскировку.
— Да, да, браток, где ты? – на ходу перестроился Сажаев.
Разбросал сосновые, еловые сучья и отпрянул. Среди толстых, переломанных бревен белели марлевые повязки. Присмотрелся — танкисты, обгоревшие, трое.
— Отец, — обратился шофер к санитару. — Поди-ка сюда. Знаешь-понимаешь, снеси этих героев в палатку. Сколько им тут мерзнуть? И крикнул не своим голосом: — Лиза, Валя!.. Кто там есть живой?..
Никто не отозвался.
— Вот это забота! Спасибо, товарищ начальник, — обратился раненый к Сажаеву. — Мы побаивались, что о нас забыли. Я — ничего, а мой товарищ… Много крови потерял. Третий от природы терпелив. А четвертый член экипажа скрылся навеки под волховским льдом.
— Сейчас. Мигом, знаешь-понимаешь… Порядочек в танковых… Сажаев не успел опустить носилки в палатке возле печки, как сразу метнулся к выходу:
— Лиза! Где вы все пропали? Принимайте танкистов, может, ваших.
Он терпеть не мог вида увечий.
Полог тамбура распахнулся:
— Ой! – вскрикнула медсестра. — А где остальные? Вы из-под?… Откуда прибыли?
— Нас ранило на речке Питьба – приток Волхова. Главное — моих товарищей внесите. Они больше меня нуждаются в помощи.
— Валя, Муза, — бегом сюда! Здесь обожженные танкошлемы… — и Лиза кинулась спасать остальных.
Им и прибежавшим на помощь подругам казалось, что раненые танкисты, окажись под брезентом госпитальной палатки, почувствуют себя, как за танковой броней. Но не тут-то было.
Не успели девушки нырнуть, согнувшись, в тамбур с последней носилкой, как снаружи их толкнула воздушная волна от взрыва нового тяжелого снаряда. По брезенту ударили комья земли, осколки.
Тем временем в соседней, операционной палатке Надя подошла к столу, к очередному раненому, принесенному на операцию. Взглянула на него и — душа вошла в пятки. Узнала наполовину забинтованные, но мужественные черты лица.
Крепко сбитый, мускулистый артиллерист сдержанно стонал. Губы плотно сжаты. Ни слова. Когда все приготовления подошли к концу, будто из-под подушки послышалось тихо и внятно:
И на этот раз вы, Надя, отлично все сделали. Раны мои — пустяк. Спирт не потребуется. Кстати, привез долг. Возьмите канистру в кабине моей машины. Госпиталю пригодится. — И пониженным голосом добавил, как о чем-то сокровенном: — А я сразу узнал, кто подошел ко мне.
— Странно. Ваше ранение не позволяет вам рассматривать того, кто делает перевязку.
— Я вас, Надя… — взял он ее за руку, — увидел не глазами, и услышал не ушами…
Интимному диалогу суждено было прерваться. И навсегда. Лес огласился душераздирающими взрывами.
Артиллерист вздрогнул, застонал. Надя никак не среагировала. Только переминалась с ноги на ногу. Под сапогами пружинили и топорщились ветки лапника, чавкала желтая жижа / от тепла железных печек болотистая почва под палаткой начала таять/. Земля тяжело, заколыхалась. В сплошном гуле вдруг выделился сильный треск. Надю будто что-то толкнуло в грудь. Она качнулась назад, в сторону, зацепилась ногой за сучок, рванулась к столу, схватила с него поднос со стерилизованными инструментами и, как бы спасая их, прижала поднос к груди. И не успела опомниться, как услыхала звон инструментов — они свалились на пол. «Растяпа, размазня, — корила себя медсестра. Наклонилась. Нащупала руками в болотной лужице пинцет, скальпель, шприц и готова была волосы рвать на себе. — Ну чем теперь хирург будет оперировать?» Силилась встать и чуть не упала от новой воздушной волны. Палатку рвануло будто изнутри.
Казалось, взрыв раздался под землей, мокрый скальпель выскользнул из рук Нади. Лезвие блеснуло между носками сапог. Она только протянула руку вперед, как от толчка в грудь закачалась еле ударжала равновесие и не помнила, отчего оказалась на четвереньках. Перед глазами что-то плюхнуло в лужицу талой воды. Грудь, лицо обдало холодными брызгами. Вблизи что-то шипело. В нос ударило то ли дымом, то ли паром.
Поднялась Надя со скальпелем и пинцетом в руках. Стояла, как изваяние. В глазах — просветление. Увидела большие дыры, зияющие в палаточном брезенте. В спину повеяло холодом. Обернулась. Там, где был тамбур, свисали веревки, качались рваные лоскутья парусины. Под ними, на носилочном больном, распростерся убитый санитар.
— Сестра, снимите с меня этого массивного дядю, — простонал раненый. — Не донес бедняга мое тяжелое тело, начиненное чужим металлом.
Из рванья, как из мешка с утилем, выпутался второй санитар. Покачиваясь, он оттащил в сторону своего погибшего товарища. В палатку вбежали Лиза, Валя, Муза, врач и — наперебой:
— Что тут произошло?
— Где Надя? Ах, вон она!..
— Ранена? Контужена?.. Нет?..
Надя, забрызганная желтой торфяной жижей, неуверенно шагнула навстречу:
— Вроде, ничего. Двигаюсь. Вот только инструменты…
Врач подошла к операционному столу. Осторожно открыла простыню. Приготовленный к операции артиллерист лежал неподвижно. Его левая рука свисала, как плеть. Врач подняла ее, с минуту подержала кисть, потом медленно согнула к подбородку пациента. Наклонилась к груди со стетоскопом в руке. Послушала, выпрямилась и отвернулась.
— Санитары, снимите труп и отнесите в морг.
Надя болезненно вскрикнула. Схватилась руками за столб.
Артиллериста переложили на носилки. Под ним, в доске стола виднелась рваная наискосок, окровавленная дыра.
— Надя, когда за палаткой трахнуло, ты возле артиллериста стояла? — спросила Лиза.
— Да. И уронила из рук инструменты. Присела, чтоб собрать их.
— Ты — счастлива. Хорошо, что наклонилась за скальпелем, иначе, по всему видно, тот осколок, что убил артиллериста и пробил стол, угодил бы тебе прямо в живот.
— Он мог прошить двоих, — подбрасывал Сажаев на ладони ромбовидный осколок с рваными краями. — И Надя избежала удара вовсе не потому, что пыталась вывернуться — она просто выполняла свои обязанности, подбирала с земли инструменты.
— В рубашке родилась, дочка, — отозвался санитар. — Выходит, ты в свое время спасла артиллериста, а сегодня он не остался в долгу.
— Теперь, Надюша, сто лет проживешь,- повесела Лиза — Девочки, бегом к танкистам!
Надя не шелохнулась. Она, наконец, начинала понимать, что произошло.
… Пахло паленым мясом, шерстью, машинным маслом. На полу — обгорелый танкошлем, подбитый мехом, лоскутья шинели, фуфайки, шерстяного свитера.
Медсестры молчали, ошеломленные заключением врача.
— С него начинайте. Я потерплю, — нарушил тяжелую тишину сержант, показав глазами на своего товарища, забинтованного от поясницы до макушки головы.
У того из-под марли проступала обугленная раковина уха. Врач наклонилась к нему. Послушала сердце. Осмотрела травмы.
— На операционный стол! — распорядилась она. Через короткое время приказала Вале: — Маску!
Медсестра дала тяжелобольному общий наркоз.
Операция длилась долго. Живот танкиста оказался изрешеченным мелкими осколками. Только в брюшной полости хирург наложила 12 швов. Извлекла осколки из шеи и правой лопатки.
Закончив операцию, врач ощупала пульс пациента. Удрученно покачала головой. Начала измерять кровяное давление. Сестры сгрудились над оперированным. Каждая жадно посматривала на слабо прыгавший столбик ртути в стекляной трубке с градуировкой.
— 50 и 60, — нетерпеливо объявила Лиза показания прибора. Глаза девушек испуганно-вопросительно устремляются на врача. Все безошибочно прочли на ее лице:
— Не спасти.
— Да. Только срочное переливание крови помогло бы. Но ее нет — израсходована до капли. Ждем подвоза, — добавил озадаченный фельдшер.
— Какая незадача! — отчаянно произнес кто-то. — Человек умирает на столе после такой сложной и удачно сделанной операции. Нет крови…
Валя, стоявшая рядом, закачалась, как пьяная — сказались недосыпания, постоянное обращение с наркозными масками. Надышалась эфиром и ее усыпляло. Но от слов «Нет крови» она вздрогнула.
— Как это «Нет крови»? Кругом живые люди… Возьмите мою.
— Группа? — резко обернулась врач к медсестре.
— Вторая.
Через минуту-другую Валя услыхала:
— Подходит. Немедленно ложитесь на операционный стол рядом с больным. Старшая операционная сестра, подготовьте прямое переливание крови из вены Вали в вену оперированного. Ясно? Действуйте. И вот иголки введены в вены медсестры и пациента. Соединены с желтыми резиновыми трубочками. Шприц наполнялся темно-красной жидкостью. Переключен краник аппарата от всасывания к нагнетанию.
Лиза не отрывала глаз от лица раненого. Вот он открыл веки. Ей показалось, что с его незабинтованной правой щеки стала исчезать смертная бледность. Девушка облегченно вздохнула.
Валя вначале храбрилась. Не хотела подавать виду, что попала на операционный стол. Потом стала бледнеть. И все же силилась улыбаться, шутить. Но не тут-то было. Во рту — вяжущее ощущение, затем — впечатление сухости. Тошнота и полузабытье.
Прибежала Надя. Подруги всполошились.
— Валечка, что с тобою?
— Ой, потеряла сознание… Вмешалась врач:
— Отставить перекачку! Вынуть шприц. Краник перекрыт. Трубки отсоединены.
Врач отпустила кисть руки Вали и подняла усталые глаза:
— Все в порядке. Пульс нормальный. Сказалось перенапряжение, резкое уменьшение крови. Небольшой отдых, и все восстановится.
Валю отнесли на носилках в угол палатки. Там, за ширмой она проспала четыре часа.
— Как только открыла глаза, ее поздравили с победой.
— Твой, пациент, Валюша, спасен, чувствует себя хорошо.
— Какое счастье! Твоя кровь вернула жизнь тяжелораненному… Врач значительно вставила:
— Валя относится к своей работе душевно, сердечно… Оказывается, можно поделиться с человеком не только куском хлеба, но и частичкой своего сердца.
Валю напоили сладким чаем, и она совсем повеселела.
— А мне не везет, — засуетилась Лиза. — Никакого подвига в жизни не совершила. Хоть беги в соседний госпиталь…
Остановилась перед подругой, интригующе улыбаясь:
— А знаешь, Валя, кого ты спасла? Нет. Сослуживца Петра. Теперь он расскажет нам о судьбе наших…
— Выходит, мы двинулись из Шума в одном направлении, хотя и не одновременно, — облегченно вздохнула Надя. — После паузы мечтательно добавила: — Так бы не отставать до самого Берлина.
Морозный январский день тускнел. Багровый запад разгорался.
Воздух будто отяжелел — становился промозгло-холодным, злющим.
Танковая колонна втянулась извилистой змейкой в узкую, засыпанную снегом просеку. И как бы застряла в ней. Моторы стихли. Лес в глубине раскатисто гудел выстрелами. Вдали, на фоне грозного неба бледно-голубые и красноватые сполохи выхватывали из мрака острые вершины елей, похожих на штыки. Вблизи сосны, отягощенные снежными шапками, напоминали фруктовые деревья, ветви которых свисали под обильным урожаем до самой земли.
Привал. Десантники-автоматчики в просторных маскхалатах, надетых поверх шинелей, соскакивали с танков и, разминаясь, бегали, пускались вприсядку, прыгали, боксировали друг друга. К ним присоединялись танкисты — в темных фуфайках, комбинезонах. Зимняя одежда многих полнила, делала здоровяками. Веселая возня в снегу напоминала игру бурых и белых медведей.
На поляне, около костра, люди сомкнули тесный кружок. Отблески жаркого пламени румянили, бодрили лица. Вокруг высокого столба дыма поднимались затейливые струйки махорочных дымков. Под аккомпанемент мажорного потрескивания сучьев слышался разноголосый говор.
К огню присел на корточки человек невысокого роста, в белом полушубке, в серых валенках. Это капитан Сталевич.
— Нельзя пройти мимо костра с запахом хвои… Здесь можно и припалить, и перекинуться словцом-другим, — снял он меховые рукавицы, заткнув за ремень, и начал свертывать из газеты «козью ножку».
Бойцы оживились. Обрадовались пропагандисту политотдела танковой бригады.
— Садитесь, товарищ капитан, поближе к теплу, — освободил место на кучке валежника круглолицый автоматчик. Тепло одетый, в маскхалате, он походил на белоснежный колобок.
Сталевич достал из костра длинный сосновый прутик. Дымившийся конец щелкнул на полпути к цигарке рассыпчатыми искрами. Капитан ловко подхватил ладонью на лету крупный рубиновый уголек, неторопливо прикурил и, словно экономя тепло, стряхнул недогарок с ладони в огонь.
Кто-то заметил вежливым тоном совета:
— Не обжечь бы пальцы, товарищ капитан.
Офицер после глубокой затяжки выпустил изо рта тонкую, направленную вверх струю дыма:
— С огоньком на фронте мы сдружились. Без него не выжечь захватчиков.
Среди полушубков, закопченных пороховой гарью, измазанных машинными маслами, приподнялся относительно белый, опрятный, с погонами старшины на плечах. Его обладатель — звонкоголосый, подвижный «живчик» — коротыш радист-пулеметчик Троян. Он
Зима 1943 года.
энергично потер над пламенем огрубелые, обожженные огнем и морозом ладони:
— В самый раз окончательно выкурить потомков крестоносцев на крещенский мороз да взяться так «крестить», чтоб закричали пустить.
— Время подходящее. В народе говорят, что от крещенских выстрелов волки убегают, — автоматчик, похожий на колобка, подбросил в костер хворосту.
Его сосед с усилием сломал о колено пук узловатых сучьев:
— Перед нами залегли волки стреляные. Они вывернулись из-под наших летних и осенних ударов. Будут огрызаться, как в Киришах.
Капитан Сталевич взглянул поверх сосен в сторону вспышек огней и гула канонады.
— То было время, а ныне пора. Мы уже на Левобережье Волхова. Боец в новой шапке-ушанке поднял от кисета сомневающиеся глаза:
— А не случится ли так, что фрицы двинут за нами по пятам? Помнится, мы оставили их в развалинах на волховском берегу…
— Не забивай, Митя, голову пустяками, — оборвал «колобок».
— В клубе-землянке висел еще в декабре сорок первого плакат: «Наши войска из Малой Вишеры фашистов вышибли».
— Верно, — подтвердил Сталевич, аккуратно накладывая газетную заплатку на обугленную сторону самокрутки. — Правда, за железнодорожную станцию Кириши на правом берегу Волхова враг держался до октября сорок третьего. И вот теперь, когда мы вышли на западный волховский берег, новгородской группировке противника мерещится подобие сталинградского котла.
Бойцы делились мнениями о первых двух днях боев.
— Как бараньи головы не вмещаются в одном котле, так в эти дни фрицы то тут, то там выпирают. Надо обкарнать лишнее. За речушку Полисть они держались крепче, чем за Волхов.
— Дорого досталась нам и крученая-верченая Питьба. Утром форсировали дважды, а вечером еще раз всем пить дала. Спасибо Трояну — он расклинил люк и спас наш экипаж, иначе все сгорели бы.
— Еще бы чуть-чуть и танки старших лейтенантов Самохина и Мотылькова прорвались бы к Ленинградскому шоссе…
Сталевич переобулся. Поднимаясь, топнул ногою:
— Прорыв еще не завершен. Для окончатльного разгрома гитлеровцев на новгородской земле надо пересечь дороги, которые в виде лучей выходят из древнего Новгорода Великого… Если проследить на карте направление нашего наступления, то видится любопытная картина: отрезаются пути отступления захватчиков на запад, бои переносятся за черту города. Следовательно, создается возможность сберечь от разрушения архитектурные памятники новгородского кремля.
Капитана Сталевича, бывшего студента исторического факультета Минского госуниверситета, так и подмывало пуститься в исторический экскурс. Он посмотрел на часы и многообещающе крякнул.
Круглолицый автоматчик понял значение своеобразного кашля и поторопился задеть слабую струнку Сталевича:
— Товарищ капитан, разрешите… Я читал в армейской газете, что мы воюем на земле Василия Буслая. Что это за личность?
Сталевич почесал затылок:
— Этот человек… В свое время задавал жару, — и на минуту приумолк. Достал из полевой сумки блокнот. Начал листать.
Затруднительный жест, продолжительная пауза вызвали у бойца замешательство:
— Виноват. Наверно, спрашиваю не по вашей специальности.
— Бурная жизнь неугомонного новгородца волнует человека любой специальности, — продолжал Сталевич, будто оправдываясь, рассматривая в блокноте вставные бумажки. — Видите ли, был на Новгородщине такой удалец — Василий Буслаев… Боярин по происхождению, но с характером, и не простым, а, я бы сказал, с крутым и геройским. Он был среди народа, понимал его и защищал. Да с каким ухарством! Буслаев довольно поозорничал на новгородской земле, но и потрудился… Вот у меня есть интересная запись… Послушайте, как Горький передает размышления Буслаева:
— Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега растопил…
8 апреля 1944 года Район Корхова
— Какие слова, Алексей Исаевич! — горячо отозвался лейтенант Аглушевич. Волнуясь, он, обычно, сбивался на белорусский акцент.
— За душу берут… У савецких байцов сил-то поболе, чем у защитника новгородской «голи беспортошной»… Еще как дохнем! Уф!..
Разведчик, не любивший греться вблизи костра, на этот раз шагнул в круг друзей и подбросил в огонь смолистую корягу. Тотчас с шипением и треском взвилось вверх огромное пламя, отчего в окружности, на фоне густой рати деревьев, энергично задвигались, жестикулируя, высокие, могущественные тени фигуры Аглушевича.
— У Буслаева – характер простого русского человека, — воодушевлялся Сталевич. — Смел, трудолюбив, талантлив. На слова матери поберечь свою «буйну голову» Василий отвечал:
— Мне самому она не дорога.
Хотел бы я, чтоб жизнь моя сгорела
Свечою с двух зажженную концов,
Недаром бы лишь только пламенела!..
— Здорово! — не удержался лейтенант Аглушевич. — Это по-моему. Хорошо сказано: «Недаром бы лишь только пламенела!»
Лейтенант отступил в сторону от жаркого костра. Прищурив глаза, он издали любовался столбом огня, который чем-то напоминал разудалого человека в финале победно-торжественной пляски.
— Да, этот новгородец, видать, отличался завидной волей, — с чувством щелкнул языком разведчик сержант Терновой, выглядывая из-за широкой спины Аглушевича. — И в такую тяжелую для Руси годину…
— В наше время любой человек может проявить свои силы, способности, — продолжал Сталевич. — А в ту пору, семь веков назад, новгородский удалец не знал, куда себя деть.
К огню подсел старшина Моторный. В замасленном, рваном комбинезоне, с сумкой, из которой торчали слесарные инструменты. Задымив длинной самокруткой, своеобразно принял участие в беседе: жестикулировал, притаптывал ногой, выпускал дым изо рта то едва заметной ниточкой, то кольцами, то клубами.
Между тем лейтенант Аглушевич все больше оживлялся:
— Алексей Исаевич, мне очень понравились ваши слова о бесшабашности, богохульстве Буслаева. Отчаянный чертяка был, раз никого не боялся. Такого бы в разведочку этой незнакомой местности.
— Что за диковина для тебя, белоруса, новгородские леса?
— Правобережье Волхова изучено вдоль и поперек, а здесь, как в потемках. Буслаев-проводник не помешал, бы, — поправил Аглушевич под маскхалатом трофейный автомат, парабеллум.
— Товарищ лейтенант, хотя я и не тутошний, возьмите меня в проводники. Мне, степняку, везет в лесах, — спрятал Терновой за голенище валенка изящный кортик и в готовности выпрямился.
Капитан Сталевич взглянул на часы. Поднялся:
— Вспомните, друзья, кинофильм «Александр Невский». Мне понравился эпизод, в котором Буслаев крушит оглоблей немецких псов-рыцарей, далеких предков нынешних оккупантов. Двинем сейчас по следам истории…
— По машинам! — раздалась команда в лесу.
Воздух вздрогнул от гула танковых двигателей. Экипажи и автоматчики-десантники занимали свои места. Командиры и политработники следили за размещением подчиненных, отдавали распоряжения.
Капитан Сталевич подозвал к себе старшину Трояна.
— Начальник политотдела потребовал, чтоб ты между делом находил возможность передавать по танковой рации краткие сведения об успехах героев прорыва. Командир взвода старший лейтенант Самохин знает об этом. Все. В добрый путь! — капитан крепко пожал руку старшине, обнял его и побежал в голову колонны.
Танки окутались клубами отработанных газов, морозного воздуха. Будто огромные комья снега, устремились вглубь леса. Придорожные сосны вздрагивали, осыпая колонну снежной пылью. Спустя минуту — другую, все машины с десантом на броне исчезли в предвечерней мгле просеки.
Завершался скрытный маневр с северной на восточную сторону вражеского опорного пункта. И еще до наступления темноты деревья встряхнулись, окутываясь облаками снега, от нового приступа орудийной пальбы. Подразделения тридцатьчетверок пошли в атаку.
Бригадные разведчики во главе с лейтенантом Аглушевичем действовали на главном направлении.
И на этом участке фронта нам не выпадает сыграть главную скрипку, — будто про себя громко сожалел Самохин. Такое предположение у него возникло в виду того, что разведчики взобрались на броню соседа.
Впоследствии он убедился, что поспешил со своим прогнозом.
… Экипаж тридцатьчетверки с надписью на башне «Урал» вдруг ослепили частые вспышки красных огней. Воздух рванули недалекие выстрелы. Вздрогнула почва. На броню посыпались снег, щепки, сучья. Это вражеские противотанковые снаряды расщепляли стволы деревьев. Автоматчиков-десантников как ветром сдуло с брони. Танк свернул к высокому кустарнику и остановился. Это были дальние подступы к ручью. Среди заснеженных, труднопроходимых зарослей видимость не превышала пяти метров. Разгорелась артиллерийская дуэль с сильным, невидимым врагом.
Старший лейтенант Самохин, ни на минуту не прекращая огневого боя, с трудом выяснял положение машин своего взвода. Радист — пулеметчик старшина Троян устанавливал радиосвязь с командиром роты. В эфир пошла радиограмма:
— Товарищ 01, достиг рубежа… Напоролся на плотный огонь противотанковой батареи. При попытке наступать по варианту №1 сгорел левофланговый танк, по варианту №2 застрял в болоте второй…
— Очертя голову прете… — сердито дребезжала мембрана в наушниках шлемофона командира взвода.
— Другого выхода не было.
— Разведать свое направление. О вынужденных отклонениях доложить… Из района трех бань тебе поможет старший лейтенант Мотыльков.
Самохин сменил танкошлем на шапку-ушанку, достал из ящика две гранаты, загнал патрон в канал ствола пистолета, открыл люк.
— Троян, прикрывай меня огнем ДТ, — приказал он, вылезая из машины. Кликнул автоматчика-десантника и двинулся с ним по-пластунски в сторону противника.
Хлопок из ракетницы. И сразу — треск автоматов. Старший лейтенант пытается осмотреться. Мерцание бледных и красных огоньков — впереди и слева. Слепило глаза. Через мгновение их запорошило снегом. Пули. Рядом — болезненный вскрик.
Приглушенное копошение в снегу. Спустя десяток минут, автоматчик медленно прополз мимо танка, в тыл. Без шапки, с забинтованной головой.
Курсовой танковый пулемет звучно ударил по вражеским вспышкам короткими, тугими очередями. Выдержка. Повторная проческа. Тишина.
Самохин продолжал изучать направление атаки. На выходе из леса приподнялся. Слился с темным стволом дерева. Глаза еле различали извилистое углубление на снегу. Это засыпанное снегом русло ручья. И только его внимание привлекли темные пятна на седоватой стене дальних кустов, как в лицо полыхнуло ярким огнем. И не один раз. Старший лейтенант инстинктивно, с опозданием бросился в сугроб. Слух уловил неприятный для танкиста звук — вой бронебойных «болванок». Тотчас же за спиной — два удара: один со звоном и затухающим завыванием, второй глухой, как выстрел из миномета.
«Первый — рикошет. А второй?.. Похоже, что продырявил броню» — предположил Самохин. Определив приблизительно местоположения двух вражеских противотанковых орудий, он вернулся назад.
Состояние машины потрясло. Сбитая вражеским снарядом командирская башенка с перископом свисала за тыльной стенкой башни, чудом удерживаясь на электрокабеле. В лобовой броне, ниже маски танковой пушки зияло свежее отверстие — результат второго попадания» болванки».
— Дыра приходится на полметра выше командирского сидения, — доложил Троян. — Хорошо, что вас не было на месте. Осколком брони ранен заряжающий. — Перевертывая на поле шинели какой-то тяжелый предмет, он добавил: — Вот этой железякой пробило. Пышит жаром — не дотронуться. Обнаружил по дыму — тлело налобное утолщение вашего танкошлема.
Старший лейтенант Самохин взял в руки горячий металлический обрубок, предварительно прикрыв рукавицы тряпкой, чтоб не обжечься.
— Болван болваном, а искал мою голову, — плюнул Самохин на
вражеский противотанковый снаряд и выбросил его за борт. В снегу послышалось шипение. — А-а, злишься, змея. От неудачи. Задержись я в машине или займи мое сидение кто-либо другой, и ты прошил бы живую цель. Ясно. Мы вышли на танкодоступное направление, которое противник заранее тщательно пристрелял и держит под действительным огнем. Мне удалось засечь только две пушки… Механик-водитель, — за рычаги! И… — заднюю скорость. Да, да, пока не вперед. Остановись под укрытием расщепленной снарядом сосны, — приказал командир, взвешивая каждое слово. — Троян, заканчивай побыстрее перевязку заряжающего. И сейчас же отправь его в медсанбат. Заодно сориентируй тягач с боеприпасами к нашей роте. Затем — быстро на свое место. Я тем временем проберусь к соседним танкам, выясню их положение. Одновременно налажу контакт с мотострелками.
Старший лейтенант скрылся в направлении гула танковых моторов.
Механик-водитель включил задний ход. Как только мотор прибавил обороты, и заскрежетали гусеницы, над машиной опять просвистели «болванки». Два рикошета как бы ускорили переход Т-34 на новое место.
Радист-пулеметчик помог заряжающему выбраться из машины. Взяв товарища под руку, двинулся с ним по танковой колее. Они долго петляли по запутанным следам, прежде чем набрели на тропинку к медсанбату. Навстречу попались два санитара с волокушами.
Возвращаться Троян решил напрямик. С целью экономии времени. И вскоре пожалел об этом.
В темноте он то и дело натыкался на пни, кучи хвороста, бревна. Ноги поминутно проваливались в занесенные снегом ямы, канавы.
У завала шевельнулись тени. Троян и рта не успел открыть, как в лицо брызнул огонь. Затрещали выстрелы, разрывные пули. На него обрушился какой-то ворох сучьев со снегом. И — удар по ноге. Словно кто-то огрел дубиной. Очнулся будто в медвежьей берлоге. Левая нога почему-то голая. Ниже колена — жжение и холод. В ушах – тот же раздражительный треск. Сплошная пальба, казалось, подступала к нему подковой. Он почувствовал страшное одиночество. Неожиданно — скрип шагов. Все громче и ближе. Преследователи? Достал пистолет.
Лежа, уперся левым локтем обо что-то твердое. Изготовился.
И ни с того ни с сего услышал окрик по фамилии.
— Я здесь, — ответил Троян. Подошел Самохин с тремя автоматчиками.
— Только слепой может так переть мимо своих, на рожон, -злился командир. — И на мой голос не отозвался. Что с тобою?
В темноте что-то ударило.
Троян терялся — не мог нащупать свою левую ногу. Правая, обутая в валенок, хорошо различалась. Там, где должна быть левая, чернели рваные лохмотья.
Старший лейтенант наклонился и стал разбирать мокрые тряпки.
— Да, разрывной пулей разнесены в клочья валенок, ватные брюки, портянки и даже шерстяной носок. А ступня целая? — раздраженно ворочал Самохин рванье. И — миролюбиво: — Есть. Могло быть хуже, как ты часто говоришь. — Еще немного повозился, покряхтел. — А теперь, дружок, вооружайся палкой и — в медсанбат шагом марш!
— Один?
— Да.
Старший лейтенант Самохин вернулся к танку.
— Довоевались, старшина, до ручки, — сердито кинул он подчиненному за рычагами, будто тот виноват во всех бедах. — Врага не видим, а он выщелкивает нас по одному.
В проеме люка показалось растерянное лицо механика-водителя:
— И что теперь будем делать?
— Наступать. Думаю, однако, что перед нашим танком — больше двух вражеских противотанковых орудий. Надо уточнить.
Он позвал к себе невысокого, молчаливого мотострелка:
— Отправитесь со мной на разведку маршрута. Водитель — за пулемет. С тобою останется… Как ваша фамилия? — обратился старший лейтенант к бойцу, который увлекся осмотром исклеванной снарядами башни.
— Мурзаев.
— … с задачей вести круговое наблюдение, бдительно охранять танк, обо всем подозрительном докладывать механику-водителю. Следить также за моими действиями, сигналами. При необходимости быстро разыскать меня. Направление моей разведки… — старший лейтенант показал ориентиры на местности и сразу отправился к первому из них.
— Привеселенькое дельце — я одинешенек, остался в машине. Но один в поле не воин, — бурчал про себя механик-водитель, надевая поверх фуфайки шинель. Щуплый с виду, он совсем потерялся в теплой одежде.
Мурзаев переспросил:
— Что вы приказывали? Виноват, не расслышал, товарищ старшина.
— Ничего. Следи за своим делом. Не отвлекайся.
Самохин тем временем ползком пробирался, к ручью. Его мучили думы: «Немыслимо продолжать бой только с механиком-водителем. Не посадить ли заряжающим разворотливого, толкового десантника? Кого? Пожалуй, Мурзаева — тот на ходу стал интересоваться устройством башни, осматривал ее. Так и сделаю. Проинструктирую, покажу в боевом отделении, что где находится… Два-три раза зарядит, разрядит пушку и сразу обнаружится: стоящий парень или нет».
Нерадостные размышления командира взвода прервал шум. Сзади заскрипел снег. Из темноты вынырнул перепуганный Мурзаев.
— Товарищ старший лейтенант, мал-мал танкист убежал. «Неужели я остался один?» — не укладывалось в голове командира.
— Что ты мелешь? Из Т-34 еще никто и никогда не убегал.
Вопрос и утверждение Самохина диктовались здравым смыслом. Однако доклад Мурзаева вызвал в груди такое болезненное ощущение, что в голове, наперекор логике возникло подозрение: «Видимо, не случайно механик-водитель не единожды про себя мямлил, что один в поле не воин. Струсил? Сдали нервы перед врагом, который по-снайперски продырявил броню как раз напротив командирского сидения? Бросить машину в такой критический момент! Уму непостижимо», А где-то в закоулках мозга — возражение: без паники, возьми себя в руки! И Самохин всю злость обрушил на автоматчика:
— Ты понимаешь, что нагородил, путаник?
— Так точно! Вы приказали мне не допускать… Он не послушал меня — шмыг в дыру. Не стрелять же в своего человека.
— Доложи толком, кто сбежал?
— Ваш танкист.
— И в машине пусто?
— Наоборот, второй через дыру в башне шмыг… У врача пусто.
— Бестолочь! Неужели Троян «шмыг»?
— Так точно.
— Разве может раненый в ногу бегать?
— Может, когда нарушает дисциплину. Полез на ваше место.
— Доложи о главном — механик-водитель не покинул танк?
— Никак нет. Накричал, чтоб я не пропустил от вас сигнал.
У старшего лейтенанта Самохина отлегло на душе. Взбудораженные нервы ослабли. И он велел: Мурзаеву вернуться назад. Сам упал разгоряченным лицом в сугроб и начал жадно хватать губами снег.
В небо взвилась с неприятным шуршанием ракета. Старший лейтенант выждал, пока над головой затихло звучное потрескивание, исчезли в окружности дрожащие отблески огня, и продолжил разведку. Двинулся вперед, зарываясь как можно глубже в снег. Из-за естественных масок приподнимал голову, напрягая зрение, слух, обоняние. Мгновенные, но частые освещения противником местности помогли разглядеть на фоне заснеженных, заиндевелых деревьев контрастно-темные кусты. Виднелись оголенные ветви, похожие на весенние. Осмотр с трех точек навел на предположение, что за кустами находились вражеские орудия, от выстрелов которых, по-видимому, осыпался снег, и ветви почернели. Самохин перепахал на животе снежную толщу опасного предполья вдоль и поперек, прежде чем окончательно убедился, что перед ним — еще два орудия.
Старший лейтенант возвратился к танку в приподнятом настроении. Теперь он точно знал, где размещались все четыре ПТО противника. Целая батарея. Между тем, в экипаже его ждал новый сюрприз.
Началось с недоумения: за рукоятками рации сидел радист-пулеметчик, которому положено быть в медсанбате. Самохин недовольно молчал. Паузу нарушил подчиненный:
— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить… Легкораненый, но боеспособный старшина Троян приступил к исполнению своих обязанностей.
Командир, переводя дыхание, нахмурился. Сделал нетерпеливый жест. Старшина опередил. Встрепенулся, как от неожиданного укола, наклонился к радиостанции, настороженной мимикой и кивком вверх дал понять: мол, внимание, вызывают сверху.
— Товарищ старший лейтенант, на волне 01. Слушайте, — облегченно вздохнул радист, всем своим видом стараясь оправдать возвращение в танк. Потрогал ручки настройки, хотя в этом не было надобности. Щелкнул языком: порядок. На лице — нарочито серьезное выражение.
В наушниках шлемофона четко прозвучало распоряжение об изменении времени начала атаки. Самохин взглянул на часы: до сигнала «зеленая ракета» оставалось пятнадцать минут.
— Вот так незадача… Куда теперь девать тебя, Троян? Боевая машина — не лазарет, — начал старший лейтенант подчеркнуто начальнически, сурово. В лучах лампочки-подсветки выражение его лица означало, однако другое: «Положение все-таки улучшается. Молодец, комсорг. Твое возвращение, твой деловой, спокойный вид, простодушный тон несколько скрашивают остроту и безвыходность момента».
Троян уловил изменение к лучшему в настроении командира. И вответе прозвучала твердая убежденность в своей боеспособности:
— Вернулся без палки. В машину забрался легко. Устранил вовремя повреждение антенного выхода.
— Хвалю. Но ранение не позволит тебе справиться за двоих. На месте радиста можно было бы, пожалуй, сидеть, а в роли заряжающего волчком крутиться на одной ноге — дудки.
— Докладываю, что у меня пустяковая рана — немного кожа задета. Мне ясны обязанности: держать в готовности рацию, заряжать пушку, пулемет, следить за попаданиями снарядов, пуль… Все это я не раз делал, и сегодня не подкачаю.
Самохин испытующе посмотрел на старого сослуживца, будто впервые видел. И на лице дернулся мускул. В самом деле, Троян чем-то начинал не нравиться. Больше полугода он не встречался с ним в боевой обстановке. Тут же вспомнились недавние хорошие отзывы начальства о Трояне, как о деятельном комсорге танкового батальона, и они несколько сгладили обостренную настороженность.
— Добро, — взвешивал командир все «за» и «против».
— Автоматчика брать в танк, пожалуй, не стоит. Мурзаев неясно докладывает, второй слишком длинный, неповоротливый, будет мешать в машине.
Случай помог открыть в Трояне, давнем однокашнике, новый изъян.
Самохину потребовалась топографическая карта.
— Подай-ка, Троян, мой планшет. Да живее! — повысил он голос.
— Не там ищешь. Протяни руку вправо. Что с тобою? Справа, ведь, перед глазами…
Старшина будто нарочно отталкивал валенком планшет в сторону, переворачивал, вещмешки, гремел котелками. Старший лейтенант наблюдал за ним, невольно вспоминая несколько подобных случаев. Бывало и раньше, когда радист, казалось, смотрел на вещь и не видел ее.
— А блуждание по лесу?
— Недоставало, чтоб ты еще ослеп. Тогда кругом пять. Покажисьмне ближе, — велел командир и при свете переносной лампочки стал рассматривать лицо старшины.
Так и есть. Подозрение небеспричинно: зрачок правого глаза, кажется шире левого. Вспомнился общий, невнятный разговор Трояна о легком ранении под Карбуселью. «Почему тогда я не удосужился по-дружески побеседовать с однополчанином по сержантской школе о ранении, лечении в госпитале? — В памяти всплыла картина переформирования бригады. — Да, тогда кто-то из старших начальников рекомендовал Трояна членом танкового экипажа в интересах равномерной расстановки комсомольского актива в подразделениях. Пора бы Трояну и возглавить экипаж, но в «интересах»…»- и осуждал, и оправдывал себя и начальников старший лейтенант.
Волнение командира невольно передалось подчиненному. Троян нервничал, не находил себе места. Призвал на помощь терпение — оно не раз выручало. Мысленно убеждал себя, что самое страшное — позади. В голове прояснялось: «Не горюй. Критический момент оставлен в госпитале, когда врачи выиграли отчаянную борьбу с абсцессом мозга, за сохранение жизни, а потом правого глаза. Враг номер один — тяжелый недуг — побежден на операционном столе». Выручил молодой организм. Особенно танкист терзался накануне медицинской комиссии. Не радовала перспектива уйти из действующей армии. И пришлось впервые в жизни согрешить против закона и совести: перед самим заседанием комиссии Троян ушел из госпиталя. Четыре дня скитаний по фронтовым дорогам, и он разыскал боевых побратимов. Зашел в политотдел. Встретил капитана Сталевича. Весь вечер они проговорили. Сталевичу было понятно стремление ветерана бригады остаться в строю, так как сам с лета 1942 года скрывал от врачей гул в ушах — следствие контузии, полученной в боях за Кириши. Капитан никогда не жаловался на слух.И, оставаясь на фронте, убедился, что незначительный физический изъян не мешал выполнять воинский долг.
Мучительные размышления однополчан по-своему разрешила боевая обстановка — в ту же ночь танковая бригада по тревоге убыла на новый участок фронта. В торопливых сборах, затем в пути Трояну не представилась возможность подробно доложить начальству о необычном убытии из госпиталя. Главное — в бригаде никто не замечал, что старшина слабо видел на правый глаз. Не удалось, однако, слукавить перед другом детства капитаном Гридиным. Тот в перерыве между боями забрался с земляком в танк и дотошно проверил его способности работать в составе экипажа. После обсуждений, споров было выработано компромиссное мнение: мол, радисту в танке не обязательно иметь одинаково отличное зрение на оба глаза. Поскольку такое мнение противоречило требованиям закона о воинской службе,
друзья решили не распространяться о нем. Старый товарищ строго предупредил: «Сохраню твою тайну при условии, что ты вдвойне повысишь бдительность, всегда будешь помнить о неполноценности правого глаза”. И Троян в течение полугода небезуспешно оберегал свой уязвимый правый фланг. На марше к новому участку фронта он без погрешностей справлялся со своими обязанностями в экипаже. А в ту ночь подвела злополучная планшетка.
Самохин выключил переноску и с тяжелым вздохом опустился на сидение. Снял шлемофон. В состоянии удрученности поерошил руками волосы. Выстрелы в лесу вывели командира танка из глубоких раздумий. Где-то вблизи затрещали разрывные пули. Через широкий проемнад головой посыпались внутрь башни ледяные комочки. Он, съеживаясь, вздрагивал, потом что-то поискал вокруг себя. Шлемофон зацепился краями прожженного налобника за острые отвороты брони возле пробоины.
Самохин запрокинул голову назад. На месте командирской башенки,недавно снесенной вражеским снарядом, смутно зиял круг ночной тьмы.
Сверху тянуло холодом. «Да… Вентиляция… Кругозор из машины отличный. Экипаж боеспособен. Хромой на ногу и глаз старшина готов работать за двоих, даже за троих. На то он комсорг. Все, что требуется для боя, у командира есть…» — с горькой иронией думалось Самохину. Его выжидательно-тревожный взгляд задержался на радисте. Троян беспокойно ерзал на сидении, поправляя наушники. Затем поспешно взглянул в триплекс, вверх и доложил:
— В воздухе — зеленая ракета. По радио — «Внимание!» Сейчас
будет — «Вперед!»
— Отлично, Петро. Убеждаюсь, что твой глаз остер, слух тонок, — старший лейтенант впервые обратился к своему однокашнику по имени.
— Нам пора. Уточняю задачу. Прямо — деревня Додберезье, слева – ст. Подберезье. Перед ней — ручей, прикрытый кустарником… — Указав направление атаки, ориентиры, старший лейтенант опустил левую руку на плечо механика-водителя, правой нащупал погон Трояна, обернулся к нему и требовательно повысил голос:
— Ясно?
— Так точно! — почти одновременно доложили старшины.
При этом в воображении Трояна встал образ волевого Гридина.
Как бы друг детства обрадовался возможности совершить подвиг! «Мне очень повезло. В эти часы решается судьба Новгорода и делается шаг к снятию блокады с города Ленина, и я не изнываю от переживаний в медсанбате, а нахожусь здесь, чуть левее главного направления… Надо не подвести старых сослуживцев. В терпении — успех…
Вряд ли в дальнейшем представится случай действовать в составетанкового экипажа /с неполноценным глазом не допустят /, и необычного… Тританкиста… «Мчались танки, ветер, поднимая…» — вспомнилась полковая школа. Затем верх взяла ободряющая музыка «Марша танкистов»;
Броня крепка и танки наши быстры,
И люди наши мужества полны…
— Ваше настроение, други, радует меня, — словно разгадал командир мысли Трояна и добродушно-шутливо добавил: — В Подберезье я уж не дам маху. Разыщу цепь и кое-кого прикую к ней, чтоб не сбежал.
Цепей не пришлось долго искать.
В наушниках шлемофонов прозвучал сигнал: «Вперед!”
«Урал» тронулся с места. Выкрашенный белой маскировочной краской, он под гул сплошной пальбы незаметно подошел к ручью. Остановился у развесистой сосны. Голова командира на мгновение показалась из проема, над которым ранее возвышалась командирская башенка. Танкист уточнил беглым оценивающим взглядом огневые позиции вражеских орудий. И сразу наклонился к прицелу.
— Осколочным, заряжай! — услыхал Троян команду.
И разразились в большом темпе удары танковой пушки. Осколочные 85-ти миллиметровые снаряды вздымали за темным кустарником брызги огня, обломки оружия. Внакладку танковый пулемет старательно прочесывал вражеское расположение.
Самохин с пристрастием, накоротке прослеживая за работой радиста-пулеметчика, замечает, что тот в роли заряжающего сноровисто посылает снаряды в казенник, однако с затруднением извлекает их из боеукладки. Похвалив за расторопность, он приказал:
— Петро, неослабно наблюдай прямо и вправо.
— Есть! — припал старшина к смотровой щели. Ничего не обнаружив, схватил две стреляные гильзы и, намереваясь выбросить их наружу, спросил: — Можно на миг выглянуть?
— Запрещаю! — и водителю: — Газ!
Самохин заметил справа быстрое выдвижение вперед двух Т-34.
И тут же отпрянул, как от удара в грудь — один танк загорелся свечой.
— Троян, — к рации!
И заряжающий стал радистом.
— Товарищ 01, в квадрате 0071 обнаружена новая батарея, — пошла радиограмма вверх.
— Не отвлекаться. С ней разделается Мотыльков. Информирую: сосед слева ранен, но танки не остановились. Роту возглавил механик — водитель старшина Моторный. Рвется к шоссе.
Поэтически настроенный Троян, выполняя задание начальника политотдела, послал в эфир:
— Танк Моторного приближаются к цели. Фашист уносит ноги — отрезай ему дороги. — Отключив рацию, поднялся на место заряжающего.
— Водитель, ориентир два. У стога сена — левый рычаг… — потребовал командир.
Механик-водитель на первой скорости спускался — к ручью. Под гусеницами ощущалась твердая почва. «Урал», умеренно газуя, выбирался на противоположный берег. Впереди — снежная равнина. С ходу гремели пушечные выстрелы. Металлически застучал ДТ. Гусеницы вгрызались в толщу снега. За кормой в белом вихре клубился дым, сверкали искры, выбрасываемые из выхлопных труб. Танк подбирайся к деревне, которая поминутно озарялась вражескими выстрелами, опоясывалась и, казалось, пронизывалась насквозь разноцветными огненными трассами. Слева, в красных и белых огнях высвечивался ряд придорожных заиндевелых берез. Там наступал Моторный, освещая себе путь. Справа пылало какое-то строение.
— Товарищ старший лейтенант, к нам бегут двое, — доложил Троян.
— Водитель, у кустарника — тормоз. Сорочий у тебя глаз, Петро.
— Перед вами — въездной проселок в деревню. Не суньтесь — минирован. Далее, за первыми сараями — четыре фашистские пушки… — жестикулировал рослый белоснежный призрак. Второй, заткнув под ремень лоскутья рваного маскхалата, опустился на колено и трассирующими очередями из ППШ показывал, где находились мины, огневые средства противника. Обоих тут же заволокли дымно-белые вихри.
Зто разведчики Аглушевич и Терновой.
— Спасибо, братцы! Ну и отчаянные, — крутнул головой Самохин и — механику-водителю: — Выравнивай машину. Не подставляй борт!..
Снаряды, выпускаемые «Уралом», рвались за высоким штакетником,из-за которого беспрерывно били противотанковые орудия.
— Угадываю и почти вижу: на вражеских ОП бушуют веера снега с осколками, — прорывался, сквозь шум голос радиста-пулеметчика.
Ночь затрудняла ориентировку. Танкисты опасаются поразить огнем своих мотострелков, которые заходили с правого фланга. Кто-то поджег стог сена. Возле него, в красных отсветах лихорадочно подпрыгивали, стреляя, две гитлеровские пушки с длинными стволами; из-за угла крайнего дома — огни двух других.
— Перед нами — батарея, на виду, — чуть не запел от радости Троян, первый, обнаружив врага.
— Ч-черт!.. До странности живучи эти противотанковые пушки, — нервничал Самохин. — И будто состязаются в скорострельности.
Сопротивление артиллеристов противника не ослабевало. Наоборот, по мере сближения с ними их тени мелькали, как угорелые. Вот у самого стога сена развернулся на 180 градусов Т-34 вокруг перебитойгусеницы и загорелся. Башня «Урала» звенела и вздрагивала, как бы грозя сорваться с погон. От частых попаданий вражеских снарядов, казалось, машина начинала дергаться, замедлять скорость. В наушниках шлемофонов — тяжелое дыхание с хрипом, стонами. «Неужели это предвестник наихудшего? — пробежал холодок по спине Трояна. — Эх, достать бы того, освещенного пожарами гада, что норовит всадить нам снаряд в бок», — с сердцем вогнал он тяжелую гильзу в казенник.
И тут на задымленную окраину деревни вырвался белый вихрь. В мгновение ока вражеское орудие, что дергалось, как в припадке, возле горящего стога сена, скрылось в облаке снежной пыли. Это налетел Т-34 старшего лейтенанта Мотылькова. Из-под гусениц отскочили в сторону колеса второго орудия. Расчеты двух других ПТО продолжают отстреливаться перед самим носом танка старшего лейтенанта Самохина. Троян еле успевал заряжать. В то же время объявлял, о результатах стрельбы:
— Недолет… Перелет… Цель!
От его глаза не ускользнуло что-то невероятное в поведении фашистских артиллеристов. Маленькие, серые фигурки крутились возле орудий, как привязанные. Когда рассеялся дым после очередного точного попадания танкового снаряда в цель, старшина увидел ПТО с перевернутыми вверх колесами, с обода одного из них свешивалась цепь, отсвечивая в пламени пожаров мелкими звеньями. Конец дергался. И не случайно. На нем, оказывается, билась в предсмертных конвульсиях жалкая, скрюченная фигурка гитлеровца-артиллериста. Далее, на железной привязи лежал, раскинув руки второй фашист с мертвым блеском в стеклах очков.
Троян крикнул не своим голосом:
— Смотри, Саша, — гитлеровские смертники!
Взбудораженный, он забыл, что обращался к командиру, а не коднокашнику по полковой школе.
Вон о чем предупреждали разведчики. А мы поняли только наполовину. Поэтому и гадали: что за упрямый враг попался на пути?
— Что ж, фашист везде верен себе. Кстати, Петро, и цепи нашлись, ты первый заметил их… — говорил сбивчиво, с паузами Самохин, работая подъемно-поворотным механизмом танковой пушки.
«Урал” круто развернулся у разбитого вражеского орудия, обдавего снежной бурей, и взял курс к шоссе, в обход деревни Подберезье.
— Правильно, механик, нечего давить мертвецов, — одобрил
Самохин. — Возмем станцию Подберезье, Петро, затем вернемся к цепям…
Троян наклонился к боеукладке. Загремели стреляные гильзы.
В боковых отсеках — десять осколочных и пять бронебойных…
Перед его глазами — жуткая картина смертников. В голове — мысли, которые так и просились на бумагу /фронтовая газета давно ждала от него, нештатного корреспондента, заметок, очерков/. Не от хорошей жизни Гитлер присобачил своих выродков на цепи. Под влиянием смертного страха стервецы отбивались отчаянно. Глянуть не начто: недоноски, очки поблескивают, дрянь. А сколько нашкодили!..
И Троян кинулся к триплексу:
Упредить бы как-то врага, иначе и на станции развернется такая же батарея.
Наперерез к танку бежали лейтенант Аглушевич и сержант Терновой. Водитель сбавил газ. Над башней чуть приподнялся танкошлем.
— Путь к станции открыт… Взгляните направо, за шоссе… Гать… Забита… — прорывался голос лейтенанта сквозь грохот снарядов, рокот моторов. Разведчики, показывая стволами на огоньки, дымы среди низкорослых деревьев, скрылись в белесой мгле.
Танкошлем командира исчез в башне.
— Водитель, — на ориентир три! — приказал Самохин, оценивая действия бригадной разведки: «Неугомонный этот Аглушевич. Второй раз отвлекается в мою сторону, хотя у него своя задача… Едва знаком, а поступает по-братски. Беспокоится, чтоб я гать не проворонил. Ясно, по бревенчатому настилу вихрем катану к насыпи».
Наконец, механик-водитель ощутил под гусеницами танка твердое покрытие Ленинградского шоссе.
— Кортит свернуть налево и ринуться укатанной дорогой на Новгород,- с просьбой в тоне прозвучал его голос.
— Наша задача иная, — возразил старший лейтенант, стараясь не выпустить из виду десятки разноцветных огоньков на железной дороге, которые суматошились, словно взбудораженные осы.
— Товарищ старший лейтенант, гать уже кем-то занята, — доложил Троян.
Самохин повернул голову вправо:
— Не «уже», а «еще», — заметил он у окраинного домика густое скопление и далее — в линию темных силуэтов машин различных конфигураций и сутолоку возле них. — Ого! От фрица драпаком запахло, — поднялась над башней голова командира.
Обстановка прояснилась. Задние фонари, красные стоп-сигналы скученного разнородного транспорта покачивались, дрожали, то жмурились,то раскалялись, как налитые кровью глаза хищников, уползающих в свою берлогу. Между шоссе и станцией на снежной поляне беспорядочно шныряли неясные тени.
Гитлеровцы спешат на погрузку, — окончательно убедился командир и — к прицелу: — Друзья, приготовиться! Подтолкнем.
Советские пехотинцы, танки, сау, автоматчики — все двинулись к станции Подберезье с трех направлений.
— Механик, — полный газ! — крикнул Самохин. — Дави гадов гусеницами! Троян, — осколочный, диск!.. Чесанем!.. За тех, кто остались на Питьбе, на окраине Подберезье…
«Урал» вздрогнул, рванулся с перекрестка дорог, расчищая путь пехоте к станции сталью, огнем танкового орудия и ДТ.
— Зажигательным!.. скомандовал Самохин.
Выстрел, и впереди брызнуло высоко в небо зарево огня. В отблесках кровавого пламени обнаружилась скученная фашистская колонна на узкой гати, которая вела от деревни Подберезье к станции того же названия — не менее 50 машин.
Троян вспомнил вечерний разговор у костра, где танкисты и мотострелки восхищались былинным героем Буслаевым и мечтали дохнуть на врага так, чтоб снег растаял, чтоб фашист взлетел в поднебесье на горючем материале, накопленном против советских танков. Теперь мечта сбывалась.
В этой обстановке радист-пулеметчик на ходу, как умел, сообщал по танковой рации о героях боя. Из его уст хлынули в эфир короткие призывы с самыми неожиданными оборотами речи, сравнениями:
— Друзья, фашист горит. Огнем растопим снег, нагреем хмары.
Мы на гати ломаем хребет фашистской знати. Танки у нас хорошие,делают из фрицев крошево. Танкисты и автоматчики, помните: бойне пожар, не туши, а разжигай!.. Разведчик Аглушевич уже открыл семафор. Жми на огонь!..
Под гусеницами «Урала» гулко застучали бревна настила. Руки механика-водителя вначале дрожали. «От езды по бревнам вибрируют рычаги», — успокаивал он себя, прислушиваясь к командиру: а вдруг поступит команда изменить маршрут. Потом убедился, что требование старшего лейтенанта на завершающем этапе боя единственно правильное: атакой в гущу врагов добиться победы.
Во вражеской колонне — паника. На обочинах гати, в красном снегу, барахтались, словно перепуганные крысы — тоже кровавого цвета — толпы гитлеровцев, убегая к лесу.
Перед глазами Самохина вырос объемистый штабной автобус.
— Этот фашистский фургон мешает обзору. Механик, круши!
Хруст. Треск. Т-34 подпрыгнул. И впереди просветлело. Многиемашины противника, стараясь свернуть с гати, уткнулись передними колесами в глубокий снег. Задние невыключенные стоп-сигналы предупреждающе алели.
— Это мне нравится, — издевался механик-водитель, — галантно, по-немецки пытаются уступить нам дорогу.
Поднялся ветер. На обширной поляне, вблизи станции, в красноватой мгле забушевала снежная пурга. В ней неслась белая лавина советских автоматчиков, стрелков. Сердитый ветер то неистово рвал, то неторопливо «брил» насухо; приносил гарь, смрад, сковывал рты, ресницы, слепил глаза колючей ледяной пылью. Бойцы увязали по пояс в рыхлом снегу, но не останавливались, а с возгласами «Ура!» кидались на железнодорожную насыпь, из-за которой хлестали ливни свинца.
Станционные постройки, вагоны, ближайший лес выглядели на фоне пожаров отлитыми из меди. Постепенно резкие, контрастные краски стушевывались. Бой затихал в глубине лесного массива.
Наступал синевато-розовый рассвет 16 января 1944 года.Над станцией Подберезье реял красный флаг.
Стрельба удалялась. Вслед накатывал мощный гул моторов.
Свершилось то, ради чего танкисты, мотострелки в течение более трех лет, в снегах, лесах, болотах выдерживали невыносимо тяжелые испытания. Люди радовались тому, что не зря обливались потом и кровью под Синявином, на Волхове, теряя лучших боевых товарищей.
Отчаянное сопротивление врага сломлено.
Наступал бледный рассвет. Вырисовывались следы буйной ночи. Поле между шоссе и железной дорогой чернело обломками разбитой техники, вооружения. Снег испещрен воронками, загрязнен гарью, обагрен кровью, усеян трупами, местами до черной земли растоплен пожарами.
В тыл тянулись серые, безликие толпы пленных.
За железнодорожной линией простирался лесной массив — в нарядном зимнем убранстве. Справа, вдоль большака, что пересекал железную дорогу, — шум, говор, эхо пальбы. Там вводили свежие войска для преследования врага. Слева — тишина. Пушистые, заиндевелые березы, сосны, ели утопали в глубоких, чистых, никем не тронутых снегах. Только изредка виднелись мелкие и крупные причудливые строчки — следы птиц, зверей.
Танки взбирались на железнодорожную насыпь. Останавливалисьна путях. И сразу же экипажи бежали навстречу застрявшим в снегу грузовикам, автоцистернам, ремлетучкам. Возвращались с тяжелым грузом на плечах. Спешили заправить баки газойлем, маслами, загрузить машины снарядами, патронами, гранатами. Механики-водители накоротке проверяла исправность ходовой части, кое-где регулировали натяжение гусениц, устраняли мелкие неисправности.
Они встретились возле семафора.
— Сколько событий, впечатлений! Как во сне… – взволнованно говорил Троян.
— Еще бы! Экспромтом получить извещения о повышении в должности и дважды в воинском звании — не фунт изюма, —
заикался от радости Самохин тиская капитана Трояна в объятиях.
— Петро обскакал нас всех — даром, что хромой на ногу и глаз.
— Отмечен за старые и новые заслуги, добавил, протискиваясь к имениннику Мотыльков, и пожимая ему обе руки. — Ты, брат, крепко подзадорил меня призывами в эфире. Услыхал и последний: «На сполох, к семафору”!
Моторный, мотая головой, пробился к другу.
— Дай прижать тебя Петро к груди. «Урал” защитил мой правый открытый фланг… – подкреплял слова жестами чумазый механик-водитель. Тут же переметнулся на Самохина: — Если бы ты не разделался с цепными фашистскими собаками, я не выбрался бы на шоссе. Ну и ночка выдалась…
— Была ночь, будет и день, — напевно произнес Троян и поднялся на носки. Показал на колонну войск, что втягивалась в лес: — Спасибо неутомимой пехоте. Вон уже обгоняет нас на железнодорожном переезде. А вдруг где-то в замыкании появятся машины с красными крестами на бортах… Итак, покидаем волховскую землю, в которой остались навеки побратимы… Пусть и Косте икнется. Где он теперь?..
На рельсы энергично взобрался взбудораженный капитан Сталевич.
— Ого! Братцы в сборе. Это… Это исторический момент. Петро, 15 минут назад мы с тобою расстались возле машины начальства. Оттуда ты поковылял в медсанбат. И вдруг — возле «Урала”. Опять нарушил дисциплину?
— Нет, Алексей Исаевич. На этот раз все законно, — улыбнулся Троян. — Полковник велел медицине определить, в каком экипаже мне сподручнее двигаться на запад — санитарной или тридцатьчетверки.
— Врач осмотрел рану, перевязал и посоветовал не менять места. Поэтому я здесь.
— Знаю. Шучу. Теперь слушай… Кстати, друзья, рассекречиваю три документа относительно Петра, которые поступили в бригаду почти одновременно: с фронта о присвоении первичного офицерского звания /бумажка пролежала почему-то долго в
канцеляриях/, с армии — о назначении на должность вместо Гридина и о присвоении капитанского звания. А кому дают, с того и спрашивают. Забирайся, Петро, в башню «Урала». Мне приказано находиться рядом с тобою, на броне. Это временно, пока заживет твоя нога. В дальнейшем будем ездить, на чем попало — работникам политотдела танки по штату не предусмотрены.
— Проиграл Петро, — сказал Моторный, шутливо сочувствуя сослуживцу. — Моя новая должность заместителя командира танковой роты по техчасти выгоднее твоей — могу заменить любого водителя в роте.
— А я — любого комсомольца в бригаде, — в унисон ответил Трюян.
— Хорошо, что мы выбыли из комсомола, — кивнул Мотыльков Самохину, — иначе всегда висела бы угроза лишиться должности.
— Троян имеет право по указанию начальника политотдела перейти на любую машину, — вставил Сталевич.
— Десантом, — с юмором уточнил Самохин.
— Зато с брони увижу все, что творится на поле боя.
— Своим-то правым, поврежденным глазом? — критикнул Самохин и – начальнически заметил:
— Да, главное вспомнил. Я обещал по достижении Подберезья посадить тебя, Петро, на цепь. Сбегаем к смертникам.
— Не отвлекайся, Саша, на пустяки по двум причинам, — внятно, тоном лектора произнес Сталевич.
— Прежде всего, нашелся человек, горячее тебя — особист. Он первый кинулся к смертникам, и только наклонился к цепи, как был ранен выстрелом уцелевшего фашиста. Ну и после этого весь особый отдел бригады накинулся на огневые позиции цепных вояк… И второе, — хотя ты и повышен в звании и должности — стал командиром танковой роты, — но Петро — не твой подчиненный.
— Капитан? Новый ротный?.. обрадовался Троян. Поздравляю, Саша. А я недоумевал — почему ты начинаешь командовать всем парадом?
Друзья поздравили Самохина со служебным ростом.
1944 год.
— Ладно, капитаны, прием устроите позднее, — прервал Сталевич. — Сейчас мы с Петром отправляемся в танковые экипажи.
— С каким заданием? — поинтересовался Мотыльков.
— Разъяснить танкистам приказ комбрига на преследование противника. Матушка-пехота вон уже направилась проселком на Долово, — капитан Сталевич показал рукой направо, где через железнодорожный переезд двигалась темной массой колонна, в замыкании походная кухня сеяла золотистыми искрами. — Для танкистов дорог нет. Мы, как вышли на железнодорожную линию, так с нее и плюхнемся в снежное море. Броском через леса и болота перережем пути отступления гитлеровцев из Новогорода на запад. Не наступать им на пятки, а упреждать… Будет много неожиданностей.
— Ну и симфония, получается, — озабоченно произнес Самохин. — Пути подвоза остаются в стороне, а мы застрянем в болотах без горючего, боеприпасов…
— Не пророчь, Саша,- поправил Сталевич. — Мы пробьем трассу через заснеженный лесной массив. За нами в хвосте пойдут тылы. Очень важно, чтоб автоцистерны с горюче-смазочными материалами, тягачи с боеприпасами, санитарки медсанбата шли по танковому следу, а не буксовали бы где-то на проселках, забитых войсками соседа. Все. Таково требование комбрига. За дело!
Сталевич и Троян пошли вдоль насыпи к танкам.
Тут же прибежал посыльный и обратился к Самохину:
— Товарищ капитан, вас вызывает командир.
Моторный в свою очередь кликнул к себе механиков-водителей /в спешке Сталевич забыл поздравить его со званием старший техник-лейтенант, а тот не успел сменить старшинские погоны на офицерские/.
И только новый зампотех начал разъяснять своим подчиненным о порядке крепления на броне танка дополнительных бревен для самовытаскивания машины из болота, как услыхал команду: «Вперед!»
И сразу перешел от рассказа к показу. Сел за рычаги «Урала”. Высекая гусеницами искры о рельсы, Т-34 двинулся с места. Перевалил через железнодорожное полотно и начал медленно скатываться с насыпи вниз. Отведенная назад пушка
смотрела вверх, как зенитка. Небо на востоке светлело, а над головой темнели хмурые тучи.
Они как бы предвещали что-то недоброе.
Т-34 зарывался в снег носовой частью все глубже и глубже, и напоминал крота, который намеревался: уйти под землю.
Напряженную тишину нарушил чей-то тревожный голос:
— Отчаянно полез. Засосет трясина по башню.
С разных сторон доносился едва слышный говор.
— Нет. Видать, глаз набит — по деревьям угадывает характер болота.
— Как бы мигом не ухнул на тот свет. Такое уже бывало…
— Тихо! Не к месту болтовня.
Танкисты сгрудились на краю насыпи. Замерли. Затаив дыхание, не отрывала глаз от бронированного разведчика, подкрылки которого уже стали бороздить снег. Гул мотора, казалось, нарастал слишком робко сдержанно.
И вот у многих вырвался вздох облегчения. Нос танка пересталопускаться вниз, больше того, передняя часть гусеничной цепи вспучила снег, и на поверхности показался ленивец. Весь корпус будто покачивался на каком-то возвышении. Потом он выровнялся и медленно двинулся по снежной равнине. Высокие, тонкие березки мягко ложились перед гусеницами, с хрустом прятались под ними.
— А что же будет дальше, когда встретятся толстые деревья, или замаскированные ледком и снежком болота? — спросил долговязый механик-водитель, вытянув шею. Ему никто не ответил.
К удивлению многих, Моторный перешел на вторую скорость. «Урал» будто от чего-то освободился, взял силу и стал быстро углубляться в лес.
— Хитер-монтер, прямолинейно фугует. Знает, чем пахнет маневрирование, — нетерпеливо заметил долговязый водитель.
— Молчи. Посмотрим, какие ты покажешь маневры, — оборвал сосед в замасленной фуфайке.
Между тем, Моторный не останавливался, лихорадочно обдумывая, как быть дальше. Понимал что положение его критическое.
В самом деле, толщина снега в лесу в два раза превышала допустимый предел, при котором танк мог двигаться. И то, что он не проваливался, казалось чудом. Эту свою удачу опытный механик-водитель мысленно объяснял себе так. Гусеницы не зарывались в снеговую толщу, а накатывали сверху, уплотняй ее потому, что сваленные длинные деревья образовывали перед танком подобие колейного моста. Обосновав причины «чуда», Моторный выбирал момент, когда под машинойоказалось несколько довольно толстых стволов берез, и плавно останавливался на них. Вылез наружу, осмотрел колею и пришел к выводу: гусеницы уплотнили снежный покров наполовину его толщины, и вся тяжесть танка перекатывалась, как по утрамбованным древесным опилкам, вовсе не доставая твердой почвы.
Прибежали механики-водители. Моторный объяснил:
— Весь «секрет» заключается в том, чтобы не допустить ни малейшей пробуксовки гусениц. Надо, чтобы они, хотя бы медленно, но подминали снег под себя. Лучше всего выбирать маршрут по зарослям берез, сосен, диаметром 10-15 сантиметров. На их свалку затрачивается немного усилий, зато резко улучшается проходимость. Делать повороты следует только тогда, когда ощущаешь под собою надежный деревянный настил. На открытых полянах маневры опасны…
— Там, где нет растительности, жди коварного болота, которое только и ждет, чтоб засосать тебя, — добавил кто-то.
— Всем ясно? — спросил командир.
— Сверху ясно — под ногами темно, — послышался неуверенный голосок.
— Действовать так, как показал заместитель командира роты по техчасти старший техник-лейтенант Моторный, — приказал командир.
И танки на широком фронте начали спускаться с насыпи. Лес огласился гулом моторов.
Удача. Вскоре, однако, выявился ее капризный характер.По трассе Моторного безостановочно прошло только три танка. Четвертый на открытой поляне замедлил ход. Гусеницы стали выбрасывать назад все больше и больше снега. Наступил момент, когда гусеничная цепь заскользила по каткам, а машина — ни шагу вперед.Сзади росли на глазах два насыпных холмика. Т-34 садился все нижеи ниже. Под днищем снег, уплотняясь, издавал звуки: «Хруп-хруп… Гуп-гуп…» — будто кто-то бил палкой о подушку. Механик-водитель продолжал увеличивать обороты коленчатого вала двигателя. Из-под гусениц полетели черные комья земли. Запахло гнилью, прелым листом.
К машине кинулся старший техник-лейтенант, размахивая руками накрест:
— Глуши мотор! Зачем насиловать и без того послушную технику? Момент упущен. Надо другие меры принимать.
Из люка механика-водителя вылез долговязый танкист в белом полушубке. Осмотрелся кругом. Безнадежно махнул рукой:
— Хана. Засел основательно.
Моторный негромко сказал:
— Без паники. Снимай кожух. Подвяжи к тракам самовытаскиватель. На помощь прибыли танкисты с соседних машин. Старший техник — лейтенант лег под выхлопными трубами. Разгреб руками спрессованный днищем снег. Затем сел около кормы. Разминая пальцами снежные комки, как бы читал по ним:
— Напрашивается следующее… В дальнейшем надо иметь в виду, что в результате движения по одному следу нескольких машин, в зависимости от глубины и давности снежного покрова, температуры воздуха, толщины настила, потревоженный гусеницами снег превращается в сыпучий песок или уплотняется и своей структурой напоминает пористую резину. В первом случае танк сядет на днище, не успеет добраться гусеницами до твердой почвы; во втором с потугами, скрипом продвинется немного, пока мотор неперегреется. У нас первый случай. Отсюда, ясно: по одной колее в данных условиях нельзя пропускать более трех-четырех машин.
Механик-водитель сел за рычаги. Включил первую передачу. Танк увлекая за собой гусеницами привязанное к ним поперек, напротив ленивцев, массивное бревно, продвинулся вперед на длину опорной поверхности гусеничной цепи /то есть, на 30 траков из 72/. Бревно очутилось сзади, дошло до подкрылок и остановилось. Надо было отвязать его, перенести к носовой части и повторить прием сначала.
Петли стального тросса сильно затянулись. Ослабить их, развязать — дело сложное, трудоемкое. Танкисты обожженными на морозе и исцарапанными о проволочные заусеницы пальцами, после долгих мучений разобрали узлы упругого стального каната, отняли бревно от гусениц и перетащили наперед. Там вновь прикрепила бревно-самовытаскиватель к обеим гусеницам. Механик плавно тронул машину…
Так, короткими шажками танк продвигался по заснеженной поляне. Когда под гусеницами появился настил из поваленных деревьев, он свернул в сторону и начал пробивать себе новую трассу.
В голову колонны прибыл командир бригады.
— Так дело не пойдет, — резко выразил полковник неудовлетворение. — Слышите стрельбу справа? Это сосед, пехота с боями обгоняет нас. Позор! Мы обязаны первыми вырваться на коммуникации врага. А для этого следует двигаться не черепашьими, а семимильными шагами. Инженер, организуй прокладку маршрутов для танков. Привлечь для рубки леса всех бойцов, кроме танковых экипажей.
Энергичные меры сразу изменили картину.
Скорость движения увеличилась. Но до намеченного рубежа былоеще далеко. Конец январского дня застал танки на речке Пестова. Еепойма оказалась рыхлой, болотистой. Ночью стало еще труднее переправляться.
Командир и работники штаба не отходили ни на шаг от тех, кто заготавливал колейные мосты, самовытаскиватели, фашины.
Лейтенант Аглушевич, поднимая за комель длинную сосну, сетовал:
— По рукам и ногам связывает эта тяжелая техника. Без нее, где бы мы уже были…
Комбриг услыхал и саркастически добавил:
— Эх, были бы мы не танкистами, а стадом диких коз, давно бы выскочили наперерез врагу… — но тут, же осекся. Глаза сверкнули боевым задором и решимостью — Стоп! Ану-ка, кто там жалуется на технику?
Молчание. Каждый знал крутой нрав полковника и не спешилвступить в разговор.
Лейтенант Аглушевич остановился. Отряхнул с себя шелуху сосновой коры и доложил, как в строю:
— Ты? Храбрый разведчик? И превратился в мужика-дровосека? Сейчас же брось топор начхиму. Ко мне! Дай карту. Зови разведчиков. И в этой ситуации каждому следует исполнять свою работу. Понял?
— Да я с душой. Но по вашему приказу…
— Молчать!.. А впрочем, молодец. Ты косвенно натолкнул меня на дельную мысль. Сказано: критику надо любить… — и восхищался, и хвалил, и упрекал кого-то полковник.
Поставив задачу разведчикам и отправив их, комбриг распорядился:
— Всем, кроме танковых экипажей, строиться!
Через пятнадцать минут большая колонна мотострелков, связистов, штабных работников во главе с комбригом двинулась пешком вслед за разведчиками. Среди идущих энергично покачивалась полковничья папаха.
— Танкисты, не терять с нами связь, — резко бросил назад комбриг, — Мы скоро там, впереди, заварим кашу, а вам расхлебывать. Поэтому торопитесь.
С полуночи местность и обстановка изменились.
Заготовленные в избытке средства улучшения проходимости танков не понадобились. За речкой Пестовой начался густой лес, с диаметром стволов сосен, берез 35 и более сантиметров. Такие деревьятанки сбивали тараном, а более толстые экипажи спиливали. В дальнейшем борьба с лесом усложнилась. Для нанесения сильного удара требовался разгон машины. А глубокий снег не позволял разогнаться.
Как выяснилось впоследствии, экипаж передовой машины, расчищая путь, оставлял слишком высокие пни, которые мешали развить большую скорость. Механику-водителю удалось свалить две сосны, на третьей он забыл отключить главный фрикцион, что привело к большой перегрузке трансмиссии и поломке шестерен. Танк вышел из строя. Второй водитель учел опыт своего предшественника, зато допустил другую оплошность — в темноте во время разгона уклонился в сторону — «увел» снег — и машина всей своей 30-ти тонной тяжестью нанеслаудар по старой, коренастой березе не лобовой броней, а ленивцем, отчего его ось срезало, как ножом.
Обстановка вынудила сосредоточить внимание на прокладке только одной трассы.
Флегматичный в прошлом Моторный начал злиться. Подошел к люку «Урала, высадил механика-водителя, занял его место и сказал сухо:
— Эта чудо-машина давно доказала, что способна без ущерба для себя таранить фрицевскую стальную махину, а тут, на мягкой древесине допускаем поломки стальных осей, зубьев… Нельзя так!.. — и он взялся за рычаги. Перегазовал, отъехал немного назад и с большого разгона «Урал» свалил несколько деревьев подряд. Моторный, молча, вылез из танка, кивнув механику-водителю: мол, действуй, как показано. Сам наблюдал со стороны. Вмешивался подачей сигналов.
Во второй половине ночи наладилось, хотя и медленное, но
уверенное продвижение всей колонны.
Лес впереди огласился ружейно-пулеметной стрельбой. Небо озарилось ракетами.
— Штаб и мотострелки уже ведут бой, а мы тут копаемся… Зла не хватает… — неистовствовал с палкой в руке капитан Самохин, бегая взад и вперед вдоль колонны.
Люди выбивались из сил. Соленый пот заливал глаза.
Звуки близкого боя подстегивали, ободряли. Всем казалось, что если удасться справиться с таким сложным, изнурительным делом, как преодоление глубокого снега и густого леса, то все остальное — пустяки, будто само собою приложится. Никто не задумывался над тем, что переносимые беды — только прелюдия еще более тяжелых и грозных событий.
Трескотня в лесу нарастала. Вспышки огней бледнели. Светало. Моторный, проваливаясь до пояса в снег, вел за собой танк.
В фуфайке, с шапкой-ушанкой в руках, потный, хрипло кричал;
— Давай, давай!.. Чуть правый рычаг… Теперь — прямо! — и радовался, что гусеницы едва не наступали ему на ноги.
Машина будто скатывалась с возвышенности. Он старался, изовсех сил перейти на бег, но увязал в рыхлом снегу глубже и глубже.
Неожиданно исчез с головй в белой пучине. Послышался тревожныйокрик. Треск сучьев, и через минуту-другую взобрался на корягу —простоволосый, мокрый, дымившийся паром. Жестами потребовал:
— Стоп!
Достал из планшетки карту, стал ариентироваться.
Так и есть, — дрожал всем телом. — Поперек пути встал ручей Уваров, замаскированный дедом-морозом.
Троян с высоты башни «Урала» увидел извилистое углубление в снегу, что навело его на сравнение:
— Точь-в-точь, как змея переползла дорогу. Комсомольцы, разведаем, — за мной! — он вооружился ломом и двинулся к Моторному.
Бросил на плечи друга свой полушубок, а сам, барахтаясь в снегу, старался определить характер берега ручья, толщину льда. Результат неутешительный: сразу же за слегка примороженным кочковатым болотом лом ушел в бездну, из отверстия во льду забулькала желтоватая вода.
Лес наполнился треском. Эхо волнами донесло истерическую пальбу. Это впереди бой достигал высшего напряжения.
Самохин, Троян и Моторный не успели обменяться вопросительными взглядами, как на противоположной стороне ручья выкатился из-за деревьев автоматчик, похожий на колобка. Не переводя дыхания, он в темпе отдаленных пулеметных очередей громко зачастил, будто отвечая на озадаченную мимику танкистов:
— Немедленно танки вперед!.. Комбриг требует…
Наперебой посыпались встречные вопросы:
— Каково положение наших?
— Далеко они отсюда?..
«Колобок» добежал, ухватился за борт машины, чтоб не упасть, и строчил в том же темпе:
— Мотострелки оседлали участок железнодорожной насыпи. Ведут бой с противником за платформу Болотная. Отсюда — 4 километра. Надо помочь огоньком хотя бы из двух машин.
— Каковы подступы? — спросил Самохин.
— Крупного леса осталось всего километра два. Дальше — мелколесье, замаскированные снегом мхи.
Троян развернул карту.
Название платформы говорит само за себя. Справа — болото Долговский мох. Чтоб не угодить в непроходимые топи и не допустить внезапного нападения врага, надо сейчас же выслать разведку.
— Из экипажей, нельзя вырвать ни единого человека – сказал Самохин. — Они за ночь не только наломали много березовых дров, но и покрошили немало стальных деталей на своих машинах. Поэтому и ремонтников не оторвешь. Надо срочно ликвидировать повреждения, восстановить боеспособность всех танков…
— И все-таки, придется часть ремонтников двинуть вперед, — предложил Троян.
— Ох! — простонал Моторный; выразительный жест у подбородка усилил словами — Они все заняты по горло неотложными ремонтами.
— Что ж, — тупик? — уставился Самохин на запад, где вершины елей помрачнели от черных клубов дыма, и сам себе ответил: — Не там, а здесь — ткнул палкой в прорубь, из которой распространялось потемнение льда и снега, будто рана кровоточила. — Неизвестно, какие сюрпризы ждут нас на этом чертовом ручье…
Командир роты не договорил. Справа раздались близкие автоматные очереди, а слева послышались тревожные возгласы — по следам «колобка” мчался человек в белом полушубке, жестикулируя:
— Братцы, немедленно разверните башни — к вам подбирается группа врагов.
Все узнали — бежал к танкам капитан Сталевич.
— По машинам!.. Ремонтники, — за гранаты, автоматы и — ко мне, — распорядился капитан Самохин.
Стрельба — повсеместно. Засвистели пули. Захлопали разрывные.
С деревьев посыпалась снежная пыль, отчего, казалось, потемнело.
— И как вы додумались наступать с пушками, повернутыми назад? спросил капитан Сталевич, прилаживаясь из-за ствола березы ударить из автомата по отдаленной куче хвороста/над ней взвивались дымки вражеских выстрелов/.
— До сих пор нам препятствовал не фашист, а лес. Мы пробивали себе путь вперед не огнем оружия, а лобовой броней, — ответил Самохин, взбираясь на передний танк. От экипажей он потребовал: — Развернуть башни на 180 градусов.
— Не можем, — пожаловался кто-то сзади.
— Лес не пускает, — уточнил другой.
Из пушки «Урала” грянул выстрел. Затем залился веселыми очередями ДТ. Второй за ним танк двинулся вперед, потом назад. Его башня дернулась вправо, влево, но ствол пушки так и не мог повернуться в сторону противника — упирался, то в сосну, то в березу.
Выявляется еще одна загвоздка — в густом лесу не так просто маневрировать огнем из танка, сказал, заряжающий, принимаясь рубить топором дерево.
Капитан Самохин вылез из башни Т-34. Спрыгнул на землю.
— Стрелять только по целям! — и увлек за собою ремонтное отделение в сторону автоматных дымков.
К группе присоединились капитан Сталевич и автоматчик, похожий на колобка.
В разгар огневого боя к «Уралу» подкатился «колобок». Оспаривая скорострельность ДТ, он без точек и запятых выпалил:
— Товарищ капитан, командир роты требует накрыть пушечным огнем скопление вражеских солдат — до двух десятков — вон, среди старых берез с обломанными ветвями. Продолжать переправляться.
И повернулся уходить.
— Подожди, — остановил Троян. — Заберись-ка на сосну и скорректируй стрельбу.
Через минут десять с кроны высокого рыжего дерева доносился резкий голос:
— Перелет… Еще перелет… Правее двести метров… Цель!
Троян выпустил еще два снаряда. ДТ звучно поставил многоточие.
— Отлично! — доложил наблюдатель.
Танк прекратил стрельбу. В лесу наступила тишина.
— Можно идти? — неузнаваемо медленно проговорил «колобок».
— Сначала слезь с сосны, затем — бегом к командиру роты, — улыбнулся Троян.
Моторный потел впереди головной машины — готовил переправу.
Рядом возобновились очереди из ППШ. Это Самохин прочесывал ближайшие подозрительные заросли. Под музыку дальней и близкой стрельбы экипажи сваливали деревья, подтаскивали их к ручью, перекидывали на противоположную сторону, соединяли бревна скобами.
Тем временем, Самохин прочесал огнем из стрелкового оружия ближайшие подступы к ручью, разведал выходы из него и вернулся к своей колонне.
Танки двинулись по колейным мостикам.
Сталевич вместе с автоматчиком направился к месту боя мотострелков. В его голове вырисовывался доклад комбригу: «Через десять минут первые два танка выйдут на западный берег Уварова и двинутся вглубь леса. Этому предшествовало… Рота фашистских автоматчиков пыталась внезапным налетом на переправу перебить танковые экипажи. Самохин во главе ремонтников, — которые, оказывается, отлично владеют не только молотками, ключами, но и автоматами, гранатами ликвидировал угрозу. Пока исправные танки пробиваются к платформе Болотная, за неисправные возьмутся ремонтники… Предполагается, что они догонят передовые машины и вступят вместе с ними в бой».
На берегах глухого лесного ручья кипела жаркая работа. От глубокого снега ничего не осталось. Гусеницами, ногами он спрессован, покрыт деревянными настилами, фашинами, гатями, местами превращен в рыхлую массу, перемешан с болотом.
Переправа наладилась по двум колейным мостикам.
Троян, ковыляя с палкой в руке, помогал экипажам укреплять настилы подручными материалами, обеспечивал беспрерывность движения танков.
Наконец, колонна переправилась. На восточном берегу торчалапоследняя машина. Танкисты регулировали натяжение гусениц.
Кто-то из них предложил:
— Заровнять бы нашу глубокую пахоту на подступах к ручью, иначе мороз так скует эти колдобины, что вслед за нами не смогут пробраться ни санитарки медсанбата, ни грузовики с продовольствием, кухнями, а курсак уже просит щей.
— Не беспокойся, — возражает чей-то басок, — я уже слышу урчание тягача с боеприпасами. Тыловики заровняют наши свежие следы, а нам некогда — надо спешить вперед, подальше от этого лирически — томного ручейка.
Троян в это время прислонился в изнеможении к стволу березы.
От белоснежной коры с темными полосками как бы передавалась переутомленному телу неизъяснимо-приятная нега. И последние слова танкиста, произнесенные нетвердым баском, вызвали в воображении картины недавнего прошлого.
… Яркий летний день на берегу безымянного ручейка у деревни Речка. Он и Валя смотрят в воду… В воду или, как в воду?.. Может, от той трогательной встречи ничего не останется, кроме фото счастливых «рыболовов»?.. Ладно, не ной. Могло быть хуже…
…Ночь с 31 декабря сорок третьего на I января сорок четвертого… Блиндаж опустел. И все же он встречал Новый год не один. Вышло как-то стихийно. Прежде всего, затопил печку. Обновил нары свежей хвоей, устлал ею земляной пол. Сервировал стол на две персоны. Поправил бумажные ленточки, шишки на маленькой стройной елочке. Сел с видом человека, который ждет задушевного друга. Как настроил себя, так и получилось. Когда ударили московские куранты, поднял жестяную кружку и обратился к фотокарточке-открытке, которая выделялась среди зеленых ароматных веточек елочки: «С Новым годом, Валя!» Губы девушки словно шевельнулись. А глаза! Он встретился с ними, будто с живыми. Куда бы ни шагнул в блиндаже, они с фотоснимка сопровождали его. Долго в ту ночь мысленно разговаривал с Валей. Под утро эту немую сценку запечатлел на пленке вездесущийСоловьев.
Полудремотное состояние нарушил сильный голос:
— Петро, проснись, а то отстанешь. Это — Самохин.
— Чую, где ночую, а не знаю, где сплю, — встрепенулся Троян.
Слова заглушило натужное завывание двигателя. И он двинулсяк машине.
Т-34 взбирался на западный берег. Носовая часть вдавливала в снег прибрежный кустарник, а корма наполовину утопала в жидкой грязи. Перегретый мотор, казалось, надрывался из последних сил.
«Наверное, этот Уваров, — думал Троян, — летом такой же красочный ручей, как и возникший в воображении и запечатленный на фото… Тот, возле деревни Речка, вызвал восхищение, а этот — возмущение, негодование: он встретился поперек пути… Та незабываемая белая ночь в березовой роще под тихим Шумом мигом промелькнула, как сон, а этим, морозным, светлым ночам, с грохотом, треском, иллюминацией ракет, разноцветных трасс в воздухе, нет конца. Эх, ночи, ноченьки, леса, лесочки, ручейки, ручеечки, холодные зорьки!.. Как вы обостряете чувства!..» — дал волю Троян поэтическим образам.
Лицо посуровело. Появилось новое выражение, которое означало: «Да, вперед! Надо приблизить время, когда над всеми безымянными ручейками человеческого счастья будет раздаваться не вой пуль, а трели соловьев».
И он кинулся к танкистам.
К авангарду роты Самохина присоединились у самой платформы Болотная, и спешно отремонтированные танки / ни одна машина не осталась в лесу/. Дружный орудийный огонь с места помог стрелкам овладеть платформой.
Все тридцатьчетверки, возглавляемые «Уралом», с мотострелкамина броне, повернули на юго-запад, быстро пронеслись по открытомудвухкилометровому полю, перемахнули через два моста, ручей Шуматинский и появились на окраине крупного населенного пункта Вяжище.
События развивались так быстро, что многие не успевали опомниться.
— О, если бы мы знали, что у фашиста настолько тонка кишка, можно было бы начать гнать его взашей пораньше, — крикнул автоматчик, обвешанный трофейным оружием.
— Твоя кишка была бы не толще, если бы наши тридцатьчетверки задержались в лесу, хотя бы на полчаса. На нитке все держалось, — ответил тоном знающего человека «колобок”.
Бойцы не успели обменяться впечатлениями и разглядеть придорожные предметы, как танки снежным ураганом проскочили Вяжище и возле стогов сена, на юго-западной окраине, веером разошлись в стороны.
Враг только здесь пришел в себя и огрызнулся сильным артиллерийско-минометным огнем.
Разведчики и мотострелки спрыгнули с машин. Двинулись вперед, «прочесывая» огнем местность, определяя ее танкодоступность.
И — опять преграда. Речка Соковая. Из-за нее загрохотали артиллерийские залпы, затрещали пулеметы, автоматы. Танки попятились к естественным маскам — кустарникам, редколесью. Завязался огневой бой.
С угасанием дня активность той и другой стороны заметно падали. Становилось очевидным, что все было на пределе или на исходе: светлое время, физические силы, боеприпасы, горючее…
Моторный увидел Самохина на краю луговой поймы. Командир роты искал танкопроходимые участки. Зампотех, приближаясь к старому сослуживцу, уже издали угадывал, что у того рождался скоропалительный план форсирования Соковой. Он окинул оценивающим взглядом вражескую сторону, простреливаемую вдоль и поперек низину, выдвижение и маскировку своих войск и начал тоном глубокого обоснования:
— Саша, боевая техника нуждается в заправке. И люди… Колесный транспорт отстает. В сумерках можем так засесть, что до утра не выберемся. Экипажи падают от усталости…
Монолог прервал новый работник штаба бригады майор Дончак. На его смуглом лице со скулами монгола, глазами и усами запорожца дернулись нервные складки:
— Намеченный рубеж достигнут. Окопаться. Осмотреться.
Самохина удивила безличная форма странного распоряжения.Критически-колючий взгляд командира танковой роты заставилмайора крякнуть. Вскинутые вверх чуть раскосые брови, опустились.
— Это приказ комбрига, — и мягче, по-дружески, добавил: — Танковый тягач послан навстречу тылам. Как только появится горючее, масло, сразу вперед. Боеприпасы еще есть. Кухонь ждать не будем. НП бригады я оборудую в монастыре. Конечно, ненадолго.
Командиры подразделений приступили к укреплению захваченного рубежа.
Бойцы в сумерках старались использовать малейшую возможность, чтоб переобуться, обсушиться, перевернуть портянки, разогреть сухой паек — у кого он остался.
Боевой день закончился, но приключения — нет.
Группа связистов и автоматчиков, очищая деревню от остатков противника, вошла в помещение Вяжищского монастыря. Внутри все разграблено, разбито. На полу что-то дымилось. Бойцы осторожно ступали, осматривались. Многих привлекли тлеющие угли — догорала церковная утварь. Кто-то сдвинул носком валенка в кучу обгоревшие куски дерева. Костер разгорелся. Под сводами высокого помещения раздавался треск горения — гулко и будто угрожающе.
Круг любителей погреться, посушить валенки, портянки все увеличивался. Потекли разговоры о скоротечном бое за Вяжище, в котором успели отличиться спокойный, флегматичный ветеран бригады боец Чернигин, под стать ему рядовой Гава. А лихой разведчик Аглушевич с налета захватил минометный расчет противника.
— Кто бы теперь отличился в другом: чтоб по какому-то волшебному мановению этот вонючий дым заклубился ароматным паром наваристых щей, — мечтал чей-то простуженный фальцет.
— Вишь, чего захотел. Сначала понюхай вот это, — выдернул здоровяк-автоматчик из-под ног бойцов толстый соломенный мат и накрыл им костер.
Мокрая плетеная подстилка не горела, а окутывалась едким дымом. Ни у кого не было желания поправить костер. Одни выжидали, когдасырая солома подсохнет и загорится пламенем, другие, разморенныетеплом, вяло клевали носом.
И вдруг — взрыв! Воздушная волна вырвалась, как бы из-под земли, и гулко отразилась под куполообразным потолком. Из костра взметнулись вверх черные клубы дыма, пепла, каскады искр. Во всем этом мгновенно утонули те, кто окружал костер. Иные кубарем, по-пластунски устремились к выходу.
В это время в дверях появился сухощавый штабной майор. Его жилистое лицо вытянулось, раскосые брови поползли на лоб:
— Что здесь произошло?
Люди, совершенно подавленные, испуганно уставились друг на друга, не узнавая лиц, — мешала густая пелена серого тумана.
— Грелись кружочком возле огонька и неожиданно… — начал кто-то.
— … взрыв… — невнятно продолжил сосед.
— Бог наказал за богохульство, — хрипло, со смехом пошутил боец с катушкой за плечами. Казалось, он первый овладел собою.
— Почему здесь грелись? Связисты, где вы? Черт возьми, опуститесь с облаков. Я приказывал вам ликвидировать пожар в монастыре и немедленно подготовить рабочие места. А вы у костра устроили заседание синклита… Забыли о бдительности. Противник испоганил древнее сооружение, зажег его, возможно, оставил под фундаментом мины, а тут расселся цыганский табор. Есть пострадавшие? — послышался в последних словах майора Дончака тон какой-то угрозы.
Из клубов дыма и пепла показывались, изумленные, запачканные сажей физиономии. Одни отряхивались, от золы, другие, прыгая босиком по ледяному каменному полу, разыскивали свои портянки, валенки. Слышался сдержанный смех; кто-то кого-то разыгрывал. Из серого полумрака поблескивали только глаза и зубы.
— Что здесь все-таки произошло?» — надрывался тенористый голос майора.
— Ничего особенного, — доложил после длительной паузы черненький сапер. — Гитлеровцы перед отступлением разожгли огонь… Промерзший, составленный из каменных плит, пол, медленно прогревался, накалялся. В конце-концов, одна из плит, по-видимому, лопнула, из-под нее и вырвались накопившиеся под полом нагретые испарения, обдав людей всем содержимым костра. Жертв нет.
— Разогнать этот архаровский синклит! Ликвидировать пожарище! Установить мне стол для карт… Полутыкин, вызовите Глущенко… Что?… Я давно говорю: в бою не погибнешь —раньше смерти доконает эта, трижды распроклятая связь!.. Взорвут тебя здесь архаровцы ни за понюх табаку… — повторяло монастырское эхо слова раздраженного Дончака.
И только склонился майор Дончак над топографической картой, освещаемой гильзой-коптилкой, как зазумерил телефон. Он схватился за трубку и вытянулся в струнку, выражая всем своим видом уставное «Есть!».
Оказывается, поступила команда свернуть связь, подготовиться к выступлению.
За Соковой полыхало огромное пожарище.
Они — во вражеском тылу. Напряженность — критическая.
Идея, воля — осознанное стремление к намеченной цели — и молодость не знала усталости и преград. Советские танкисты и автоматчики, обладатели того, другого и третьего, не дождавшись тылов /кроме двух автоцистерн с горючим/, ошеломили врага внезапным ночным ударом. Опрокинули жиденький заслон и продолжили наступление в юго-западном направлении, вдоль речки Соковая / предположение, что вражеские силы, сосредоточенные на противоположном берегу не рискнут форсировать речку и поэтому не увяжутся следом, пока подтверждалось/. Расстояние от застрявших на танковой трассе тылов увеличивалось, — и это никого не удерживало, — зато уменьшалась дальность к цели, а это умножало силы, наращивало темп наступления.
Стальная лавина с грохотом неслась среди мелкого кустарника.Следом завихрялась снежная пыль. Из выхлопных труб вылетали клубы отработанных газов, пронизываемых стрелами искр. Создавалось впечатление, будто движение сопровождалось, облаками с грозовыми разрядами, и глубокий снег, ночной мрак — вовсе не помехи.
В дымке пасмурного утра выросли впереди, в виде вогнутой излучины смутные очертания высокого и густого леса.
Заминка. 0риентирование. Было установлено, что предстояло углубиться в лесную чащу на километр, форсировать Соковую и достичь проселка, который выводил к железнодорожной линии.
Скорость движения резко упала. Бойцы вновь взялись за топоры, пилы.
Командир бригады нервно расхаживал вдоль колонны. Всех поторапливал. Вдруг замедлил шаги. Прислушался к эху отдаленного паровозного гудка. И стал мрачнее тучи. Затем энергичнопробрался к головному танку, который уперся в стену толстых сосен. Из-за них доносились все громче и громче прерывистые сигналы паровоза.
— Дает о себе знать. Напоминает, зовет, торопит, — зло твердил полковник про себя. — Эх, пуститься на все тяжкие, а железную дорогу перерезать… — И тут же по опыту прошлого — решение: — Экипажи, через час достигнуть железной дороги. Хоть на руках вынесите танки отсюда. Остальные — за мной!
Капитан Сталевич бросил на ходу:
— Опять, Петро, вынужден временно покинуть тебя. Надо успеть… Слышишь, как фриц тревожится, — и он махнул рукой на юг, откуда доносились прерывистые гудки.
Троян погладил по стволу пушки:
— Вот эта иерихонская труба как рявкнет, так сразу все успокоится…
Авангардом стала пешая колонна. Курс — напрямик, через лес на юг, подальше от Соковой и проселка.
— Враг ждет нас на железнодорожном переезде, а мы – гульк на середине перегона, — объяснял комбриг в пути смысл нового маневра, шагая по пятам разведчиков.
Идти становилось тяжелее обычного. Заметно изменилась структура снега. Наст ломался, люди проваливались в сыпучий крупнозернистый песок.
Через полтора часа разведчики во главе с лейтенантом Аглушевичем увидели в просветах между деревьями белую прямую полосу железнодорожной насыпи. В том месте, где лес перешел в жидкий кустарник, остановились. Залегли, настороженно прислушиваясь. Слух улавливал морозный скрип с повизгиванием колес, саней, фыркание лошадей, чужие выкрики.
Лейтенант повернул голову к маскхалату справа и велел полушепотом:
Терновой, бегом назад. Предупреди, чтоб наши прекратили шум. Доложи полковнику, что за линией железной дороги движутся вражеские войска. Слышится немецкая речь. Пока вернешься, мы определим силы врага.
Слева второй разведчик успел захрапеть. Аглушевич толкнул в бок:
— Гава, выспался под носом у фрица? Молодец. Теперь заберись на вершину сосны и посмотри, что делается за насыпью.
Сам лейтенант пополз вперед. Когда кончился кустарник, он уклонился вправо, впился глазами в дальнюю опушку, которая своим выступом почти касалась насыпи, недалеко от моста. Дальше краснела железнодорожная казарма. Разведчик сличил увиденное с картой.
Разъезд Нащи. Отлично, — определил он про себя и вернулся назад.
Гава слез с дерева.
— Железная дорога и какой-то маленький полустанок справа свободны. Вдоль южной стороны насыпи прет видимо-невидимо конного и пешего фрица, — доложил Гава.
— Тебе не померещилось спросонья?
— Нет. Правда, как в сказке, просто глазам не верится.
— Понятно. Жаль, что воинский эшелон успел скрыться. Пехота оступает из Новгорода через Нащи на Батецкую. Но сколько — отделение, рота, батальон, дивизия?
— Разве взбудораженный фриц дасться, чтоб его считали? Конца краю не видать. Гайда, знатця, скорее лупить проклятого, а потом посчитаем.
— Не дури головы. Проползи вон к тем дальним соснам, осторожно залезь на самую высокую, ветвистую и постарайся установить, какое оружие в колонне и количество. Я махну за мотострелками.
Спустя полчаса, автоматчики, пулеметчики стали занимать исходные вдоль извилистой опушки леса. Гава с новой наблюдательной точки дополнил свой доклад:
— Рота, вооруженная винтовками, идет походным строем, за длинным обозом. Разрыв десять метров. Взвод солдат с автоматами… Еще рота… И еще больше батальона… Напротив железнодорожного моста застряли два орудия и несколько повозок. Пехота копошится на широком фронте вдоль ручья… На двух санях — трубы, похожие на минометы… Знатця, наступали танками, а тикают санками…
— Ладно. Ясно, — прервал сухощавый штабной майор. — Прыгай с сосны быстрее прямо в снег. Здесь я оборудую НП, и все остальное сам увижу. — И резко кинул в лес: — Полутыкин, ко мне… Глущенко, твоя задача…
Тем временем капитан Сталевич с лейтенантом Аглушевичем приблизились к железнодорожному мосту через Соковую. Капитан ахнул:
— Сроду не представлял, чтоб представители «нового порядка» могли так беспорядочно драпать.
Оба вернулись на НП.
— Невиданная картина! — с подъемом сообщил капитан. — «Завоеватели» отступают кто, на чем горазд — на повозках, санках, волокушах. Тянут с собой всякое барахло. Такой исторический момент — бесподобен… Сфотографировать бы, а затем гвоздануть…
— Где обретается ваш Соловьев? — перебил полковник.
— В тылах.
— Вызвать!
В конце доклада лейтенант Аглушевич с юмором дабавил:
— Сейчас там, за насыпью творится бордель, хуже, чем бывало у нас.
— Но, но! Нашел сравнение, — погрозил комбриг пальцем, и, насупив брови, приказал: — Вперед!
Северные белоснежные склоны насыпи зарябили, зашевелились бойцами. Люди поднимались к железнодорожной линии, но никто не высовывался над рельсами.
По общему сигналу с НП поднялись и выскочили на полотно дороги автоматчики, поддержанные огнем пулеметов, и тучей хлынули на вражескую колонну. Десятки бойцов бороздили снежную целину, утопая в рыхлом песке, затянутого сверху слабой ледяной коркой.
Вот разведчик Гава, в оборванном, грязном маскхалате, как фантастическая птица летит с насыпи в самую гущу врагов. После двух-трех коротких очередей из ППШ, овладел первым трофеем — широкими, вместительными санями, где на ящиках, брезентовых узлах сидело отделение передрогших гитлеровцев. Все они, толкаясь, старались погреться от железной печки, из трубы которой вился дымок.
— Замерзли, ироды?! — крикнул Гава. — Я вас так, знатця, нагрею, что и на том свете не почувствуете холода. Лодыри, слюнтяи — даже драпать надумали с комфортом, — и он провел очередью по ним.
Уцелевших сталкивал с саней, глушил прикладом:
— Ай-я-я! Было холодно, а тут припекло. Думали гут, а вышел капут.
Под ноги передней упряжки скатился с насыпи автоматчик – «колобок». Из ППШ — трр-р-р!.. трр-р-р!.. — и повозка с минометами в его руках…
— Эй, славяне, кто из вас минометчики? Налетай! Уступаю. Смотрите, впереди сани с минами улепетывают прямо в Нащи. Быстрее! — опережая скорострельность пулемета, заливался, «колобок”.
Фашисты в этой, казалось бы, совершенно безнадежной обстановке, и рукопашной избегали и в плен не сдались. Врассыпную шарахнулись в снег, отползали в сторону и отчаянно отстреливалисьиз винтовок, автоматов, бросали гранаты. Многие палил по своим.
Напряженная кровавая схватка подходила к концу. Бойцы начинаютловить перепуганных лошадей, и прежде всего, пытались вывезти из разгромленной колонны оружие и боеприпасы. Первые сани с минометами, вторые с боеприпасами заскрипели по окровавленному снегу под железнодорожный мост. Не успели они приблизиться к насыпи, как по лошадям ударил вражеский пулемет. Вблизи рявкнуло несколько малокалиберных мин.
Со стороны Новгорода показались новые гитлеровские войска. Не доходя поля боя, фашисты останавились, перестраиваясь в боевой порядок. Затем двинулись в наступление — организованно, как на тактических занятиях.
Оживились и вражеские солдаты под Нащи. Они начали возвращаться назад, навстречу новогородской группе.
Мотострелки бросились к трофейным транспортам. Сдвигали перевертывали сани, повозки, тягачи — готовились к обороне.
Обе стороны действовали расчетливо, уверенно. Каждая предполагала, что противная добровольно всунет свою шею в петлю.
Когда танкисты услыхали ружейно-пулеметную трескотню, их отделяло от железной дороги четырехкилометровое расстояние.
— Ах, черт! Лопнешь с досады. Опять мотострелки одни вступили в бой, — негодовал! Самохин. — Моторный, садись за рычаги «Урала». Остальные — расчищай дуть.
Рокот моторов, треск деревьев пересиливали звуки близкого боя.
Троян успел только развернуть пушку с заднего положения в переднее, как из района боя донеслось чвакание вражеских мин. Выстрелы из ППШ замирали. «Неужели наши попали в огневой мешок?» — подумал он и крикнул:
— Саша, мое место должно быть среди комсомолии. Дай мне двух ремонтников, снимем с «Урала» курсовой пулемет и двинем на помощь моим старым однополчанам. Ведь они там одни.
— Боюсь, Петро, как бы не подвели тебя глаз и нога.
— Ничего страшного. У меня не один глаз и не одна нога. Дублеры в случае чего выручат.
— Конечно, — с улыбкой согласился Моторный, имея в виду моральную поддержку «экипажа дублеров», оставленного в Шуме.
— Сам, Петро, определи свою боеспособность, — посуровело лицо Самохина. — Если можешь, иди. Действительно, комсомольский вожак должен быть в гуще молодежи.
Троян и два бойца, привлекаемые звуками боя, как магнитом, недолго барахтались в крупнозернистом снежном песке на лесной тропе. Они вышли на НП. Майор Дончак вывел их на левый фланг батальона. Уже взбирались на насыпь, а танков сзади все не было слышно.
Перед глазами открылась страшная картина: мотострелки вяло отсреливались из-за небольших баррикад. Темные массы войск противника наступали с двух сторон. Впереди них вспархивали снежной пылью и дымом мины. Особенно грозно вырисовывались вражеские боевые порядки со стороны Новгорода. Грязно-зеленые цепи плыли по снежной белизне, как мираж. Троян стал различать несколько стройных линий, в них отсвечивали козырьки офицерских фуражек, выделялись головные уборы различных родов войск…
По требованию Дончака он отправил автоматчиков на правый фланг, к разъезду Нащи с задачей огнем из-под моста препятствовать отрубленному хвосту вражеской колонны вернуться назад. Сам установил ДТ на шпалах и со словами:
— Комсомольцы, поговорим с немчурой языком стали и свинца, — открыл кинжальный огонь по разношерстному вражескому параду слева.
Это сразу воодушевило мотострелков. Комсомольцы- активисты ползком накапливались возле баррикад. Из-за саней поднялась рота во главе с парторгом Магитовым.
— Товарищи! — крикнул он. — Не мы окружены — враг в кольце, в Новгороде. Он пытается ускользнуть. Не выпустим гада на запад!
На глазах Трояна бойцы смешались с гитлеровцами, навязали им рукопашную. Комсомолец Гава ринулся в свалку, подносимый лоскутьями своего рваного маскхалата. Враги шарахались от него, как от страшного привидения. Рядом катился «колобок». По блеску трофейных планшетов различались разведчики Аглушевич и Терновой. Лейтенант метнул перед собой гранату, упал головой к трупу лошади, вновь поднялся, без головного убора, с развевающимися на ветру светлыми волосами. Как былинный герой Буслаев, бросился на выручку окруженного врагами Магитова. После двух гранатных взрывов Аглушевич в трофейной каске на голове, а Магитов с черным длинноствольным пулеметом уже бежали под укрытие саней. Гава отставал. Неожиданно боец резко повернулся влево и устремился к группе врагов, которые копошились у перевернутой набок автомашины. Бросив гранату, Гава скрылся в дыму, снежной пыли. Прошло три-пять томительных минут. Рваный халат разведчика больше не появлялся. К тому месту, где он исчез, накинулись враги.
Троян до боли в глазах следил за своими, чтоб случайно не задеть их пулеметными очередями.
Все же противник сплошной массой начинал одолевать мотострелков.
Советские бойцы по требованию комбата вновь стали занимать позиции за укрытиями явно в расчете на то, чтоб выиграть время. Благо косой огонь ДТ Трояна расстроил первоначальные намерения противника.
И в поведении гитлеровцев появилось изменение. Они, словно кем-то подстегиваемые, торопились с новой силой навалиться на обороняющихся с двух сторон. Двинулись в полный рост, не стреляя — из-за опасности поразить своих.
Мотострелки экономили боеприпасы. Троян заметил Сталевича и Магитова, которые ползали между повозками, санками. Оба в то время доводили до бойцов требование командира: тянуть время, и на случай, если танки опоздают, приготовиться для одновременного броска в решающую рукопашную.
Стрельба повсеместно стихла. После паузы раздались короткие очедеди двух вражеских крупнокалиберных пулеметов. И вблизи головы Трояна вспорхнули снежные вихорьки.
«Все. Обнаружен», — подумалось ему. Ударил длинной очередью по дальнему транспортеру и демонстративно уронил голову в углубление между шпалами — притворился убитым. Тут же ощутил неудобство позы. Пухлая записная книжка с фотокарточками в левом кармане гимнастерки пришлась бугром на рельсу и не позволяла растянуться пластом на земле. Затем — новая забота: не изомнется ли на ребре рельсы фото Вали? А в голове, в каком-то фантастическом тумане, вроде бреда: нет, мол, карточка с изображением Вали греет, придает силы; слышишь, чудятся удары девичьего сердца? Все громче и громче. Что за наваждение? Грудь и впрямь ощущает: тук, тук!.. Гул нарастал, явно приближаясь… Поезд? Скосил глазами влево, вправо. Нет.
А от странно усиливающегося шума уже земля вздрагивала. Неужели сердце сердцу сигнал подает? В воображении — образ Вали. Как бы слышался ее чистый грудной голосок: дескать, не падай духом, Петро. Ты не один. Слышишь? Пульс жизни крепнет. Наши сердца бьются в унисон.
Троян вскинул голову вверх. Протер глаза. И увидел что, мотострелки замерли возле укрытий. Вдруг среди них вскочил на ноги Сталевич.
— Друзья! — крикнул он. — Мы не одни. С нами…
Бодрый голос заглушили орудийные выстрелы.
Троян обернулся на звук. О, глаза прослезились от радости!
Над насыпью дымились два ствола танковых пушек. Зарокотали двигатели. «Вон, что за шум отдавался в полотне железной дороги», — догадался он.
Из-за крышки командирского люка крикнул Самохин:
— Опять мы вместе. Показывай, Петро, цели.
Троян кинулся к «Уралу». Через несколько минут инициативу взяли в свои руки танкисты. Из-за насыпи заработали в большом темпе танковые орудия и пулеметы. Мотострелки, оставив на западе одного пулеметчика, рассредоточенно двинулись против главных сил противника — новгородской группы.
И чаша весов резко качнулась в пользу советских воинов. Фашисты дрогнули, стали рассеиваться. Многие спасались бегством в окрестных лесах.
— Хлопцы, кому нужна авторучка? Налетай, — объявил Терновой.
Тут как тут появился сухощавый штабной майор.
— Не копаться в трофеях. Убрать сначала раненых. Собрать к речке погибших героев, — командовал он.
Дончак направился к мосту. А на поле боя слышался говор:
— Я вовсе и не преклоняюсь… Наоборот. Считаю, что написать домой письмо трофейной авторучкой на бланке одного из штабов вермахта — показатель того, что мы разгромили этот штаб. Пусть знают наших.
— Писаря, у меня целая канцелярия какого-то обер-эсэса.
— Не ори… Помоги перевязать разведчика — истекает парень кровью…
Подбежал Терновой. Опустился на колени, приподнял голову бойца.
— Ой, так это же бесшабашный Гава! Видную птицу накрыл – с «железным крестом» и в серебряных погонах, генерал. А сам, сердега, рядовой, сплоховал. Дайте жгут! — Он перевязал боевого товарища. Затем осмотрел труп генерала. Забрал оружие и документы. «Железный крест» сунул себе за голенище: — Пригодится, — и стал укладывать раненого на салазки.
Автоматчик — «колобок», растягивая слова, несмело обратился к капитану Сталевичу:
— Прочтите, пожалуйста, что написано на бутылке, консерве…
— Французский коньяк, сардины, — как бы отбивался капитан. —Нам сейчас не до этого. Продукты могут быть отравлены. Тыловики придут, разберутся, что к чему.
«Колобок» с виду соглашался но, проводив глазами капитана, стал все чаще нагибаться над грудами трофеев, после чего все заметнее раздавался вширь — карманы под маскхалатом наполнялись тем, с чем должны были разбираться интенданты.
— Я давно говорю: от вражеской пули не погибнешь — какая-нибудь трофейная штучка разнесет твои бебехи по вершинам деревьев… Опять синклит собрался?! Выходи строиться! — рвал воздух тенористый голос майора Дончака.
Танки с металлическим скрежетом и лязгом переваливались через железнодорожную насыпь. Колонна вытягивалась на хорошо накатанную полевую дорогу, головою на юг.
Майор Дончак, сопровождая слова энергичными жестами, распоряжался:
— Командиры подразделений, распределите бойцов по машинам. Выступление через 15 минут.
Троян с усилием залез в люк «Урала». Покопошился у рации. И услыхал в наушниках весть, от которой так подпрыгнул на сидении, что больно ударился головой о броню. Тут же стал торопливо заполнять авторучкой бланк радиотелеграммы.
К машине подошел Сталевич. Наклонился к люку. Достал из кармана замусоленный сухарь. Переломил его на ребре трака и угостил половинкой друга.
— В разгромленной вражеской колонне есть продовольствие, выпивка. И хочется, и колется… Нельзя допустить, чтоб люди оглушили себя спиртным.
Этим можно свести на-нет боевой успех. До хрипоты доказываю, разъясняю, чтоб никто ничего не трогал, что наши кухни идут следом, хотя мне, бывшему интенданту понятно, как трудно тылам успеть за танками. Можно было бы разрешить чуть-чуть заморить червячка, но… Да, нелегко убеждать людей в том, в чем сам сомневаешься, — вполголоса делился капитан с товарищем.
Троян блеснул возбужденными глазами:
— Я тебя, Алексей Исаевич, сейчас выручу — дам такую пищу, которая вмиг всех поднимет, — и он рассказал о принятой по радио телеграмме.
— И у тебя, колдуна, хватило терпения молчаливо заполнять бюрократический бланк?! Давай, пока формируется колонна сбегаем к начальству, а потом двинем вдоль машин и объявим долгожданную весть.
Политработники отправились к экипажам. Одну из тридцатьчетверок облепили бойцы. В центре звучал голос Трояна:
… С 6.00 14 января по настоящее время /12.00 20 января/ наша бригада прорвала сильно укрепленную оборонительную полосу врага, разгромила мощный опорный пункт Подберезье, преодолела 6 ручьев и речек, перерезала 2 шоссейные и 3 железные дороги… Через леса и болота танкисты и мотострелки почти на руках вынесли танки… Сейчас советские войска ворвались на окраину Новгорода. Враг пытается убежать на запад… Нам остается пересечь последнюю шоссейную дорогу Новгород-Вышково, по которой еще удирают остатки гитлеровцев. До конечной цели всего 6-7 километров. Еще бросок!..
По колонне передавался из уст в уста приказ комбрига.
Загорелись глаза воинов. Усталости, как и не бывало. Никто не заикался о кухнях. Из люков танков, от взбирающихся на броню мотострелков раздавались возгласы:
— В поход готовы!
— Даешь Новгород! Ура!
И тридцатьчетверки залопотали гусеницами по проселку на юг.
На пути встретилось разбросанное по редколесью селение Березовское Общество. Машины капитана Самохина, вынырнув из-за поворота, столкнулись с вражеским заслоном. Мотострелки
спешились. В скоротечном бою враг уничтожен. Командир роты вновь рванулся на своем танке вперед. Пройдя километр, он доложил командиру бригады о том, что полностью овладел длинным населенным пунктом.
В наушниках шлемофона — восторженный голос полковника:
— С быстротой молнии. Молодец! Сейчас обрадую командующего…
— Маленькая задержка получилась у моста… – пытался продолжитькапитан, но не успел сообщить подробностей короткого огневого боя, так как неожиданно попал под беглый огонь из эфира. Полковник, во что-то ударяя, возвысил голос:
— Самохин, ты, сколько мостов прошел?
— Один.
— Немедленно сообщи свои точные координаты.
Командир роты выполнил требование.
— Путаник! Очковтиратель! Вот кто ты! Понял? Пройдешь еще три моста, овладеешь полностью названным селением, тогда доложишь. Ну, и подвел ты меня!… Я липу сообщил наверх. Передокладывать язык не поворачивается. Поэтому требую через 30 минут полностью выполнить боевою задачу и заново правдиво доложить! — металлически дребезжала мембрана от мощного голоса полковника.
Злополучный населенный пункт со странным названием — Березовское Общество, — оказалсяочень растянутым на местности — подобно надписи под ним на карте.
Самохин вынужден был в пути восстановить из трех один разрушенныймост. Доклад об овладении Березовским Обществом поступил, спустя полчаса.
— То-то, — мирно отозвался комбриг. — Теперь правильно. А то желаемое хотел выдать за действительное. Через 10 минут перерезать шоссе и доложить. Без вранья. Сбор — у мясокомбината.
Самохин полностью и в срок выполнил приказ комбрига.
«Урал», а следом и все другие танки вырвались к шоссе. Навстречу бросились пехотинцы, которые обошли Новгород с юга. Восторженные возгласы. Стрельба вверх. Пленные гитлеровцы приседали, прижималиськ стволам деревьев. Бойцы различных родов войск угощали друг друга махоркой, табаком, папиросами. Командир стрелкового полка распорядился:
— Накормить горячим обедом всех танкистов.
На шоссе, вблизи мясокомбината, где еще дымились обломки вражеской техники, происходил митинг. Объявлен приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о награждении танковой бригады за участие в освобождении Новгорода орденом Красного Знамени.
— Удар по коммуникациям противника войдет в историю… Он нанесен по всем правилам военного искусства… — с ходу оценивал событие капитан Сталевич.
Автоматчик — «колобок» медленно и внятно чеканил слова:
— Вы впервые увидели подлинное лицо врага. До сих пор встречались с одиночками-языками, а теперь – с массой. Не страшен фашист.
— Наоборот, — мразь. Так и просится: боец, осломони от меня свою землю. Теперь мы зададим не такого жару!.. Мы не одни. Вон, какая масса пехоты топает на запад.
Парторг роты автоматчиков, запахивая за ремень окровавленные грязные лоскутья того, что давно претендовало на свое первоначальное название «маскхалат», грозно потрясал автоматом:
— Сказано: будет и на нашей улице праздник… Не давать врагу ни часу передышки. Сейчас же преследовать «завоевателей»…
Танки выдвигались, на новое направление.
В стремительном движении дух захватывало.
Встречный ветер не брил, а гладил лица, дубленные морозом, вьюгами. В ушах свистело. Не леденило, не стягивало кожу — бодрило.
Зима митинг, освобождение Новгорода.
На шоссе, вблизи мясокомбината, где еще дымились обломки вражеской техники, происходил митинг. Объявлен приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о награждении танковой бригады за участие в освобождении Новгорода орденом Красного Знамени.
Мотострелки — десантники заботились об одном: удержаться на броне, не слететь в снег. Маскхалаты звучно трепетали, вздувались, пузырились, точно паруса.
Обтекаемые тридцатьчетверки со стреловидно устремленными вперед пушками грозно неслись по белой целине. Издали казалось,что снежное море бороздили фантастические боевые корабли, которым не страшны никакие препятствия, никакие стихии.
Слева, на фоне редких деревьев быстро проносились назад телеграфные столбы, служа на местности ориентирами; они наглядно показывали, как уменьшалосьрасстояние до цели. За ними угадывались железная и шоссейнаядороги Новгород-Шимск. Над головами с рокотом и свистом проносились краснозвездные самолеты, как бы увлекая за собою наземные войска. Впереди над мглистым массивом леса заклубились белые шарики. Это рвались снаряды зениток. Потом на небосклоне вырастали черные клубы дыма. Взрывов авиабомб не слышно, но ясно — советская авиация громила отступающего врага.
Троян по пояс высунулся из башни. Держался за крышку люка. Голос взволнованно срывался:
— До чего мы с тобою, Саша, дожили? Уже целый час жмем на всю железку, а противника все не видать.
С командирского сидения поднялся капитан Самохин. Щурился перед встречными потоками воздуха. Осматривался.
Пора бы уже обогнать его. Десантники на месте? Никто не уснул, не свалился?
С кормы, из-под ствола пушки доносились бодрые ответы:
— Полный порядок, товарищ капитан!
— Век бы так наступать.
Командир роты произнес подчеркнуто, требовательно:
— Товарищ Терновой, не спускайте глаз со снегозащитной полосы. За ней должен показаться хвост колонны противника.
— Наблюдаю, аж глаза заболели. Эти, видать, на машинах укатили, не то, что те, под Нащи.
Капитан смахнул рукавицей снег, копоть с наружной части перископа, недовольствуя:
— Сколько за Волховом было разговоров об исторических памятниках древнего Новгорода, а мы прошли сторонкой, и даже издали не удалось посмотреть на знаменитый кремль.
— Многие танкисты и Ленинград видели только на картинках, хотя обороняли город, прорвали и сняли блокаду. Таких людей можно считать ленинградцами. Наверняка, когда-нибудь их встретят на Невском как родных.
— В другое время — не то… И встречи, и объятия будут не те…
— Да, всему свое время. Одному капитану Сталевичу повезло. Полковник Катков направил его, назад с задачей ускорить продвижение за нами тылов. Алексей Исаевич обещал от имени всех нас проститься с Волховом, поклониться новгородскому кремлю.
— Историк. Для него окунуться в родную стихию — хлебом не корми. Несомненно, разузнает о наступлении войск, фронта. Привезет самые свежие известия.
Троян расстегнул тесемки танкошлема:
— Как тебе нравится погодка, Саша?
— Грех жаловаться. Потеплело. Снег сам по себе уплотнился, осел. Скорость танков заметно возросла.
— А наш Ваня почему-то недоволен. Сам сел за рычаги.
— Моторный всех удивил. Вчера, как только прицепил четвертую звездочку, так сразу начал гонять механиков-водителей. Своеобразное выражение радости. Эй, Ваня, — Самохин обратился к человеку за рычагами: — Почему-то наш «Урал» не прибавляет скорость. Смотри, тебя, техника-капитана, сержанты обгоняют.
Тот ответил не сразу. За него заступился штатный механик-водитель, докладывая:
— Товарищ капитан, показания приборов… — и сержант назвал цифры.- Двигатель работает не на пределе — в щадящих руках.
— Эта белая пустыня — не место для состязаний, — тоном заботливого хозяина отозвался Моторный. После паузы добавил оправдательно: — Не следует забывать, что «Урал» пять раз подбивали «болванки”, два раза загорался. И все же мы сейчас идем в пять раз быстрее, чем осенью сорок первого, когда совершали марш от Волховстроя до Синявина.
— Еще бы! Тоже мне сравнение. Здесь простор, сверху не капает. Мы одни. Правил дорожного движения не соблюдаем, — каскадом посыпались возражения Самохина. — Ты признайся лучше, молодой техник — капитан, что зря ругал своих подчиненных.
— Нет, не зря. Посмотри на правый фланг. Видишь, как дымит мотор Злыдня? Скорее бы остановка — надо самому вмешаться.
— Что и говорить — твой глаз зорок, не надо и сорок, — заметил Троян, рассматривая местность.
Слева и справа танки, словно стремясь обогнать друг друга, ныряли в снегах, как в волнах. Белые комья, обломки веток кустарника, отбрасываемые гусеницами, описывали крутые траектории и исчезали в дымных завихрениях. Вытянутые вперед стволы пушек, слегка покачиваясь, будто вынюхивали, искали врага в серовато-мрачной дымке загадочного горизонта.
Троян с гордостью воскликнул:
— Красиво идут наши машины.
— Признаться, от тишины и неизвестности делается скучновато, — после паузы ответил Самохин.
Действительно, все в окружности заполнено только шумом танков. Густой, басовито-уверенный гул моторов гормонически сочетался с мерным металлическим перестуком гусениц.
Троян обернулся лицом к другу и взмахнул по-дирижерски рукой:
— Какие чудесные, методические звуки! О, если бы я мог переложить их на музыку. Получился бы своеобразный боевой марш танкистов и десантников. Невольно всплывают предвоенные картины из жизни нашей сержантской школы. Мы тогда пели «Трех танкистов» и наше воображение рисовало фантастические боевые эпизоды. Сегодняшняя реальность — выше самой смелой фантазии. Во Владимире-Волынском мы, желторотики-студентики, не предполагали, что пройдет немного времени и
Молодые капитаны
Поведут наш караван…
— Верно. Я как-то и не заметил, что наши недоученные курсанты пошли в гору — стали на земле Василия Буслаева капитанами.
И все начинали с комсоргов.
Кроме механиков-водителей.
И они в экипажах, взводах возглавляли комсомол.
— Но закрепился! в штатах комсомолии только ты, Петро. Характер у тебя мягкий, покладистый, терпеливый. Не то, что у твоего земляка, угловатого сухаря Кости. Правильно он поступил, что вовремя перешел на строевую работу. Или взять вертихвоста Мотылькова, или…
— … тебя, зоилу. Так ты хотел сказать, Саша? — улыбнулся Троян.
Самохин вздохнул:
— Рос я без отца. Три сестренки… Отчим — седьмая вода на киселе…
— А что толку, что у меня есть отец? От него нечего перенимать.
— Знаю, матушкин терпеливый, бесхитростный характер ты унаследовал.
— Очень хотелось быть похожим на Костиного отца-котовца, но, видимо, мало одного хотения. Где-то сейчас друг моего детства?
— Может статься, что Костя первый на тридцатьчетверке заявится откуда-то из степного миража домой, к твоим.
— Маловероятно. Украина большая. Возможно, он наступает сейчас по той дороге, по которой мы в сорок первом отступали. Заманчиво было бы появиться, скажем, в Голоднице, под Владимиром-Волынским, и восстановить доброе имя воина, танкиста.
Наши военные дороги могут сблизиться. Вся армия движется в одном направлении — на запад.
Да, теперь все пути ведут в фашистское логово. Там мы и должны встретиться с Костей.
Интересно, в каких званиях закончим войну? Мотыльков мечтает о дне, когда станет на рубеже с нашими нынешними капиталистическими союзниками в звании генерала.
Ого, куда шагнуло самолюбие. Впрочем, наши однокашники не хуже людей. Кому-то из них готовятся генеральские погоны, — сказал Троян и со значительным подчеркиванием добавил:
— Пока, что капитан Мотыльков со своей танковой ротой нам может крайне понадобиться здесь, рядом, а не там, где он плетется на уставной дистанции.
— Вон всамделишный враг, — показал он рукой налево.
— Прилетит — на то он и Мотыльков, — оживился Самохин, слушая доклад наблюдателя и рассматривая черный дымок за березками. Он выразительно потер ладонями: — Чую носом жаркую деревенскую баню.
В просветах редколесья замелькали темные строения, а между ними — силуэты врагов.
Невысокие тонкие деревья хлестнули своими вершинами по лобовой броне и скрылись под днищем, гусеницами. Танки вынырнули на открытую поляну.
— Смотрите, мы взбудоражили большое осиное гнездо, — крикнул кто-то из автоматчиков.
— Никак, суббота сегодня. Попахивает банным парком, дымком, березовыми веничками… Ай-ай-ай! Не успели хозяева помыться, белье сменить, как водится перед смертью, — поддержал второй.
Самохин произнес с жаром:
— Задать сопливым чистоплюям баню с фефером!
На окраине населенного пункта несколько темных, приземистых строений курились так, будто сырые бревенчатые стены тлели с фундамента и не могли разгореться. Возле них и в стороне суетились, как угорелые, гитлеровцы.
— Не разевать рты! — взял, в свои руки инициативу капитан Самохин. — Вон фрицы разворачивают против нас зенитные пушки. Астапов, поддай любителям парной по-русски, горяченького, чтоб не успели простудиться. Остальные, — делай, как я! Моторный, — прямо, на зенитку! Петро, — осколочный! — Перед тем, как захлопнуть люк, добавил: — Автоматчики, — прыгай на левую сторону. Терновой, догоняй своего лейтенанта — он уже на крыше блиндажа, вон опускает в дымовую трубу гранату.
С ходу ударили танковые пушки, застрочили ДТ. Возле бань взметнулись взрывы снарядов. В дыму забегали, падая, ползая, враги в различной степени боеготовности: в распахнутых шинелях, в мундирах, в одних брюках; мелькали отдельные и в нательном белье, и с бледными, голыми спинами. Многие пытались спастись бегством. Отстреливались те, которые изо всех сил бежали от домиков к блиндажам и от блиндажей к огневым позициям орудий.
Две зенитные пушки успели огрызнуться двумя-тремя полуавтоматическими очередями. Две другие спрятались в вихре разрывов; пятая и шестая хрястнули под гусеницами Т-34.
К танку Самохина подбежал Терновой.
— Слева нарастает гул каких-то мощных моторов, — доложил он.
— Так и должно быть. К Шимску отступают войска противника, а на их плечах наступают наши, — ответил командир роты.
— «Новгородские” гитлеровцы — само собою… Слышно, что их уже кромсает Мотыльков, — вставил Троян. — А незнакомый громкий гул дребезжит под нашим носом, за березняком. Прислушайся, Саша.
— Кругом гудит, стреляет — ни черта не разберу. Автоматчики, садись на броню. Подскочим поближе и увидим, что там еще за шарманка объявилась.
Танк стал трогаться. Мотострелки, хватаясь руками за скобы,выступы дополнительных топливных бачков, ящики ЗИПов, бревна-самовытаскиватели, быстро седлали стального коня.«Урал» с десантом на броне успел продвинуться метров на десять, каквпереди, над вершинами березок выросли широкие крылья самолета с фашистскими крестами. Заглушая все остальные звуки и шумы, воздушный враг круто разворачивался над танком, чуть касаясь деревьев неубранным шасси.
— Крупного коршуна вспугнули. Эх, жаль, что не предусмотрен на башне танка зенитный пулемет. Бей, ребята, из автоматов! Саша, попробуй из пушки!.. — кричал Троян.
Командир экипажа скомандовал: «Стоп!»
Мотострелки рассыпались в глубоком снегу и открыли ураганную пальбу по самолету. Многие трассы, казалось, впивались в крылья гитлеровца. Танковая пушка приняла максимальный угол возвышения, выстрелила, но мимо. Радист-пулеметчик, как ни старался попасть из курсового пулемета и тоже безрезультатно.
— Ах, досадно. Такого крупного хищника упустили, — горевал Моторный.
— Мы рискуем прозевать еще одного, если будем разводить руками да раззевать рты в пустое небо. Газ! Слышите? Рядом какой-то мотор вразнос надрывается, — нервничал капитан Самохин.
«Урал», подминая гусеницами под себя березки, кустарники, двинулся на загадочный шум. Автоматчики бежали следом. За мелколесьем светлела обширная поляна. На взлетную дорожку выруливал страшилище «юнкерс».
— Осколочным!.. — приказал командир.
— Троян звякнул затвором пушки.
— Уж этому стервятнику не дадим взлететь.
С первого выстрела самолет подпрыгнул, свалился на одну сторону и загорелся.
На аэродроме суматошились вражеские солдаты и офицеры. Откуда-то выскочила черная летучка. Как будто намеренно ринулась на Т-34, столкнулась с ним и перевернулась вверх колесами. Этот танк появился на взлетном поле так внезапно, будто с неба опустился. Следом бешено запылил снегом второй, затем третий… Все они, сделав по два-три выстрела, помчались вдоль расчищенной, хорошо накатанной дорожки.
— Узнаю почерк: Мотыльков налетел. Смотри, повернул к деревне. Не иначе, как докладывает по радио командиру о взятии аэродрома и о движении к городу Шимску. Сейчас полковничий окрик вернет его, — говорил Самохин, поправляя наушники шлемофона.
После того, когда танковая рота капитана Мотылькова повернула в лес, Самохин сообщил:
— Наша задача остается прежней: наступать на запад, в обход населенных пунктов. Комбриг требует по радио не терять светлое время.
Автоматчики заняли свои места. Взревели моторы. Район Шимска остался сзади, в грохоте боя, подернутый дымами.
— Остановиться на рубеже, с которого опять рванем вперед.
Комбриг не сомневался: подчиненные знали, какой это должен быть рубеж. Он повернулся кругом и зашагал обочиной разбитого проселка в направлении хвоста колонны. Его широкую спину осветилилучи большого красного солнца, которое на миг выглянуло из-за облаков. Наступая на свою вытянутую тень, он озабоченно морщился.Оценивал обстановку. Костил себя за то, что во время преследования увлекся — распоряжения отдавал только с учетом разведданныхо противнике, местность, мол, и так на виду, перед глазами. Но нередко бывает и так: с виду ручей кажется проходимым, а сунешься изастрял. Опытный командир понимал, что задерживаться надолго на восточном берегу заболоченной речушки без горючего, боеприпасовнеразумно. Он видел среди придорожного редколесья одиночек и групки мотострелков, которые утопая в грязно-синеватом снегу, тащили к речке бревна. Слышал обрывки фраз.
— Хотя бы скорее показался тот проклятый фриц… Мочи нет. Ноги мокрые, валенки пудовые. Шинель, фуфайка — хоть выжимай… Не война, а наказание…
— Ну и зима, будь ты неладна. Небесная канцелярия перепутала январь с апрелем. Не дождешься, когда пальнет какая-нибудь пушка или застрекочит пулемет. На войне без огня, что в бане без пара — не согреешься.
— Тю, дурни! Не накликайте беду — беда сама найдет вас…
Бездорожье казалось им врагом номер один. И война переставала быть войной в прежнем понимании этого слова.
— Товарищ полковник… — настиг комбрига майор Дончак. — Может, отведем танки к березовой роще? — показал он рукой в тыл. — Здесь, в этой открытой низине и авиация раздолбает, и…
— Довольно! — оборвал полковник. Остановился. Потер лоб кулаком. Окинул насупленным взглядом колонну и повернулся к ее голове. Глядя за речку, широко зашагал. — Остаток горючего разрешаю израсходовать только для маневра вперед, а не назад. Через 40 минут доложить о готовности не одного, а двух колейных мостов.
В это время с тылу донесся рокот мотора, треск придорожного березняка, ольшаника. К речке несся танк без башни, горой загруженный ящиками, тюками, стянутыми крест-на-крест веревками. Возле комбрига остановился. На землю спрыгнул капитан Сталевич.
Тылы пробиваются по нашим следам с неимоверными трудностями. Мосты значатся только на карте. На местности — объезды… Положение соседей… — и капитан сжато доложил обо всем, что узнал и увидел в полосе наступления армии. В заключение перечислил меры, принятые им для приближения тылов бригады к танкам. Пониженным голосом сообщил: — Исторические архитектурные ценности Новгорода все-таки пострадали… Памятник «Тысячелетие России» разрушен полностью, а может быть, и увезен в Германию…
Комбриг встрепенулся. И, увидев вдали, за речкой высокий огненный столб, поднявшийся над лесом, энергично распорядился:
— Ускорить переправу… К исходу дня овладеть рубежом полевой стан — перекресток дорог… — он показал карандашом условные знаки на карте. — Холодного пайка, горючего и боеприпасов, подвезенного Сталевичем, как раз хватит — конечно, при экономном расходовании. Ночью закрепимся на тактически выгодном рубеже, куда к утру подойдут автоцистерны, тягачи с боеприпасами, кухни…
В танковых экипажах — сразу оживление. Люди, сориентированные в обстановке, с удвоенной энергией принялись выполнять приказ комбрига.
Речка форсирована. Хорошо накатанный проселок вывел танковую колонну через лес на поляну, за которой простиралось обширное редколесье. Слева светлело чистое поле. Вдали, на фоне густого леса, показались темные крыши трех-четырех строений. Сличение с топографической картой помогло определить — на пути был колхозный полевой стан. Следы на снегу подсказывали: туда отступил враг.
И вскоре — недоумение. Группа деревянных строений, казалось бы, очень удобная для обороны, выглядела необитаемой, заброшенной. Правда, во дворе что-то догорало.
Передний танк остановился за кустарником, поводя стволом орудия по открытым дверям приземистого сарая, окнам добротного дома.
Слева, у изгороди скотного двора, выросла длинная фигура сержанта Тернового.
— Нет противника, — приглашающе взмахнул он автоматом.
— Но дух есть, — тоном возражения добавил лейтенант Аглушевич.
Он спрыгнул с танка и во главе трех разведчиков направился к воротам.
— Эй, выходи! Все дороги отступления отрезаны, — обратился лейтенант по-немецки к загадочным постройкам. Несколько раз вдохнул носом воздух, обернулся к танку и по-русски добавил: — Был бы здесь фриц, поднялась бы невообразимая пальба. И все же пованивает…
Аглушевич с разведчиками начал обследовать въезд в усадьбу.
Его опередил Троян, направляясь к колодцу. Возле опрокинутой бадьи чернело мокрым пеплом продолговатое углубление в снегу. Ветер рванул откуда-то тучей перья домашней птицы. Возле бочки с водою — куча соломы, топор, кочерга, корыто, таз. Из-под мешковины виднелась опаленая свиная голова, окровавленная требуха.
— Недавно опаливали свиную тушу, — сказал Троян, разгребая палкой мокрую, дымившуюся солому, пепел.
— Осмотреть усадьбу, все помещения, чердаки, — прозвучал тенористый голос майора Дончака. — Связисты, оборудовать узел связи в избе с флюгером на фронтоне. Полутыкин, ко мне… Разведать места для боевого охранения… — и майор, зафутболив ногой фашистскую каску, направился к мотострелкам, которые стояли за изгородью, недоверчиво осматривая стены, крыши построек.
Два танка, разворачиваясь в противоположные стороны, начали брать полевой стан в клещи. Третий медленно протискивался в узкие ворота. Разведчики и мотострелки-десантники прочесывали широким фронтом усадьбу и окрестные кустарники.
Противника не было нигде. Обнаружились только следы недавнего «хозяйничания». На скотном дворе — обрывки веревок, кровь животных… У дверей амбара — россыпи зерна, ржи, овса.
Возле длинного сарая возмущался капитан Сталевич:
— Ничего не осталось. Даже сено увезли.
К налу подбежал Троян. Стал ворошить солому около яслей. И провалился в яму.
— Нет, кое-что осталось. Сюда, Алексей Исаевич!
Через несколько минут они вытащили из-под сломанных досок подполья бочку и мешок с картошкой.
— Как тщательно не спрятали колхозники овощи, оккупанты все же разыскали, — отбрасывал Сталевич палкой солому, обнажая покореженное деревянное перекрытие подвала.
Тем временем Троян очистил от соломы кружки в бочке. Что-то вынул из-под них.
— Вкус преотличнейший! — объявил он. — До появления кухонь есть чем заморить червячка.
И Сталевич поинтересовался. Его белые зубы размололи один ядреный огурец, второй. После третьего капитан скривился:
— Калина хвалилась, что с медом сладка.
— Не беда, Алексей Исаевич. С печеной картошкой — объедение.
— А ну-ка, Терновой, — огня! Пока оборудуются позиции боевого охранения, пусть старшины испекут, сварят картошки бойцам.
Снаружи отозвались … мины.
Частые, рявкающие взрывы сопровождались звоном битого стекла, криками, руганью. Воздушной волной отхватило половину дверей сарая.
— Похоже, что фашист бьет вслепую, — выглянул наружу Сталевич.
— Могло быть хуже, если бы он встретил нас на подходе к стану. В это время мина хватила по углу крыши сарая. На головы посыпались щепки досок, полова, пыль.
— Чтоб не было хуже, — посмотрел Сталевич вверх, в проем широкой двери, — надо драпать отсюда. Но куда?
— Туда, — показал Троян рукой на танк, который остановился вблизи сарая.
Оба кинулись к тридцатьчетверке. Нырнули головами под выхлопные трубы, ошутив теплый, казалось бы, спасительный запах отработанного газойля. С большим трудом втиснулись под мокрое днище стальной защиты. И вовремя.
Во дворе заплясала новая серия взрывов. К гусеницам упалиобломки дранки, досок с крыши сарая. Всю деревянную постройку охватило пламя.
— Пропадут огурцы и картошка. Жаль, — заерзал под машиной Сталевич. — А что, если попытаться спасти?
— Тебя, Алексей Исаевич, бывшего интенданта, беспокоит потеря продуктов питания. Понимаю…
Танк, будто услыхав о затруднениях друзей, «вмешался”. И своеобразно. Сначала над головами участилось бодрое дыхание мотора. Потом загремели зубчатые колеса. Со скрежетом скрипнули гусеницы, и массивное днище как бы начало оседать, грозя раздавить под собою офицеров. Затем на спинах почувствовалось шуршание. Друзья изо всех сил стремились втиснуться в снег, который, однако, будучи утрамбованным, совсем не поддавался.
— Петро! — закричал Сталевич. — Как вырваться на волю? Гусеница тянет за полу моего кожуха! Эта махина сначала сделает из нас лепешки, а потом пережует своими стальными зубищами.
— Изловчись отрезать полу ножиком. Вот так, хорошо… Теперь потерпи, Алексей Исаевич. Танк трогается с места, гусеницы зарываются в снег и стальной корпус немного оседает.
— Обрадовал.
— Экипаж уводит машину из-под обстрела.
— Еще хуже, А мы?..
Над головами просветлело. Сладковатый и вкусный, такой близкий, защитный запах выхлопных газов тридцатьчетверки удалялся. На смену бросило в лицо отталкивающими волнами — смрадом тола, паленого пера, тряпья. Кругом рвались мины. В завихрениях от пожара ощущался едкий дым, нестерпимый жар.
Они ползком, перебежками выбрались из района обстрела. По танковой колее добрались до изгороди, за которой провалились в яму. Это была канава, засыпанная снегом. Из нее было видно, как разрывы мин перемещались вслед за танками, не допуская к ним мотострелков.
Наконец, машины и люди покинули полевой стан и заняли удобные позиции для обороны и атаки вокруг него.
Разведчики сбились с ног, разыскивая в ближайшей округе корректировщика вражеского огня. Они побывали на чердаках амбара, добротного высокого дома, осмотрели дровянник, приусадебные канавы.
Троян предложил направиться к дальней опушке высокого леса, что темнел на северо-западе. Космомольцы-активисты двинулись за ним.
Однако поиски в дальних окрестностях закончились безрезультатно.
Они вернулись назад. Залегли вдоль тыльной стены амбара. Наблюдая за лесом, что закрывал западный горизонт, мечтали о подходе машин с боеприпасами, горючим, продуктами питания.
Когда в полевом стане прекратилось передвижение людей, урчание моторов, вражеский обстрел затих.
— Итак, здесь корректировщика нет, — рассуждал капитан Троян.
— Искать его надо все-таки там, — показал он рукой на дальний высокий лес. — У меня созрел план. Схожу к командиру, доложу.
Как только капитан ушел, лейтенант Аглушевич подал знак «Внимание!” Его привлек шорох в ближних кустах. Лейтенант медленно приподнялся в готовности схватиться с таинственным врагом. В тот же миг на него бросилось что-то белое.
Разведчики щелкнули затворами. Через мгновение в руках Аглушевича трепыхался крупный живой кролик.
— Я первый заметил, — сказал Терновой. — Трусишка-грызун ошалело мчался через поляну к амбару. Мы на снегу все в белом. И он, как слепой, из кустов — прямо в руки.
Лейтенант Аглушевич, осматривая «трофей», ухмылялся:
— Первая живая душа объявилась в этом захолустье. Терновой, отнеси «языка» в амбар и доложи командиру, что мы, кажется, напали на любопытный след. Кролик наверняка вырвался из чьих-то лап и возвращался к себе домой, в усадьбу.
Терновой ушел. Вернулся с Трояном.
Выполняя требование командира, разведчики действовали осмотрительно.
Троян с Терновым двинулись на запад, вблизи кроличьего следа,не теряя его из виду. Остальные передвигались параллельно, поддерживая со своими товарищами зрительную связь. И все ползком, по-пластунски.
Усилия оказались ненапрасными.
Следы кролика вывели к выступу густой сосновой рощи. На ее опушке спешно окапывалась пехота противника. За ней два противотанковые орудия смотрели стволами вдоль проселка, который выводил из усадьбы полевого стана к железнодорожной станции, расположенной в десяти километрах западнее рощи. За воткнутым в снег частоколом хвойных ветвей угадывались огневые позиции еще двух орудий. Далее темнели на снегу штабели ящиков и отсвечивали металлом смотревшие в небо стволы минометов.
Наконец, поэтически настроенный капитан Троян, рассматривая, казалось бы, облака, присел от изумления: прямо перед ним, на обочине проселка возвышалась роскошная сосна, в густых ветвях которой поблескивал стеклами бинокля вражеский наблюдатель-корректировщик. Капитан жестами и мимикой сориентировал Аглушевича. Разведчиков так и подмывало обрушиться автоматным огнем на врага. Но они проявили выдержку. Вернулись к командиру.
— Обнаружен сильный арьергард противника, оставленный главными силами, которые сосредотачиваются в районе лесной железнодорожной станции, не иначе, как для погрузки в эшелон, — доложил Аглушевич.
— Первое правильно, а второе нет, — сказал комбриг. — Поразмыслив над картой, добавил: — Твой поспешный вывод может оказаться прямо противоположным… Сейчас надо вот что… Уничтожить неуставной орган охранения гитлеровцев без шума, без орудийной пальбы. Вначале убрать наблюдателя… — и командир изложил план действий.
Разведчики собирались к выступлению. Они должны были вывести роту мотострелков на фланг вражеского арьергарда.
Коренастый боец в больших мокрых валенках тоскливо поглядывает на восток. Прислушивается.
— Курсак заправки хочет, а тягачей все нет и нет. — Аппетитно причмокнул губами: — Перед выступлением зажарить бы этого кролика, с картошечкой, лучком…
От этих слов сержант Терновой подскочил, как ужаленный. Тревожно зашикал на бойца и торопливо обратился к Аглушевичу:
— Товарищ лейтенант, разрешите… Без задержки — один щелчок и — готово.
Лейтенант заглянул в дверь амбара. Бойцы расступились. Он увидел белого кролика, который позировал на задних лапках перед фотоаппаратом. Чьи-то руки приподнимали за уши кверху фотографируемого грызуна с гитлеровским орденом «железный крест» на шее.
— Это еще что за ребячество? — напустился Аглушевич.
— Вы правы, товарищ лейтенант, — умоляющим тоном выкручивался Терновой. — И все же разрешите нам эту невинную шутку. Обосновываю. Известно, что некоторые живые существа, когда попадают в капкан, отгрызают свою лапу и такой дорогой ценой освобождаются из неволи. Этот представитель семейства заячьего отряда грызунов тоже совершил подвиг, раз сумел убежать от врагов и тем самым косвенно показал нам путь к ним. И вот мы отмечаем заячью храбрость единственного живого обитателя этого стана высшей наградой тех, кто хотел его сожрать.
— Белиберда, — буркнул лейтенант Аглушевич. — А еще комсорг, проверьте лучше хранение комсомольских билетов. Через две минуты строиться!
— Есть! Проверю. А это — пусть белиберда… Нам останется на память фотокарточка. Колхозники не станут есть крестоносца — побрезгуют лакомиться тем, кто побывал в лапах фашистов.
Щелкнул фотоаппарат. Под дружный хохот и улюлюкание бойцов перепуганный кролик с крестом на шее шмыгнул в свои амбарные лабиринты, загроможденные колесами, хомутами, березовыми вениками.
Капитан Троян, разведчики и мотострелки вышли на кроличий след, который выводил к цели. Смеркалось. Под ногами хрустел молодой ледок. Примораживало.
… В полевой стан они не вернулись. Сначала вражеский арьергард был лишен средств связи. Потом, в результате жаркого и скоротечного боя его позиции перешли в руки советских бойцов.
Комбриг, осмотрев трофеи, показал на неглубокие ямки в снегу:
— Майор Дончак, эти так называемые окопы дооборудовать для круговой обороны… Лейтенант Аглушевич, отдыхать разрешаю два часа. Затем отправитесь на задание. Мы здесь будем ждать машин с тыла и ваших разведданных с фронта.
Они без устали расспрашивали о судьбе своих друзей.
Если бы не вмешательство старшины Трояна, весь экипаж погиб бы. Но вот подоспел и Мотыльков. Под прикрытием его танка… — наверное, в десятый раз повторял свой рассказ маленький сержант с забинтованной головой, тщательно перевязанными кистями обеих рук.
Лизе чудилось, что пострадавшего никогда не покидали тошнотворные запахи жженого мяса, паленой шерсти, своеобразного гниения.
— Верно, говорю: больше на Питьбе не было потерь, — убеждал сержант. — Так что вам нечего беспокоиться. С нами приключилась чистая случайность.
— Все на свете — случайности, — повторила Валя слова Трояна.
Медсестры относились к сослуживцам своих знакомых, как к самим дорогим и близким людям.
Текущие дела, однако, захлестнули. Девушки не сумели проститься с оперированными тремя танкистами, когда тех однажды в срочном порядке эвакуировали в тыл. Валя так и не нашла времени поговорить с тем, кому отдала свою кровь. Не записала ни его фамилии, на адреса родных.
Через неделю госпиталь опустел. Новых раненых не поступало.
Медсестры отремонтировали разорванные осколками палатки, очистили в них полы от грязной хвои, соскребли и выбросили вон верхний слой прелого мха, который оттаял и распространял гниль.
Впервые со времени выезда из Шума девушки выстирали, как следует свои чулки, носки, портянки; высушили, наконец, и смазали сапоги. Начиналась жизнь в тепле и уюте. Однако закончить наведение образцового порядка во всем не удалось. Поступила команда свертывать хозяйство и грузиться на машины.
Только обжились, привыкли на новом месте… — сетовали медсестры.
Транспорты, доверху нагруженные хозяйственным, медицинским имуществом, вновь двинулись вдоль Волхова, на юг.
Валя во время сборов в дорогу опять намочила свою обувь, — которая содержалась в идеально высушенном состоянии только в течение суток, — и так, не просушив ее, забралась в кузов, на тюки с вещ-имуществом. Как она ни куталась краем палаточного брезента, все же до того перемерзла, что простудилась и заболела.
Надя коснулась ладонью лба подруги и вскрикнула:
— Этого еще не хватало! У тебя высокая температура.
Достали термометр. Измерили — 40 градусов.
Остановили машину. Врач поменялась с больной местами, посадив ее в кабину.
Валя тряслась на жестком сидении — от озноба и беспокойнойезды по разбитой дороге — более сотни километров, до самого Новгорода. Время от времени доставала из рукавицы таблетки и глотала их.
Госпиталь разместился на окраине Новгорода, в бывших конюшнях.
Это был шаг вперед по сравнению с армейскими палатками, продырявленными осколками, прогнившими на болотах. Но сколько медперсонал приложил сил к тому, чтоб оборудовать в заброшенных, вонючих помещениях медицинские палаты!
Большие жестяные бочки приспособлены под печи. К одной из них примыкали нары, на которых лежала Валя.
— Как тебе нравится положение пациентки в нашем новом стационаре? — спросила Надя подругу, впрыснув ей под кожу очередную дозу лекарства.
— Не завидую раненым. Только теперь поняла, что надо стараться всеми силами не попадать в руки медицины. Уж страшно несовершенна наша обстановка для лечения! От раскаленной печки — невыносимая жара, а с противоположной стороны, будто лед приложен к спине. И еще одно открытие: лекарства очень неприятны на вкус. Холодно-устрашающие уколы… Словом, все это не по мне. Я ведь первый раз лечусь.
— Зато не впервой тебе пичкать людей таблетками, порошками, колоть тупыми иголками… И раненые не роптали.
— Теперь удивляюсь их терпению.
— Выходит, не вредно пройти медработникам «стажировку» на положении больных. Тогда они с большим знанием дела будут лечить, — со смехом неожиданно объявилась в палате врач.
Осмотрев Валю, она близоруко вглядывалась в деления градусника:
— Вопреки твоей критике лечения, оно все-таки пошло на пользу. Температура нормализовалась.
На второй день Валя встала на ноги.
Раненых поступало немного. У девушек появились свободные минуты.
— А что, подруженьки, если разведать, куда из города ведут отпечатки танковых гусениц? — плутовато сверкнула глазами Лиза.
Муза от радости подскочила, забила в ладоши, кокетливо дотронулась мизинчиком своих бровей, стильной прически, и, как бы тренируясь, потупила глаза.
— Что ты, Лизурка, опомнись! Где их найдешь в таком невообразимо-запутанном, массовом движении всевозможных машин, орудий, людей? — возразила Валя.
— Как у вас говорят, мой первый блин комом… — тщательно подбирала слова Муза. — Когда я ходила к соседям за медикаментами спрашивала о танкистах. Говорят, что танки здесь не проходили.
— Не может быть! — резко не согласилась Лиза. — Один раненый сказал мне, что только благодаря танкам, сравнительно легко был взят Новгород.
— А другой рассказывал, что они проскочили обходным путем, сторонкой и взяли курс на Шимск, — добавила Надя.
— О, я эту дорогу знаю. Найдем! — воскликнула Лиза. — Отпросимся на денек. Тебе, Надя, неинтересно. Твой Костя на Украине. Да майор больше двух-трех медсестер и не отпустит. Итак, попытаем счастья.
Полчаса спустя три девушки в шинелях и шапках-ушанках «голосовали” на перекрестке дорог. Грузовик с ящиками в кузове и тюками в кабине остановился.
— Вам куда? — высунулось из дверцы лицо шофера — утомленное, с красными от недосыпания глазами.
— Туда, на сполохи, — показала Лиза в сторону задымленного горизонта, над которым облака отсвечивали рдяными завитушками.
— Садитесь, — безразлично отвернулся шофер к баранке. С железным скрежетом включил скорость.
Медсестры проворно кинулись к бортам. Весело перемахнули в кузов. Сначала пытались держаться на ногах на пятачке пола кузова, незанятого грузом. Затем полезли на ящики, поближе к кабине.
— Вспоминается совет Петра, — заговорила Валя. — Чтоб в дороге не схватить воспаление легких, надо сидеть или стоять лицом, навстречу потокам воздуха, постоянно шевелиться и смотреть вперед.
И они пытались держать фасон. Встречный ветер безжалостно обжигал колючими иголками лица, неистово взлохмачивал кудри, которые выбились из-под шапок с завязанными на макушках тесемками ушей. Глаза слезились. Ноги коченели. Валя одной рукой придерживала ушанку,второй запахивала борта шинели. И мысленно укоряла себя: как можно было решиться сразу, после болезни вырваться в такую трудную дорогу?
Муза тяжело вздохнула — сожалела, что вырядилась в модные хромовые сапожки, в то время, как под нары Сажаев спрятал новенькие валенки.
Лиза слезла с ящиков на пол кузова и начала приплясывать.
Шофер понял топот ног как сигнал остановиться. Заскрежетали тормоза. Девушки по инерции качнулись вперед. И услыхали удивленный голос:
— Вам здесь, в поле, выходить?
Они недоуменно переглянулись и молчаливо решали избежать дальнейших распросов.
— Да.
У них уже сил не хватало трястись в кузове на адском холоде.
Конечный пункт неизвестен. Поэтому ухватились за случайный повод, лишь бы прервать мучительную езду вслепую.
Полусоженная окраина какого-то селения встретила неприветливо. Кругом чем-то развороченные оледенелые глыбы грунта, снега. Искореженные деревья, оборванные и спутанные провода телеграфной линии опушены ледяными иголками инея. Несло гарью и чем-то отталкивающе чужим. Слева, возле каких-то черных, закопченных строений валялись разбитые транспортеры, оружие вперемежку с серо-зелеными трупами, вокруг которых обозначились углубления в снегу в виде проталин. Вдали чернел остов полусожженного самолета с желтыми крестами. Справа, на снежной равнине, в тумане смутно темнел мелкий лес, над которым стелился дым.
Подумав, девушки наугад пустались на северо-запад, в сторонудыма.
— Согреемся в движении, — «объяснила» Валя подругам и самой, непонятный, маневр.
Шли по глубокой колее, выбитой в снегу какими-то тяжелыми машинами.
— Ура, девочки! — крикнула Лиза. — Смотрите, отпечатки танковых гусениц. Наши. Нюхом чую своих. В средине прошлого года, когда мы ехали из Жихарево, у меня было точно такое предчувствие. Помнишь, Валя, как мы удачно набрели на срубы в березовой роще? И какая тогда была чудная белая ночь! Нам опять начинает везти. Бегом!..
Все так обрадовались, словно действительно обнаружили то, что искали. Многокилометровая трасса с комьями некогда мягкого, а затем разрыхленного танками и оледенелого снега, вконец вымучила их.
Предвечерние сумерки начали пугать. Девушки уже намеревались было остановиться для обсуждения своего плачевного положения, как за углом рощи увидели машину с красным крестом на кузове. Прибежали к ней. Шофер освобождал лопатой рулевые тяги от оледенелого снега, а две медсестры и врач подкладывали лапник под колеса.
— Что? Догнать танкистов? Переспросил и выпрямился майор, в длиннополой шинели. — Каких?.. — и осекся с видом человека, который решил не говорить лишнее посторонним. — Да их и на вездеходе не настигнешь. Помогите лучше нам вытолкнуть машину из этих колдобин.
— И вы после этого нас подвезете? — обрадовалась Лиза.
— Нет. Мы перегружены… Пока не стемнело, ищите оказию в тыл. И «голосуйте» поосторожнее, не так, как наш водитель, которого вот недавно чуть не раздавил встречный тягач — танк без башни. Кстати, возвращайтесь по его следам, они кратчайшим путем выведут вас на новгородское шоссе.
Пока Лиза разговаривала с майором, Валя шепталась с круглолицой медсестрой. От слов «второго сняли с цепей», «их разместили на днище танка без башни». Валя побледнела. Круглолицая что-то горячо ей растолковала. И обе, как ни в чем, ни бывало, подошли к заднему борту машины, прилаживаясь подтолкнуть ее.
— Раз — два, — взяли! — скомандовал майор.
Общими усилиями санитарка сдвинулась с места. Когда ее кузов наполовину скрылся в лощине, откуда вскоре послышалось натужное завывание мотора — признак того, что машина опять «села» днищем на ледяные груды, — подружки отвернулись от мрачно-багрового западного горизонта.
— Все. Прошлогодняя июньская встреча не повторится. Никогда,— твердо произнесла Валя. Видно, что она пересиливала себя в чем-то. — Верно, Петро говорил, что ничто в жизни не повторяется. Какие мы наивные! Пустились за семь верст киселя хлебать…
— За 170, — уточнила Муза.
— Хоть и за 270, а найдем, — с вызовом вставила Лиза.
После долгих споров, колебаний, под угнетающим воздействиембелого безмолвия, а слева — канонады и вспышек, от которых зловеще стали густеть тени под деревьями, они решили вернуться назад, по свежим следам загадочного танка без башни. А вдруг там…
Первой шагнула в широкую и неглубокую колею Валя. Она осторожно ступала по белым, размолотым комьям льда, снега. В затемненных углублениях, сделанных выступами траков, ей чудились капли крови.
Изнуренные, продрогшие, голодные путешественницы поздней ночью еле добрались до своих конюшен. Въездные ворота показались аркой рая.
За дверью проходной Валя попыталась было свернуть налево, в приемное отделение с целью выяснить состояние тех, кого привез танк без башни.
— От службы не беги, и на службу не напрашивайся. Нечего там тебе делать, — потянула Лиза ее за руку в общежитие. Надя укажет, кого привезли.
Воспользоваться благами «рая» не пришлось. Дежурный объявил о переезде госпиталя на новое место.
— Возвращайся с удачей.
— Ждем с победой.
— Ни пуха, ни пера…
— К черту! — отшучивается Аглушевич, настроенный философски:
— Еще нахожусь под впечатлением пожелания, наставления, требования комбрига и начальника политотдела. Они вызвали чувство бодрости. А ваши слова больше подходят новичку, для которого главное — вернуться невредимым назад.
— Володя, — по-братски обнял капитан Троян лейтенанта. – Ты 60-й раз отправляешься в разведку. Это — событие… Его мы отметим по возвращении… — и капитан сделал шаг назад. Осмотрел со всех сторон рослую фигуру в просторном маскхалате, все мелочи экипировки. Одобрил пристегнутый к воротнику белый капюшон, которым ранее Аглушевич пренебрегал.
— Друзья, — взмолился лейтенант, — разведка не любит помпы, многословия. И нечего вам ждать меня с победой — с ней не носятся туда и сюда. Мы ее одержим в борьбе с врагом там, впереди, где и встретимся с вами, — показал он рукой на запад. — И ваше охотничье пожелание «Ни пуха ни пера”, понимаю по-своему. Вспомните, как у разъезда Зеленец от наших автоматных очередей взлетели с фашистских транспортов и пух, и вата, и перо?.. Теперь не то полетит.
— Правильно, землячок, — согласился капитан Сталевич, крепко пожимая его руку. — Времена изменились. Наступаем мы, а не враг. Разведчики — впереди. Стало быть, и встреча произойдет там, где ныне еще хозяйничает враг.
Кирьяшин А.Г. капитан командир батальона.
Лейтенант Аглушевич подкрепил слова капитана жестом в сторону туманного заката. Его большие светлые глаза под смелым разлетом кустистых бровей заблестели. Весь облик выражал решимость с оттенком легкой иронии: мол, мы это дело легкой рукой, шутя, обделаем. Забросил ремень на плечо, сдвинув ствол автомата наискосок, поперек груди, спрятал прядь светло-русых волос с широкого лба под шапку-ушанку, прихлопнув ее сверху ладонью. Поднял на голову капюшон маскхалата, завязав ниже подбородка тесемки.
— Все будет в ажуре, — подмигнул он боевым товарищам. — Приготовьтесь на завтра глушить крупную рыбу. Потопали.
В словах, жестах, выражении лица, глаз лейтенанта сквозила сила воли. Таким он был — ветеран бригады — и рядовым, и сержантом и старшиной …Вырос на глазах друзей, не изменяясь в главном.
Три атлетически сильные фигуры отделились от группы танкистов, перемахнули через глубокие танковые колеи и взяли курс вдоль полевой линии связи — кабель с изоляцией розового цвета, подвешенный на жердях, низкорослых березках, осинах.
Уж слишком все приметны, — задумчиво провожал взглядом тройку капитан Сталевич. — К тому же, навьючились. С горбами, как верблюды. Беспокоит новичок Сидоров. И без груза он, по словам Тернового, от природы неповоротлив — как медведь среди воробьев.
— В разведке Сидоров за короткое время наловчился, — ответил Троян. – Гридин как-то говорил, что тот же Терновой научил Сидорова коту хвост завязывать. Недаром они сдружились, и не случайно сегодня лейтенант обоих взял с собою. И то, что ребята, как на подбор, крупные, тоже кстати — на крупное дело пошли.
… Узкий лесной проселок вывел трех разведчиков на длинную гать, недавно хорошо наезженную. По обочинам угадывалось замаскированное снегом болото. Впереди шагал сержант Терновой.
— Стоп! Здесь что-то неладно, — держал он в руке конец кабеля, изучая следы на снегу. — Обрыв линии связи и… мины.
Подошел лейтенант Аглушевич. Осторожно разгреб взрыхленный снег в том месте, где естественная корка была нарушена.
— Противотанковые, — подтвердил лейтенант. Достал карту, уточнил местонахождение и добавил: — Установлены на вероятном пути выхода наших танков к железнодорожному полустанку. Сидоров, обозначь начало минного поля, а то, как бы капитан Мотыльков не налетел, хотя его маршрут намечен правее, но он может соблазниться идеей попутного захвата железнодорожной станции. Терновой, веди дальше.
На средине гати мины кончились.
— Условных обозначений не делать — это сторона противника, — распорядился лейтенант.
Через полкилометра, на левой обочине проселка вырисовалосьнечто, похожее на домик. Разведчики приблизились с предосторожностями. И с удивлением увидели странную дерево-жестяную будку. Необитаема, дверь открыта, стекло в окошке разбито.
Терновой зашел внутрь.
Обыкновенный крытый кузов, снятый с ремлетучки, — в его словах звучало разочарование. — Есть слесарный верстак, тиски, какое-то железо, цепь, печка, дрова…
Будка установлена на краю обширной площадки, очищенной от снега. Рядом проходит хорошо накатанный большак.
Мы вышли к дороге, которая идет из глубины вражеского расположения и выводит в наши тылы, — определил лейтенант Аглушевич.
— Здесь недавно было оживленное движение, — вставил сержант Терновой. — По-моему, следы вчерашние. В будке находился пост регулирования. Перед уходом противник позаботился, чтоб кто-то из его соседей не завернул на минированный проселок и оставил вот этот указатель, — выдернул сержант из твердого снега палку с надписью на фанере: «Minen!»
— Подай-ка мне табличку, — велел Аглушевич и лицо его так просияло, будто наткнулся на давно искомую бесценную находку.
Лейтенант достал из кармана авторучку и, хитровато улыбаясь, дописал по-немецки: «до пересечения с высоковольтной».
— Укрепи это предостережение на оси проезжей части большака.
Прежние фашистские войска, как видно, спешно передислоцировались, — не случайно придорожная будка опустела, а новые пусть свернут на гать. Чтоб убедить их в правдоподобии, достоверности письменного обозначения опасности, установи на большаке трофейные мины. Сидоров, ты специалист по минированию, забирай из наших вещмешков эти взрывчатые игрушки и аккуратно зарой их в двух метрах сзади за указателем. Березовым веничком замети следы и концы в воду.
Рядовой Сидоров выполнил приказание. Терновой приволок излесу сухую длинную жердь. Преградил ею дорогу, подняв на козлы.
— Для пущей важности, как шлагбаум, — объяснил он.
Лейтенант Аглушевич критически осмотрел переориентировку направлений движения на перекрестке и, пряча довольную ухмылку в уголках губ, произнес:
— Что ж, заброшенный пост регулирования с нашими дополнениями и изменениями не вызывает подозрений. Теперь – к станции.
Обычно немногословный, неторопливый Сидоров, широко шагая, стал поговаривать, что надо быстрее воспользоваться благоприятной погодой.
— Товарищ лейтенант, поделитесь со мною вашим грузом, — скосил он глаза на зеленый узелок в руках лейтенанта Аглушевича и на выпуклость на его плече от трофейного автомата.
— Мне надо привыкнуть к чужим вещам, как к своим. А вы пока копите сил для более важных дел.
— Накопил уже… Да порожний вещмешок непривычно болтается — хоть дровами загрузи…
Поздней ночью вошли в деревню с северо-востока три советских разведчика, а с юго-запада — гитлеровцы на машинах.
Лейтенант Аглушевич идет впереди. Кажется, он пробирается не во вражеском расположении, а торопится из районного центра Сиротина в свое родное село Дулаево, что на Витебщине, где ему все знакомо с детства.
Местный житель — маленький, тощий старичок, с испуганным выражением лица — срывающимся голосом отвечает на вопрос раздведчика;
— Давешний хриц уехал от нас на лошадях, а энтот, новый, припер со станции с техникой. Рвется против наших, не к ночи будь сказано… Суматошный, сразу зачал строить мост.
— Раньше вы вброд переезжали речку? — поинтересовался лейтенант.
— Нет, евонный мостишко в один слой досок для подвод был хорош. А войску, видать, неспособно. Гитлер усумнился и дал наказ однова наложить полотно. Топеря ихние солдаты разбирают сруб новехонькой избы, а согнанные, как бараны, бабы, мужики, подростки гуртом носют бревна, доски…
На противоположной стороне деревни слышится лай собак, стук топоров, треск расщепляющегося дерева, суматошный говор.
— Папаша, на каких машинах приехали фашисты?
— Бог весть, на каких. На своих, не похожих на советские. Должно, легкие — свободно перешли мост. Стали возле сараев. Дула — короткие и тонкие — направлены в нашу сторону. Не беспокойтесь, они ночью дальше не поедут. Зайдите в избу, погреетесь с холода.
— Спасибо, отец. Ты сам иди домой, лезь на печь и запомни: пташка не должна знать о том, что мы побывали в деревне. Нам пора.
— Не сумлевайтесь, родимые, мы своей земле крепко привержены. Скорее возвращайтесь насовсем, — снял старик шапку в знак прощания.
Когда крестьянин скрылся за своей скрипучей дверью, лейтенант Аглушевич поделился с друзьями своим предположением:
— Перед нами, очевидно, разведка того противника, о котором говорил комбриг. В наши тылы двинут тяжелые машины, иначе, зачем враг наращивал бы исправный мост? Но это надо проверить. Все прояснится там, на «ударной» стройке. Потопали.
Открытая местность не позволяла подобраться к мосту. Вблизи работавших патрулировали два автоматчика. Все попытки приблизиться к ним оказались тщетными.
И лейтенант Аглушевич решился.
Развязал свой зеленый, узел, переоделся в форму гитлеровского солдата и скрылся за сараем. Через минут двадцать его высокая фигура, с бревном на плече и «шмайсером» на груди, появилась из ворот крестьянского двора, расположенного рядом с разбираемым домом. Он шагал уверенно, неторопливо и сразу растворился в потоке вражеских солдат, местных крестьян, нагруженных лесоматериалами.
Разведчики, лежа в снегу, около стога сена не спускают глаз с темного муравейника у речки. Минуты отсутствия лейтенанта, кажется, превратились в вечность.
Сидоров нетерпеливо ворочается:
— И что там деется? Почему так долго лейтенант не возвращается?
Сержант Терновой обернулся к товарищу и — самоуверенно:
— Прежде всего — выдержка. Не слышно никаких опасных шумов, значит, все в порядке. Лейтенант не из тех, кто без звука может угодить черту в лапы.
— А что, если он не может оторваться? Или что-то другое стряслось… Давайте, отвлечем фрицев ударом из автоматов. Лейтенант воспользуется суматохой и убежит. — Сидоров широко раскинул ноги, изготавливаясь к стрельбе.
— Ни в коем случае… — начал Терновой и осекся.
Со стороны сена свалился снежный комок. Затем второй. Сержант волчком крутнулся, рука потянулась к гранате. Сидоров снял спуск автомата с предохранителя и зарылся в снег.
Терновой осторожно поднял голову и обмер: из-за угла дальней избы выглядывает длинная, сгорбленная фигура фашиста. Сержант с оружием наизготовку двинулся к ближней поленнице дров. Только стал брать на мушку подозрительного субъекта, как тот сделал рукой знакомый жест.
— Отставить, Сидоров. Это — лейтенант, — свалил сержант свою оплошность на рядового, который, впрочем, первый разобрался, в чем дело и не собирался стрелять.
Человек в немецкой форме одежды поманил рукой к себе. Разведчики, не чуя под собою ледяного, сыпучего снега, поползли на зов.
Они встретились за тыльной стеной самого отдаленного сарая, как после многолетней разлуки. Подавляя в себе страстное желание, расспросить о подробностях «визита» лейтенанта к фашистам, сержант и рядовой, молча, выполнили его приказания.
Аглушевич быстро переоделся. Отдал узел с трофейной одеждой Сидорову и кивком головы велел трогаться в обратный путь.
— А это сам понесу, — забросил лейтенант через плечо большую полевую сумку. — Увесистая. Чудом удалось стащить, плюс на глаз прикинул состав вражеского подразделения, вооружение… Теперь — бежать во все лопатки.
Как они ни торопились быстрее вернуться к своим, утренний рассвет застал у знакомой будки, на распутьи.
Лейтенант Аглушевич, изучая накоротке пухлую сумку с документами, картой, ахает, пританцовывает, восторгается:
— Ай да случай выпал!.. Клад. Здорово!.. Комбриг прав: гитлеровцы на глухом лесном полустанке не грузятся для драпака, а разгружаются для удара нам под дых. Их авангард в моих руках. Только дурак может упустить такой шанс…
Он с ликующим блеском в глазах оценивает местность.
Поднимается метель. Снег заметает следы машин на повороте к будке и далее, в направлении к гати. Прямо уходит в дальнюю мутную перспективу основная дорога, перегороженная сухой жердью с четкой надписью «Minen!» Никаких признаков прохождения транспортов — продолговатые холмики курятся поземкой.
С противоположной стороны, сзади, неожиданно стали вырисовываться очертания вражеского транспортера. Сильный порыв ветра донес шум моторов, скрежет гусениц.
Лейтенант Аглушевич, быстро увлекая разведчиков за будку, думает: «Я на месте командира вражеского разведоргана принял бы все меры к тому, чтоб двигаться намеченным путем. Разобрался бы, что это за камуфляж, разыскал бы мины, выяснил бы принцип их размещения…»
— Пока мы тут изучаем всякие следы, фриц опередит нас и внезапно навалится на машины с горючим и боеприпасами, затем на тридцатьчетверки, — тревожится Сидоров.
— Нет, — широко улыбается лейтенант. Кажется, его сильно интригует какая-то идея — необычная и до конца не уясненная. Его заметно бросает в жар, и в холод. И, чтоб не застучать зубами, он старается шутить: — Без тебя, Сидоров, противник запутается. Поэтому, ты сейчас же побежишь впереди. Сними с себя всю теплую одежду, зарой ее в снег вон там, в канаве, около куста с пучком сена на макушке. Гранаты спрячь вместе с фуфайкой — это будет мой резерв, на черный день. Обменяемся трофеями: дай мне, вонючий, но везучий узел, возьми у меня все лишнее, — спокойно и быстро перешел лейтенант Аглушевич на серьезный тон, раздеваясь.
— Товарищ лейтенант, разрешите мне действовать вместе с вами? — осторожно спросил Терновой.
Комсорг разведроты загорелся страстным желанием на деле показать, что ему по плечу риск, на который способен храбрейший из храбрых молодой коммунист, вчерашний комсомолец. Опасная обстановка будоражит. Пылкое воображение юноши рисует захватывающую картину действий командира и его, сержанта, как бы в роли комиссара.
— Разрешаю, Степан. Беги вон к той поваленной сосне, оборудуй возле нее окопчик и наблюдай за моими представлениями. Я попытаюсьнаправить фашистов на заминированную гать. Если засыплюсь, махнупод машины по «лимонке» и в два счета окажусь рядом с тобой. Атам — лес, ищи-свищи. В случае неустойки в борьбе с врагом, поможешь.
Лейтенант Аглушевич с брезгливой гримасой на лице торопливо застегивает пуговицы трофейного мундира. Надевает солдатский головной убор с фашистским знаком. Напяливает тесноватую шинелишку, застегивая ремень, смотрит на Сидорова с напускной суровостью:
— Что так странно уставился на пряжку? На ней написано: «Gottmituns»(С нами бог).Понимай это как напутствие нам. Оно означает, что мы здесь с Терновым справимся и без тебя. После поймешь, что такой случай представляется раз в несколько жизней. Для разгрома этого вражеского подкрепления, надо… — и он выхватил из планшета лист бумаги, присел на колено, быстро что-то — написал и вручил бойцу вместе с трофейной сумкой. — Все это отдай комбригу или начальнику штаба. Доложи, что мы с комсоргом баламутим гитлеровцев, сбиваем их с толку. Рассуждать больше некогда. Топай сейчас же, да так, чтоб впредь никто не называл тебя медведем. Алюр три креста!
Сидоров налегке, в гимнастерке, со всех ног бросился к гати.
Терновой шмыгнул в свое укрытие.
Остался лейтенант Аглушевич. Во всем его существе оживились противоречия: логика, разум требовали не выходить за рамки поставленной задачи, ограничиться установкой мин, — перестановкой указателя, добытыми сведениями о противнике и немедленно вернуться в штаб бригады. Но душа пламенела, сердце неистово стучало, рвалось к подвигу. И над всем этим что-то как бы отрезвляло: поздно убегать от шума надвигавшихся машин, враг опередит. Стыдно заявиться к комбригу после того, когда гитлеровская колонна начнет громить тылы, коммуникации бригады.
И память воспроизвела слова из монолога Буслаева:
Не жду венцов,
Но раз один душой до неба взвиться,
Обнять весь мир, всю красоту,
А там… хоть камнем вниз!..
В расплату за блаженную мечту…
Все. Жребий брошен. Переодетый в форму рядового гитлероской армии, лейтенант Аглушевич вышел на развилку дорог. Ссутулился иначал энергично размахивать руками, пританцовывать — будто отбивался от злого русского мороза.
Три машины противника замедлили ход. Аглушевич дисциплинированно подтянулся и, не сходя со средины большака, уверенно показал рукой налево. Транспортеры на комбинированном ходу — сзади гусеницы, спереди колеса — скрипнули тормозами. «-Was heißt das?! Wer hat dich hier ausgestelt? Familienname?..»
«- Чтозачертовщина?! Кто тебя здесь выставил? Фамилия?..»— возмутился офицер, немного приоткрыв дверцу первого транспортера. Ветер бросил ему в лицо горсть снега.
Аглушевич, преувеличенно дрожа от холода и, усиливая короткие отрывочные фразы жестами, ответил по-немецки:
— Я рядовой Циммер. Выполняю приказ капитана Кнабе. В нашей роте — происшествие — вчера на железнодорожном переезде я похоронил своего командира. Меня прислали сюда…
— Прекратить лишнюю болтовню! Что здесь? — еле уловил Аглушевич смысл сердитых слов гитлеровца. Как ему пригодилось умение изъясняться на немецком языке!
— Слушаюсь! — и Аглушевич предостерегающе взмахнул левой рукой в сторону жерди. — Там — мины, — и правая рука описала в воздухе четкий разрешающий жест. — Туда — объезд.
Офицер, прикрывая шею и уши воротником шинели, крикнул в сторону задней машины:
— И здесь путаница. Шмольтке, разберись с этим регулировщиком. А я лично проверю дорогу.
Когда машина проходила мимо Аглушевича, он по-солдафонски сделал шаг назад и четко отдал честь. Затем повернулся лицом ко второму транспортеру. Заправляя под головной убор непокорную светло-русую прядь волос, он весь превратился во внимание.
Не успел фашист, названный Шмольтке, закончить длинную тираду ругательств, адресованных какому-то бестолковому Шютце, выскочке, подхалиму и паникеру Кнабе, как первый транспортер стал пятиться назад. Старший высунул голову из кабины, прикрыл лицо ладонью со стороны ветра и, ругнув русскую снежную бурю, крикнул:
— Дьявол!.. Там — миллион мин. Хорошо, что генерал вчера, после происшествия, задержал выезд до полного рассвета и сам намекнул на возможность объезда, иначе врезались бы на тот свет. Вечно штабные путают. Поворот налево предусмотрен для Щрамке, но ничего, мы первые, своротим.
Машины начали поворачивать налево. Аглушевич разинул рот от удивления. Он не верил своим глазам.
За будкой, однако, вражеская разведка остановилась. Вновь из кабины показалась сморщенная физиономия офицера.
— Шмольтке, выставь своего регулировщика. Этого кнабовского замороженного олуха отвезти к Штюбе… — с трудом разобрал Аглушевич новое распоряжение старшего группы. Ему показалось, что офицер, будто что-то шепнул солдатам.
В голове разведчика — мысли-молнии: «Шмыгнуть к Терновому?
Это означало бы преждевременно, по своей инициативе раскрыть себя. Нельзя допустить слабоволие. Вспомнил разговор о воспитании воли на комсомольском собрании… Пока дело идет, как по маслу. Зачем нарушать порядок? Выдержка! В терпении — спасение, как говорил Троян. А дальше что? Добровольно сесть в машину? Там начнутся разговоры, расспросы. Сами солдаты разоблачат, скрутят по ногам и рукам. Что делать?»
Вот с транспортера спрыгнул фашист. Вобрал голову в плечи, направляясь к будке. Аглушевич еще чаще захлопал своими рваными рукавицами, энергичнее запрыгал, создавая видимость, что коченеет от холода. На деле эти нетерпеливые движения как-то подталкивали работу мысли, обостряли ее, помогали тянуть время.
Гитлеровец остановился на полпути. Снял с плеча автомат. Заматывая тряпьем шею, бубнит:
— Ну, чего ты симулируешь? Тебе не так уж холодно. Где достал русские валенки?
«Переиграл. Увлекся», — осуждает себя Аглушевич, продолжаяразыгрывать, так будто ему мочи нет стоять на одном месте. Он зевает, вертится то на правой, то на левой ноге. Возбужденные глаза ищут Тернового. Возле рыжей сосны шевельнулся белый маскхалат — видно,что боевой товарищ находится в состоянии нетерпеливого ожидания.
«Все. Близится развязка… — лихорадит Аглушевича. — Этого типа пырну ножом, нет, лучше трахну автоматом по голове… В общем, как придется. В машины метну гранаты. Доброшу ли?», — и он еще усерднее стал делать гимнастические упражнения. Одновременно тоном покорности судьбе, членораздельно бросил через плечо солдату немецкий офоризм: -«Befehl heißt Befehl».
— «Приказ есть приказ».
Все другие немецкие слова, целые, заранее подготовленные фразы, вылетели из головы.
Сквозь снежную метель, бурю мыслей и чувств разведчика прорвался истерический голос гитлеровского офицера:
— Отставить! Шмольтке, — назад! Вон они — на пятки наступают. Время дороже золота…
Лейтенант Аглушевич осмотрелся и присел от удивления. Гитлеровец-автоматчик вернулся к транспортеру, а с противоположной стороны приближалась смешанная вражеская колонна танков и машин с пехотой. У разведчика глаза помутились. Сердце готово выскочить из груди. Подавляя в себе возглас приятного изумления, он стал усиленно делать отвлекающие движения — будто хотел согреться. На самом деле, в каждом его жесте сквозило торжество близкого успеха.
Когда головной танк подошел к перекрестку настолько близко,что фашист из башни смог обменяться сигналами со старшим третьего, замыкающего, транспортера разведки, последняя тронулась с места и быстро удалилась к гати.
Вражеские машины деловито, с соблюдением дистанций, поворачивают возле будки и двигаются по следам разведки.
Лейтенант Аглушевич сквозь шум моторов, лязг гусениц не может разобрать реплик в свой адрес. Вьюга, как бы торжествуя, заполонила весь перекресток дикой пляской снега. Жестикулирующая фигура Аглушевича мгновениями исчезает в завихрениях снежной стихии. Эта естественная маскировка — ему на руку.
Разведчику начинает казаться, что слишком долго не наступает развязка. Войска все двигаются и двигаются. Это и радует и пугает. Стало мучить новое предположение: не миновала ли вражеская разведка гать стороной? В этом случае он направил бы гитлеровцев кратчайшим путем на фланг своих танков. Это было бы медвежьей услугой,если не хуже. «Вот посчитаю до десяти, и если ничего не изменится, брошу гранату под машину и — к Терновому», — решил Аглушевич.
И только прошептал он: «Пять», как придорожные деревья встряхнулись от мощного взрыва. С них градом посыпались снеговые комья. Черной тучей снялось и закаркало воронье. Лейтенант уже не смог удержаться в рамках своей трудной роли — забил в ладоши от восторга.
— Отрегулировал!
Свершилось! Если бы счет длился до десяти, то и хвост колонны повернул бы налево.
К удивлению разведчика, движение продолжается. Аглушевич застывает на месте. Затем начинает жестами торопить водителей. Всем своим существом старается как-то протолкнуть мимо себя, к гати все машины. Его глаза, блестевшие нетерпеливым огнем, впиваются в грузовик — фургон, который замыкает подразделение. Неожиданно грузовик дернулся, резко клюнул своим черным, тупым носом вперед и замер. Все стало. Даже метель, кажется, притихла, вслушиваясь.Чувствуется, что вдоль колонны прокатилась зловещая волна замешательства.
У лейтенанта Аглушевича еще есть возможность прыгнуть к сержанту Терновому. Этого требует логика событий. Но он остается на месте. Его так увлекла невиданно-новая, «сверхвезучая» роль, что он физически не может выключиться из нее. Между тем, стоило бы ему вспомнить о том, что и в гитлеровских войсках, как и в советских, на марше могут отдаваться распоряжения по радио, и он принял бы единственно правильное решение.
Тем временем в эфире распространились радиоволны с приказом фашистского командования…
И Аглушевич не успел опомниться, как, будто под прикрытием нового порыва ледяного ветра, на него бросились, словно по единой команде, десятки врагов. Из окопа сержанта Тернового полосанули торопливые автоматные очереди. Повсеместно разразилась дикая пальба. Сквозь белесый снежный вихрь сержант кинулся на помощь к лейтенанту…
Финал короткой схватки — трагичен.
Раненый в кисть левой руки сержант Терновой в будке прикован цепью к слесарному верстаку. Лейтенант Аглушевич — рослый, с суровым, будто каменным лицом — стоит со связанными назад руками перед невзрачным фашистским офицериком в очках, с узкими белыми погончиками.
Он взмыл ввысь и забылся.
Странное состояние… Ни сон, ни галлюцинация, ни бред. По-видимому, — и первое, и второе, и третье…
Чудится, будто он, словно птица, свободно парит в небесном просторе. Под ним проплывает усыпанная цветами родная земля — та, которая родила его, щедро вскормила, вспоила. Земля неповторимо красивая, и такая любимая, и такая родная, что сердце трепетно заходилось. А затем ему кажется, что на эту землю движется, невесть откуда появившаяся грязная, черно-коричневая ледяная глыба.От нее тянет пронизывающим холодом. Вслед за этим грянул гром, небо располосовали огненно-красные молнии, сжигая все живое на земле.И пестрые цветы, и буйные пшеничные нивы, и мерно качавшиеся под ветром деревья вдруг вздыбились к небу черными, смерчеобразными клубами дыма и огня.
Тяжело вздохнув, он очнулся. Ощутил, как деловито и нежно, словно материнские руки, ветер-шалун перебирает прядь его волос, свисавшую со лба.
Слух поразили громкие орудийные раскаты. Устало приоткрыл веки. В углу крыши будки зияет большая дыра с рваными краями — следствие удара какого-то крупного осколка. В ней виднеются световые всплески. Ясно — вблизи рвутся снаряды. Вперемежку с красноватыми отсветами в будку временами вливаются потоки яркого света.И это понятно — сквозь разрывы в облаках пробиваются на землю солнечные лучи.
Ощутил, что правая рука, подложенная под бок, совсем онемела. Деревянка — деревянкой. Во всем теле — страшные боли, словно его, избитого бросили на острые, оледенелые камни. Первая попытка высвободить правую руку вызвала душераздирающие боли в левой. В ее кисти хрустнули раздробленные кости. Ухо уловило слабый лязг цепи и в голове помутилось.
Через какое-то время в сознании — недоумение, протест: я это или не я?.. Что случилось? Какая буря забросила меня в этот хаос? Просто не верится — очутиться наедине с невыносимыми болями во всем теле и детски-беспомощной слабостью… Неужели плен? И как можно допустить недопустимое? Нет, нет! Это неправда!
Тяжело приподнял голову. Увидел цепь, которая змеей извивалась от кисти левой руки куда-то вверх. Еще одно мучительное усилие и… — о, ужас! — оказывается, что противоположный конец цепи прикован к тяжелой станине верстака.
И он вспомнил.
… Гитлеровцы взял их в плен. Лейтенанта Аглушевича и его, сержанта Тернового. Вначале допрашивали Аглушевича. Один вопрос коварнее другого. Но тот молчал, только протестующе покачивал головой: мол, ни единого слова, гады, не выдавите из меня, никаких сведений, проклятые, не получите. Его начали избивать. Волевое лицо лейтенанта выражало одно: «Нет!»
Тогда фашисты применили новую тактику: стали блеющим, елейным голосом доказывать, что достаточно того, чтоб разведчик сообщил несколько данных о местонахождении советских войск, их количестве, флангах, предполагаемом главном ударе, чтоб он остался жив и невредим. За оказанную помощь армии «фюрера» его ждут всяческие почести и сытая, обеспеченная жизнь. И на это весь облик гордого белоруса отвечал: «Нет!», а по шевелению окровавленных губ угадывалось: «Никогда! Не ищи, бандит, в лесах легендарного Васьки Буслаева, как и на родной Беларуси, и на всей советской земле, изменников Родины».
После этого гитлеровцы, пиная непокорного лейтенанта Аглушевича сапогами, прикладами оружия, подвели к стволу старой сосны. Набросили на руки кандалы с тяжелыми цепями и приковали его к дереву так, чтоб разведчик находился на весу.
Затем наступил черед сержанта. Враги разорвали на нем маскхалат, содрали полушубок. И обрушился на него град ударов — коваными сапогами, железными прутьями-миноискателями, цепью… Мучители, кряхтя и состязаясь друг с другом, били всем, что попадало под руку.
Когда разведчик пришел в сознание, враги приковали его за раздробленную пулей кисть левой руки к массивной стойке верстака.
Терновой, вспомнив эти пытки, глубоко задумался о своей горькой доле. «Да что это такое? — больно пульсировало в голове сержанта.
— Вместо того, чтоб выручить из беды лейтенанта, я сам оказался пленником. Со мной, на моей земле, фашисты стараются творить все, что им заблагорассудится? Может быть, приползшая в наши края коричневая змея захочет, чтоб я шагал под ее «айн-цвай»? Не мечтает ли она, чтоб видеть меня ее безмолвным рабом?.. А хрена собачьего!.. Не бывать этому! Никогда не бывать!”.
От бурлящих мыслей, взбудораженных чувств негодования, презрения к врагу, у сержанта, казалось, прибавились силы, появилась решительность.
Первые же попытки сдвинуться с места внесли поправку: решительность была, а сил в истерзанном, истекавшем кровью организме не было.
От сознания того, что не видно возможности вырваться из плена, освободиться от железного капкана, Терновой еще больше разозлился.
В ту тяжелую минуту он представил себе лейтенанта Аглушевича, прикованного к дереву.
Светло-русая голова то бессильно свисает на грудь, то вдруг вскидывается. Сухие, воспаленные глаза пытливо ищут что-то. Но вблизи — только ненавистная фигурка в черной шинели. Враг копошится, суетится, собирает сухие, обломавшиеся с деревьев сучья, хвойные ветки. Складывает их в кучу под ногами разведчика, чиркает зажигалкой. Костер вспыхивает. Фашист довольно потирает руки, грудь, похлопывает себя по толстому заду и — хохочет. Еще бы! Истязатель победно наблюдает, как прикованный к дереву полураздетый советский разведчик корчится над огнем. Ну и пусть — попался отчаянный. «Победителю» забавно глядеть, как советский лейтенант старается над костром приподнять выше и раздвинуть в стороны от огня ноги, а оголенные руки, наоборот, силятся подтянуться к дыму, чтоб хотя бы немного обогреть их. И «сверхчеловек” громко, по-звериному ржет.
Тем временем, советский воин, предчувствуя, что обречен в любую минуту может быть расстрелян или убит тупым ударом топора, лопаты, все же тянется к жизни, как цветок к солнцу, к небу.
А самодовольный палач продолжает демонстративно греться у костра, сдвигая объятые пламенем головешки ближе к ногам лейтенанта.
Трудно представить себе муки, переносимые разведчиком. И все же он, в абсолютно безвыходном положении, находит в себе силы презрительно улыбнуться в сторону своего мучителя, плюнуть в него.
В пылком воображении сержанта Тернового рождаются различные варианты выхода из тупика — один фантастичнее другого. Сержантещераз пытается испробовать свои силы.
Пересиливая боль во всем теле, приподнимается, пошатывается, чтоб не упасть, пытается здоровой правой рукой за холодные челюсти металлических тисков. Самых обыкновенных, в которых зажимают различные заготовки, детали для механической холодной обработки.
«Что делать? Один на один — я согласен. Смерть за смерть — к этому всегда готов. Но в этой обстановке от меня требуется больше.
Я ведь не скован по рукам и ногам, как лейтенант. О моем положении Троян сказал бы: «Могло быть хуже. В терпении — спасение». И последнее меня не устраивает. Пассивное терпение — не в моем духе.
«Ищи выход, — говаривал Гридин. — Безвыходных положений не бывает». Следовательно, надо действовать, помочь командиру… Но как? Ага, ясно. Сначала следует самому освободиться, отцепиться от проклятого верстака. И скорее, а то вдруг появится фашист и мигом угробит нас обоих, по одному», — горит мыслями голова сержанта Тернового.
Повел ищущим взглядом вокруг. Вам приходилось видеть задумчиво-пытливые глаза бывалого воина в критическую минуту?.. Нет. Так вот в них было все: и первые отблески зловещих кровавых молний, и сполохи над приграничными городами и селами, и бураны взрывов снарядов, мин, авиабомб у Волховской ГЭС имени Ленина и под Синявином, и… — как ни странно — чистое небо с трелями жаворонка, и цветущиесады, оглашаемые соловьиным пением… И еще ему померещилось: на горизонте простирается синей стеной лес, правая опушка которого подступает к злополучной будке. А совсем недалеко, в канаве, возле куста с пучком сена на макушке спрятаны вместе с фуфайкой гранаты. Этот выступ леса с приметным кустиком зовет, просит к себе.
Сержант Терновой краешком сердца почувствовал: да это ведь кусочек, вернее — добрая краюха моей Родины. Она и укроет и поможет выполнить долг. Не мешкать!
Он почти криком кричит, но что делать нужно, еще не знает.
Проблеск обозначился, казалось бы, случайно. К нему привел новый порыв размышлений.
Родина!.. Это не только памятник «Тысячелетие России» в Новгороде и Эрмитаж в Ленинграде… Ведь не кто иной, как ты сам, Терновой Степан Тимофеевич представляешь крупицу Родины. А твой дом на Херсонщине, твой сад, а за ним — баштан и вечно живой, журчащий родничок, из которого ты утолял летом жажду и в котором охлаждал арбузы, разлинованные полосами зебры? И это Родина твоя. Родина виднеется ему и в небе. Вот он провожает взглядом дорогие весенние птахи — белогрудые ласточки, и те скворцы-дразнилы, которых ждешь, не дождешься, и те загадочно-недосягаемые курлы-курлы, от которых, бывало, душа разрывалась на куски, когда выходил во двор или в сад и вскидывал вверх голову. Для них, свободных, нет никаких рубежей, границ.
Как я вам завидую, птицы! И вы торопите меня освободиться любой ценой.
И тут идея вызывает к жизни материальную возможность.
Он тихо вскрикнул. На его измученном, черном лице просвечивается надежда.
Сержант Терновой, затаив дыхание, с мучительным, приглушенным стоном начинает медленно приседать. Правая рука скользит к валенку. Ее пальцы втискиваются за голенище. Еще стон, но с оттенком облегчения.
Приподнимаясь, осматривается глазами обретенной надежды. Сквозь дыру в крыше будки заструился золотистый луч. Глаза заморгали от резких, сияющих бликов, которые заиграли на лезвии небольшого, изящного кортика, зажатого в окровавленных пальцах. Это холодное оружие, подаренное Гридиным в день его ухода из разведки, каким-то чудом сохранилось за голенищем. Теперь оно должно помочь сохранить честь советского воина. Стесненная тяжесть в груди уменьшается. Где-то неясно, смутно брезжит выход из тупика. От этого тело как бы наливается физической силой. В плотно сжатых губах, сухих глазах угадывается решимость.
В голове — проблема: как с наибольшей пользой для дела применить нож?
Ждать гитлеровца, изловчиться убить его? Осуществим ли такой вариант — бабка надвое гадала. Бандит может остановиться с автоматом наизготовку далеко, в дверях, и не один… Нет, такой выход — не самый лучший.
Покончить с собой? Об этом подробно говорилось на комсомольском собрании, когда обсуждался вопрос о воспитании воли и воинского характера. Самоубийство расценивалось как проявление трусости. И верно: Гридин не для того подарил мне оружие…
За стеной — суматошный топот.
А-а-а!.. — тихо застонал сержант Терновой, с трудом сдерживая новый прилив бурных чувств.
Воспаленный взгляд впился в спасительное, блестящее лезвие.Оно приближалось к кисти раненой руки. Пересохшие губы зашептали:
В самом деле, почему раньше я не догадался? Сижу на цепи, прикованный за кисть, от хруста раздробленных костей которой темнеет в глазах. Она сама просится, чтоб от нее освободиться. В госпитале без колебаний ампутировали бы ее.
Он подавил в себе стон. Попытался выпрямиться.
В голове — болезненные уколы: «Хватит ли у тебя силы воли резать свою руку?» В ответ — настойчивые удары: «Не скули, мямля. Медведь, когда попадает в капкан, отгрызает лапу и такой ценой избавляет себя от неволи. Человек — сильнее животного, ему все по плечу».
— Итак, напрашивается одно: отрезать себя от цепи при помощи кортика, разыскать гранаты, уничтожить ими врага и спасти лейтенанта, — окончательно решил Терновой.
Взял в рот рваный лоскут подола гимнастерки, зажал конец зубами и здоровой рукой рванул вниз. Получилась узкая, длинная тесьма ткани. Ею перевязал выше локтя раненую руку. Выдернул из метлы толстый березовый прутик, вдел его в петлю тесьмы и, как гайкой — барашком, затянул жгут настолько сильно, что кожа больной руки, казалось, потеряла чувствительность.
«Но этого мало, — опасается он. — А что, если от надреза потеряю сознание? Надо придумать отвлекающую боль, — глаза остановились на тисках. — Есть! Нашел. Эти железные челюсти сыграют двоякую роль». И без колебаний стал зажимать в тисках бледные, обескровленные пальцы левой руки. Когда становилось нестерпимо больно, прикусил зубами нижнюю губу, и без того запекшуюся кровью.
Вдруг его залихорадило: что скажут дома, если такое случится? «С культей вернулся…» Перед затуманенными глазами померещились строчки маминого письма, из эвакуации: «Возвращайся домой с Победой. А, боже упаси, поранит тебя враг, не бойся этого. Это будет знак того, что ты добре воевал, не хуже людских детей».
Снаружи донеслись неясные, тревожные крики. Стрельба.
И он тихо простонал, про себя ахнул, предчувствуя, что вот сейчас холодное лезвие острого ножа коснется его живой руки, а затем… «Что затем»? Ведь не сдаваться же добровольно в плен. Не дождешься, проклятый враг!.. Другого выхода нет, его не существует, да и не может быть. Значит, остается одно. Мы еще посмотрим, кто кого одолеет. Поборемся. Культей? Да, ножом и культей будубить в фашистскую морду. Придется — и твоей рогатой каской размозжу башку… Все равно победим. Никуда, бандит, не денешься от возмездия. Хочу дожить до завтрашнего дня. И доживу, назло тебе, сучий выродок! Переживу тебя. Ты хочеш сделать меня калекой? Сделаешь. Но пленником — никогда!”
Он взглянул на обоюдоострый, тщательно отточенный нож. Холодный и злой. Мстительный. Разведчик оттачивал его для врага, не знал, что пригодится для себя.
«Ну, хочешь освободиться? Долой, помеху!» — и сержант Терновой напрягая в себе все силы, решительно полосанул по связкам запястия.
К удивлению, гораздо сильнее ощутилась боль на прикушенной губе, чем в месте пореза. Только голова затуманилась, да стало приторно от вкуса крови во рту, которая вытекла из раскушенной губы и капала с подбородка на гимнастерку. Сержант закачался.
Это был тот момент, когда он мог выдать себя и все задуманное погубить. По своей вине могла рухнуть такая благородная идея!
В воспаленном мозгу какая-то клетка требует: «Чтоб заглушить боль, всеми силами старайся вызвать в себе еще большую ненависть, злобу к проклятому врагу. Представь себе, что режешь не свое тело, а презренного фашиста».
Терновой еще раз навалился всем своим корпусом на верстак, на нож. Резанул с еще большим усердием. Второй раз, третий… Лезвие душераздирающе скрежещет по раздробленным костям. Невыносимая боль пронизывает от головы до пяток. В глазах потемнело. Под ногами закачалась земля. Голова поникла.
Из полузабытья вывел орудийный грохот. Он как бы дал новый импульс жизни. Сержант налег грудью на тиски и продолжал отрезать кисть. Наверное, в полусознательном состоянии. Очевидно, наступил такой момент, когда здоровая рука выполняла ранее отданный ей приказ инстинктивно, машинально.
Новый взрыв за будкой в сопровождении града каких-то ударовпо тонким стенкам, крыше, словно толкнул Тернового в грудь. Он сделал правой рукой резкое движение. Приподнялся над тисками, дернулся назад, в сторону и… отделился от цепи, верстака.
В затуманенном сознании — светлый луч: «Свобода! Освободился.И от цепи, и от руки, и от боли… — Застонал: — О, нет, от болидалеко не освободился». Лоскутом, оторванным от гимнастерки, перевязал культю.
Проблески радостного чувства побудили к дальнейшим действиям.
Не успел сделать и шага, как обессиленный рухнул наземь. Голова — кругом. Перед глазами расплываются очертания предметов. И все-таки, сознание не покидает его.
Нечеловеческие усилия воли, и — дополз до дверей. С глухим стоном перевалился через порог и выполз наружу. Жгуче-болезненный взгляд уперся в дерево, к которому прикован лейтенант Аглушевич. Видно, как от босых ног командира откатилась прочь тень гитлеровца. Может быть, померещилось? На дворе вновь поднялась метель.
Ах, будь что будет…
Сержант Терновой слабо крикнул:
— Товарищ лейтенант, — и, словно выдохнув с воздухом из себя последние силы, упал лицом в снег.
О, если бы можно было слышать этот голос! У железного человека сердце дрогнуло бы. В интонации двух слов было все: окрепший дух и боль души, счастье и горе, сила и бессилие /сержант не мог помочь любимому командиру/, и просьба к природной стихии, буре вдохнуть в него энергию, чтоб сделать еще шаг на пути к цели.
Он знал, что лейтенант не успел в критическую минуту выпустить последнюю пулю в себя. Может, это и лучше. Теперь они рядом, и один должен выручить из беды другого, то есть друга. Иначе это слово теряет свой смысл. Итак, — за друга, боевого друга, побратима…
Терновой оторвал лицо от снега. Ему почудилось, будто Аглушевич кивком головы указал на место, где припасены «на черный день» гранаты. На всякий случай. Но на верный случай.
Сержант Терновой еле шевельнул кровоточащими губами:
— Дорогой лейтенант, — и начал поворачивать свое болезненное тело в направлении гранат. При этом глаза не отрывались от Аглушевича. Они выражали уверенность: наша возьмет. Победим. Иначе, зачем умирали? Умирали, чтоб жить. И ты, Владимир Петрович, будешь жить, и я… Мы выиграем эту схватку. Никогда тебя не забуду. Народ будет помнить… Волхов, Ленинград, Новгородщина, твоя Беларусь — везде будешь вечно жить.
То ли дым от разорвавшегося снаряда, то ли от нового порыва снежной бури, то ли от болезненных стрел во всем теле перед глазами Тернового встала мутная пелена, и он перестал видеть Аглушевича.
Если бы сержант Терновой, избитый фашистами до полусмерти, ослабленный от потери крови и самоампутации кисти, не находился в полуобморочном состоянии; если бы у лейтенанта Аглушевича не притупились органы чувств от зверских истязаний и он мог бы наблюдать с сосны, к которой был прикован цепями, — то разведчики увидели бы результаты совершенного ими подвига.
Что за снаряды рвались в районе перекрестка дорог?
Оказывается, гитлеровская разведка на легких машинах проскочила каким-то чудом свой заминированный участок гати и остановилась перед дальней опушкой леса. За разведкой двинулась вражеская моторизованная колонна. Когда первый танк подорвался на мине, началась суматоха. Командир фашистского разведоргана вернулся назад.
Он доложил своему начальнику, что на основной дороге под знаком предупреждения им лично обнаружены немецкие мины, а у гати не было никаких условных обозначений. Гитлеровцы высказывали противоречивые мнения об ошибке Кнабе, о диверсии советских партизан. И сразу по радио было отдано распоряжение схватить подозрительного жонглера — плясуна на посту регулирования.
Фашисты со знанием дела приступили к извлечению из снега своих мин, вовсе не подозревая, какие события нависали над ними.
В голову колонны неожиданно поступило новое известие: немецкие войска наведены на минное поле опытными советскими диверсантами. Машины разворачивались назад. Тяжелый танк, размолов под собою верхний деревянный настил, засел в болоте и преградил отход колонны по узкой гати. Возникла невероятная сумятица. Слова команд тонули в надрывном гуле моторов, возбужденных выкриках. Повалил снег. С новой силой закрутила февральская пурга.
В это время свершилось то, ради чего рисковали своими жизнями разведчики лейтенанта Аглушевича.
На врагов ураганным вихрем налетела танковая рота капитана Самохина, точно выведенная к цели рядовым Сидоровым. Рослый, широкоплечий боец, над которым сослуживцы подтрунивали, что он родился с медвежьими повадками, всех удивил затяжным и опасным марафоном, невиданной поворотливостью, находчивостью, сообразительностью.
Под перекрестным огнем — фашистским и своим — он кратчайшим путем примчался к будке.
Колонну войск противника замыкала противотанковая батарея, которая с ходу развернулась у перекрестка дорог. К одной из пушек и кинулся от Аглушевича гитлеровец, замеченный сержантом Терновым.
Возле будки рвутся снаряды. Это бьют советские танкисты по фашистским ПТО, которые обнаружил Сидоров. Трассирующими очередями из автомата, жестами он указывает экипажам тридцатьчетверок цели.
— Неужели наши? — оживился Терновой.
Он пытается разобраться в обстановке. Мешают порывы ветра.Снег горстями засыпает глаза. В ста метрах от будки сержант видит необычную пушку. Возле нее копошатся враги. «Оказывается, лейтенант Аглушевич требовал уничтожить гранатами, именно эту цель», — с опозданием догадался он.
Воспользовавшись тем, что гитлеровцы поглощены своим делом, Терновой ползком достигает канавы, в которой Сидоров спрятал гранаты. Разгребает снег, развертывает фуфайку, кладет на плащ-палатку шесть «лимонок». И радуется и грустит — из канавы не добросить до орудия противника. Неужели дело дойдет до того, что придется взорвать их под собою?
Слух сержанта Тернового поразили резкие, торопливые выкрики. Различаются сбивчивые немецкие слова. Прорываются русские фразы.
А что, сволочи, влипли?.. Ха-ха-ха!.. Олухи царя небесного. Застряли возле собачника фон Драпке. Вас интересовали фланги? Вон как раз с нужного фланга накатывают тридцатьчетверки. Тут вам, проклятым — крышка, капут!
Мгновенно откуда-то вынырнул гитлеровец в черной шинели, на ходу захлебываясь:
— Наконец, язык развязался. Убрать костер! Снять цепи!..
Второй маленький фашист, в очках, опередив офицера с завязанными платком ушами, стал разбрасывать головешки от ног Аглушевича.
Лейтенант, дополняя скудные знания немецкого языка мимикой, русскими словами, продолжает свысока костить врагов:
— Я — Василий Буслаев. Запомните это имя, гады. И вот моя работа… Полюбуйтесь, мольтке-пруссаки, — вытянул шею Аглушевич в сторону гула советских танков.
Речь прерывающаяся. Трудно высказываться на чужом языке, тем более — с огоньком, с перцем.
— Развязать! Буслай — известный русский… Будет важный подарок генералу…
Тирада гитлеровца тонет в грохоте разрывов между будкой и ПТО. Площадку заволакивает дымом, снежной пылью.
Офицер в черном бросился к машине, которая разворачивалась на большаке, на ходу отдавая распоряжения.
Снаряд опять ухнул впереди пушки. Орудийный расчет укрылся за будкой. Это вывело из затруднительного положения сержанта Тернового — цель сама приблизилась к нему.
Сержант напрягает силы, и всего себя, без остатка сосредотачивает на одном: броске гранаты. И с тяжким стоном метнул. Вторую… Распластался на снегу, так и не увидев, поразил цель или промахнулся.
Обессиленный Терновой не видит и финала трагедии.
Когда он неподвижно лежал, тщедушный гитлеровец, в очках, с автоматом наизготовку забежал в будку. В потемках, напрягая зрение, лихорадочно ищет человека на цепи. Держа палец на спусковом крючке оружия, обшаривает все углы. И с каким диким возгласом враг отскакивает от окровавленной кисти в тисках! Как ошпаренный, бросается наружу. Оббежал кругом будку, прочесал автоматными очередями кусты, в одном из которых послышалось: «О, майн гот!” И на миг останавливается перед Аглушевичем. С пеной у рта, трясущийся.
В это время лейтенант Аглушевич вытянул свою жилистую, крепкую шею, будто стремился разглядеть что-то вдали. Оголенные мускулистые руки и ноги, в кровоподтеках и синяках напряжены до предела. Звенья стальной цепи заскрежетали. Под ними, на широкой груди скомкались окровавленные обрывки трофейного обмундирования и гимнастерки защитного цвета.
Гитлеровец сделал робкий шаг к своей жертве.
В каждой черточке крупного, волевого лица лейтенанта выражалась такая презрительная, испепеляющая ненависть, что маленький фашист отшатнулся от него, как суеверный от страшного привидения.
Дальше все произошло молниеносно.
Сквозь грохот боя и гул в голове сержант Терновой с трудом расслышал слова лейтенанта Аглушевича:
— Наша взяла! Сказано: победа — впереди!.. Значит, недаром жил… Прощайте, товарищи!
Захлебывающийся треск «шмайсера». Отозвалось лесное эхо. И, казалось, повторило не вражеские выстрелы, а последние слова советского разведчика.
Терновой выглянул из канавы. Перед глазами, как в тумане, мерещится высокая рыжая сосна, на которой как-то мешковато свисает могучая фигура Аглушевича. Почудилось, будто она конвульсивно дернулась, осела, повисла на цепях и затихла.
Сержант почувствовал острый укол в груди. Он понял всю тяжесть трагедии. Встрепенулся. И, окончательно придя в себя, стал отчаянно карабкаться в снегу. Несколько метров сумел проползти.
Его взбудоражили какие-то незнакомые крики, неясные тени. Рука нащупывает гранату, в зубах остается чека. Страшно болезненный взмах… И забытье.
Аглушевич В.П. Владимир Петрович лейтенант
Тем временем, тщедушный фашист успел на ходу вскочить в машину и вместе с офицером в черном укатил по дороге на юго-запад.
… Т-34, а за ним танк без башни, облепленные автоматчиками, завернули к будке. Остановились. Открылись люки. Двое в танкошлемах спрыгнули на снег. Спешились и мотострелки. Гурьбой кинулись к дереву, с которого свисал лейтенант Аглушевич.
Люди остолбенели.
На выразительном лице разведчика застыла ироническая улыбка. Такая всем знакомая, близкая, дорогая. Светло-русая прядь волос шевельнулась под дуновением ветра.
— Живой! — обрадовано крикнул капитан Троян.
— Володя… — первый коснулся ног лейтенанта капитан Стале- вич. — Разудалая твоя головушка… — и — медленно, с расстановкой; Владимир Петрович Аглушевич… Немало ты оглушил фашистского зверья. Шел всегда впереди… И — победил… И, конечно, ты живее некоторых живых…
Боевые побратимы кинулись снимать цепи, приподняли тело… Троян всхлипнул. В светлых глазах Аглушевича блестели остро-игольчатые ледяные остинки. Широкий лоб обрамляли мертвые цветы снежного серебра.
Зачастили белыехлопья, устилаямягким пухом окровавленную площадку. Метель стихла.
На высоте с церковью посередине и после боя неспокойно.
Под столетними развесистыми липами — особое оживление. Людиубирали ветви, сбитые осколками, пулями, обломки вражеской боевойтехники, трупы. Приспосабливали для укрытий полуразрушенныекапониры, окопы, загоняли машины под кроны деревьев.
В проломе церковной каменной ограды под прикрытием голых ветвей старого осокора дымилась походная кухня.
Аромат борща с кислой капустой привлек бойцов-добровольцев-помощников повара — одни кололи дрова, другие подносили воду.
А среди сельских строений, разбросанных на пологих скатах высоты, поднимались, к церкви все новые машины, тягачи, повозки, сани…
По крутым ступенькам колокольни быстро спускался всегда энергичный, деятельный майор Дончак. На ходу отдавал распоряжения, наводил порядки. Держал курс к штабному автобусу, который завяз в снегу, объезжая разбитый и еще дымивший танк противника. Ездовые, пехотинцы шарахались, в стороны от грозного тенористого голоса:
— А это, что за синклит объявился? Не тулитесь к забору — вижу. Чужие?.. Перед НП бедлам устроили… Марш в свои части! Убрать кухню!.. А там, внизу, что за архаровцы ломают изгородь?
— Санитарки медсанбата застряли. Вон доктора стараются при помощи подручных средств выбраться к церковной ограде, — ответил кто-то.
— Медиков только здесь не хватало. В другое время днем с огнем не найдешь, а сегодня взбираются прямо на НП. Загромождают и демаскируют дороги. Их место — в низинах, под соснами, а не на голой высоте. Полутыкин, — бегом к командиру медсанбата. Потребуй, чтоб развернул свои фургоны назад и убрался бы в лес, восточнее села… Разогнать все другие машины. — Майор открыл дверцу штабного автобуса: — Трубкин, через Глущенко вызвать капитана Самохина.
— Нет связи, — хриплым голосом отозвался радист.
— Я давно говорю, что распроэдакие связисты вкупе с коновалами подведут под монастырь. Строкань, лети к танкам. Сообщи приказ комбрига… — Снизил голос и — на ухо: — Предупреди, что гитлеровцы опомнились, перегруппировываются и направляются к левому флангу.
— Товарищ майор, срочно нужны люди. Надо сделать завал на дороге справа… — подбежал маленький, черненький сапер.
— Не надо!
— Почему? Там противник копошится. Я сам видел.
— Мне со своей колокольни виднее. За деревней, возле овощехранилища три паршивых фрица трясут вшей, а вы вообразили… Вон за тем высоким лесом, на большаке враг собирается к переходу в контратаку. Надеется, что мы еще не в сборе, а тут, на НП, наоборот, все собирается — и кухни, и санитарки… Ох, — размахивая руками, майор Дончак продолжал честить на все корки хозяйственников, связистов, тыловиков, пехотинцев-соседей.
Вскоре оказалось, что сетования майора были не напрасны.
Фашисты намеревались взять реванш за поражение на гати и в бою за высоту с церковью.
Капитан Троян шел с НП на окраину деревни, в расположение роты капитана Самохина. Попутно начальник политотдела приказал ему зайти в медсанбат и вручить комсомольский билет на днях принятой в комсомол медсестре. Дорога спускалась полу дугою к лесу. Справа, за банями, в кустарнике урчали танки. На подъеме, у окраинных крестьянских изб завывали моторы машин с красными крестами на бортах. Слева простиралась снежная равнина.
Возле санитарки, засевшей по ступицу в танковую колею, Троян встретил командира медсанбата. Высокий, худой майор, в длинной шинели с ходу начал распространяться о своих заботах.
Незавидная моя судьба. Вечно мучаюсь на разбитых танками дорогах, да еще с ранеными. И от госпиталя далеко, и вас не могу догнать.
— Сегодня вы перестарались — обгоняете боевые порядки войск, — показал Троян жестом вправо, в сторону мелколесья, исполосованного танковыми следами. — Вам передали распоряжение штаба о порядке выдвижения на новый рубеж?
— Если бы я ждал приказаний, то находился бы еще за Волховом. У меня рации нет, а по другим средствам связи узнаю, что нужен тогда, когда в танковых батальонах появляются раненые и поблизости нет соседей-медиков. Поэтому сейчас решил сам не отставать от боевыхподразделений. Отстающих, как известно, бьют. Не шучу — мне без зенитного прикрытия часто здорово попадает с воздуха.
Танкисты забыли, когда их бомбили.
Известное дело — гитлеровские летчики после того, как им не удается выполнить задание своего командования, сбрасывают груз, где попало: на запруженные дороги, госпитали, склады… Не случайно мне как-то встретились на фронтовой магистрали три медсестры из шумского госпиталя. Говорили, что вышли на разведку проходимости колесных машин по танковым колеям. «Пробираемся туда, — сказала маленькая, бойкая девчонка — где рокочут наши танки, а не фашистские самолеты, которые нередко отыгрываются на безоружных тылах».
И оба насторожились. Из-за леса как бы соглашались со сказанным прерывистые, басовитые звуки:
— У-у-у… У-у-у…
Вопросительное лицо майора повернулось к вершинам дальних елей.
С земли полуавтоматический огонь зениток торопливо подтвердил:
— Так-так, так!.. Так-так, так!..
— Выходит, майор Дончак не зря заранее беспокоился о вас, — заметил Троян.
— Бывает трудно различить, когда его беспокойство серьезное, а когда напускное. Приходится самому решать, как поступить лучше.
— Сейчас, чтоб не было хуже, давайте в первую очередь уберем с открытой дороги санитарку с ранеными, — предложил Троян.
Подбежали сестры, санитары, врачи. Общими усилиями удалось вытащить тяжелый транспорт из глубокой танковой колеи. Шофер продвинулся к забору крайнего двора и вместе с деревенскими мальчишками стал маскировать хворостом приметный с воздуха кузов.
Работники медсанбата старались изо всех сил протолкнуть к укрытиям остальные машины. И капитан Троян помогал. Он уперся плечом в задний борт грузовика с медицинским имуществом. Воротник полушубка зацепился за жесткие края таблички с номерными знаками.
Во время выполнения очередной команды майора: «Раз, два — взяли! капитан ощутил чью-то руку возле головы и частое, теплое дыхание над ухом. Слегка обернулся и встретился глаза в глаза с отдаленно знакомой медсестрой Ларисой, которой, кстати, предстояло вручить комсомольский билет. Ее круглое, миловидное лицо разрумянилось. Щеки, ноздри, раковины ушей алели, как лепестки розы. Губы шевельнулись:
— Я поправила ваш воротник, и хотела шепнуть на ушко…
Троян уловил в интонации нечто загадочное. И подумалось; щекотливое дело, только собирался разыскать ее, чтоб выполнить поручение полковника / вручить билет/, а она — тут как тут и с каким-то секретом. Им овладело неизъяснимое любопытство. Вспомнилось, что в последние дни приходилось несколько раз встречать взгляды этой девушки, которые будто означали: мол, эту тайну знаем только мы с вами. Ее нос, ранее казавшийся великоватым, в тот момент как бы придавал лицу выражение смелости и даже выглядел симпатичным.
И капитан, смущаясь, почти коснулся ухом ее щеки:
— И у меня к вам — очень важное дело, — имея в виду вручение комсомольского билета.
— Мое важнее… — сказала она так, что у парня сердце учащенно забилось.
— Тогда скорее говорите.
— Минуточку, — ощутил он ее взволнованное дыхание. — Валя…
И в ту же «минуточку» разразился страшный грохот. Мимо пробежала медсестра Валя Антонова. «О какой Вале заикнулась Лариса? И в связи с чем?” — недоуменно провожал Троян взглядом девушку, которая так рванула на зов своего командира, что оставила на углу жестяной таблички клок меха от своей рукавицы.
Медики стихийно бросились направо, в ближайшие кусты, не зная, что там — район исходных позиций танков.
Танкисты энергичными жестами, выкриками запротестовали:
— Немедленно вернитесь назад! Не демаскируйте нас.
Но уже было поздно — бомбы засвистели над головами.
Троян, сбитый с толку мгновенной сменой впечатлений, остался стоять на дороге. Сообразив, что происходило, крикнул:
— Ложись, где попало! — и сам растянулся в придорожной канаве.
Медработники не расслышали его слов. Только майор остановился, закачался, оглядываясь. Его лицо исказила гримаса отчаяния — подчиненные продолжали бежать под бомбы. Наконец, он потребовал:
— Стой! Поворачивай на левую сторону!
Для наглядности старался личным примером показать, как следует поступить. Свернул от разрывов бомб с дороги и сразу оказался на ровной, как стол, снежной поляне, за которой, в 300 метрах виднелись огороды, копны сена, строения.
Люди растерялись. Падали, поднимались, беспорядочно перебегали дорогу на четвереньках. Затем воспользовались маленькой паузой — бомбардировщики разворачивались для второго захода, — вскочили на ноги и решительно двинулись за своим командиром на поляну, в сторону деревни.
Троян видел печальную картину. На открытой местности, в глубоком снегу барахтались десятки людей. И он повторил просьбу остановиться, замереть на месте. Но опять — вой самолетов, грохот новой серии бомб. На снегу по-прежнему выделялась фигура бегущего майора.
Когда командир медсанбата во главе доброй половины своихподчиненных находился на полпути к деревенским строениям, белая поляна потемнела от клубов дыма, от выворачиваемых взрывами комьев земли. В следующий миг зловещие черные столбы расцвели под солнечными лучами каскадами водяных брызг. Оказалось, бомбежка настигла бежавших на льду пруда, занесенного снегом.
Люди стали проваливаться, как сквозь землю. Снежное поле засверкало обширными полыньями, в которых отсвечивали холодными гранями бесчисленные льдины. За них хватались руками те, что очутились в воде. Все кувыркалось, тонуло и тут же всплывало.
К счастью, водоем был не везде глубоким.
Среди обломков плавающего льда выросла лоснящаяся фигура майора. Он шел по пояс в воде, выкрикивал, поднимал своих работников, направлял их к берегу.
Фашисты переключились на бомбежку танков.
И тут капитан Троян впервые за день растерялся.
От пруда бежала в сторону взрывов девушка. На ней туго затянутая ремнем шинель. В одной руке шапка, в другой медицинская сумка. С одежды ручьями стекала вода. Мокрые, слипшиеся волосы отливали на морозном солнце глянцем.
— К танкистам! – кричала она. — На всякий случай. Вдруг потребуется медицинская помощь…
— Лариса, вернись! — голос майора потерялся в новом грохоте бомб.
На этот раз воздушный враг беспорядочно рассыпал свой груз на обширной территории.
Когда рассеялись дым и снежная пыль, многие увидели, как Лариса бежала, петляя среди воронок, оставляя на снегу кровавый след. И упала недалеко от санитарной машины.
Троян — к ней.
— Не подходи! — не своим голосом завизжала девушка.
И он отшатнулся. Теряя равновесие, закачался и упал на снег.
Раненая лежала ничком. Дергалась, стонала, всхлипывала. Троян поднял голову. Взглянул. Протер глаза и зажмурился. На спине Ларисы вата из распоротой осколками шинели пестрела пятнами крови. Ниже хлястика не было шинели. Остатки другой одежды, развороченное осколками тело — все как бы смешалось и сочилось кровью. Что делать? Чем помочь? Как остановить кровотечение? Где наложить жгуты?
Под грохот бомб он подполз к несчастной. Попытался словами успокоить ее, удерживая за плечи, прижимая к земле. Лариса же поминутно порывалась куда-то бежать.
«Ах, какая беда! — терзался. Троян. — Искал с ней встречи послужебному делу, а она заикнулась о чем-то интимном. Теперь надоисполнить обычную воинскую обязанность — перевязать рану,- но уширезал истерический крик «Уходи!»; опять мешает какая-то неясная интимность».
Тяжелые взрывы, частый треск зениток раздавались в районе расположения танков и около церкви. Самолеты опять зашли в пике и освобождались от груза над парализованным медсанбатом.
Положение, в котором очутился Троян, показалось ему трагически безвыходным. И он закричал о помощи.
Прибежел майор. Неузнаваемо бледный, трясущийся после ледяной купели. Лариса и его не подпускала к себе. Он силится что-то сказать. Вместо слов — громкий стук зубов. Потом беспомощно развел руками.
Еще не утих гул вражеской авиации, а со стороны санитарной машины, замаскированной хворостом, раздался голос Дончака:
— Что там за синклит собрался? Ану-ка, марш на ставок, спасать медицинских русалок. Прихватить на помощь вон тех архаровцев, что слоны слоняют меж кустов.
Майор-медик встрепенулся, шагнул навстречу Дончаку, но тот бегом кинулся к танкам, где, судя по стрельбе, начинался бой с наземным противником.
Командир медсанбата двинулся наперерез медсестре Вале Антоновой, которая бежала к танкам. Он схватил ее за руку и потащил к дороге.
Медсестра упиралась, возражала:
— Надо — туда… Там люди, герои…
— И здесь — человек, сложнее — девушка …
Молоденькая, щупленькая Валя и раньше походила на школьницу. После ледяного купания выглядела хрупким, беспомощным ребенком. Однако, спокойные, уверенные действия возле Ларисы поразили мужчин.
— Эх, вы, такие большие дяди, — упрекнула Валя, стуча зубами от холода, — а растерялись. Подсобите мне…
Раненая перестала плакать и биться. Слышалось только приглушенное всхлипывание. Валя с помощью офицеров перевязала ее и отправила с санитарами в ближайшую избу.
Через несколько минут она уже мчалась обратно. Вдруг остановилась. Распахнула широкую и длинную красноармейскую шинель /видно, переоделась в избе/, порылась в кармане гимнастерки и разрыдалась. Сняла с головы замасленный, великоватый танкошлем /кто-то из раненых дал ей вместо мокрой шапки-ушанки/ и мехом внутренней стороны стала утирать слезы.
— Что случилось? — подбежал к ней капитан Троян.
— Не уберегла, растяпа… Посмотрите, как размок… — протянула она капитану маленькую серенькую книжечку.
Да, отметки об уплате членских взносов, сделанные фиолетовыми чернилами, расплылись, — осторожно перевертывал Троян мокрые листики комсомольского билета. — Но бывает хуже… Если доверите мне, я возьму ваш документ, покажу начальнику политотдела. Он решит, следует ли ждать новый или оставить в таком виде.
— Вам, комсомольскому вожаку не доверить? — перестала всхлипывать Валя. — Да могу вам самое сокровенное поверить… — и она приблизилась к нему.
Он под свежими впечатлениями от «откровений» Ларисы, качнулся в сторону и присел благо над головами пролетел снаряд, что дало ему повод поторопить Валю:
— Пока не начался артиллерийский обстрел дороги, бегите к майору, а я — по своим делам… — Второй снаряд разорвался в пруду. — Это пока пристрелка.
И они разошлись в разные стороны. Валя кашлянула, обернулась, поманила пальцем и как-то странно улыбнулась. Затем убежала.
Пряча в карман мокрый документ, Троян думал: «Одной не вручил комсомольский билет при загадочных и трагических обстоятельствах. У другой взял на хранение тоже в странной обстановке — и слезы, и улыбка… Имею ли я право носить эти документы на поле боя? Поскольку в намеках девушек чувствуется что-то сердечное, то сохраню эти книжицы у своего сердца, а вечером доложу начальству”.
Капитан Троян опять встретился с командиром медсанбата.
— Так это такой, обещанный комбригом молниеносный бросок на Дно? — еле выговорил майор с иронией в тоне. Он имел в виду город на пути наступления.
К нему начинало возвращаться самообладание.
И Троян в унисон — шутливо:
— Пока, что был только небольшой нырок на дно колхозного пруда. Бросок — впереди. Враг, хотя и пыжится, но дела его явно идут ко дну. Не горюйте — могло быть хуже.
— Верно. Был бы водоем поглубже, и мы остались бы без врачей. Чтоб им, стервятникам проклятым, ни дна, ни покрышки! Нет, в дальнейшем медсанбат не будет, очертя голову, бросаться за танками. В бригаде есть кому, без меня, достигнуть в авангарде Дна, а я — следом.
Троян догнал танковую роту Самохина на завершающем этапе боя.
Контратака противника отбита. Танки вытягивались вдоль дороги,накоротке пополняясь боеприпасами. Изготавливались к преследованию.
— Дорого нам обошлась эта деревня,- недовольствовал Самохин. Он еще не знал о потерях от авианалета в медсанбате, управлении бригады. — Много раненых. Погибли храбрые танкисты, отличные боевые товарищи. Помоги, Петро, эвакуировать раненых. Медсанбат рядом. Кстати, он первый раз за время наступления догнал нас, даже чуть-чуть опередил.
Под руку подвернулся тягач. Танкисты сгрузили боеприпасы. Троян тут же разместил в тесном кузове, сколько мог носилочных раненых. И пошел искать на поле боя и вблизи него какой-либо транспорт, озабоченный: о чем Лариса намеревалась посекретничать? О какой Вале она заикнулась? А поведение Вали Антоновой? — то слезы, то улыбка… Под большим вопросом и главное: на чем отправить людей на лечение, и в состоянии ли врачи медсанбата принять раненых?
Нерадостные размышления Трояна нарушил приближавшийся сбоку скрип снега. Обернулся и не сразу узнал того, кого увидел. Маленькая девушка — затянутая брезентовым ремнем рваная красноармейскаяшинель /явно с плеча здоровяка/, черный танкошлем с распущеннымимеховыми ушами — тащила на салазках длинного автоматчика-десантника с забинтованной головой.
— Вы?! А как там?… — расстроганно начал капитан, показав рукой в сторону медсанбата. — Больше половины ваших работников нуждается в уходе, лечении… И сами, небось, простудились. Вы напоминаете мне…
— Мою тезку, хотите сказать? Нет, ваша Валя — в стационаре.
— Там медсестры не простужаются. Наоборот, им жарко, поэтому иногда рвутся на прогулки, ищут танковые следы… Только что отправилав тыл Ларису…
— Да? Мне нужно догнать ее, — встрепенулся Троян, имея в виду попытку, вручить ей комсомольский билет.
— Не успеете. К тому же я упредила вашу просьбу — велела передать Вале от вас привет.
Троян растерялся, второй раз в тот день. И не мог скрыть своего искреннего удивления. Выходит, эти девушки знали Валю. Значит, она недалеко.
Лицо Вали Антоновой как обычно, свежее, жизнерадостное и ласковое, приняло нарочито строгий вид:
— Комсомольский бог — не девчонка. Вам не положено так прочувственно удивляться. Перенимали от Кости Гридина волю, нас воспитываете в Костином духе, а сами расчувствовались…
— Наверное, от того, что у моего сердца хранится ваш комсомольский билет, — он старался овладеть собою. Достал из левого кармана гимнастерки серенькую книжицу, радуясь: — 0, ваш документ стал как новенький, будто и не бывал в воде.
— И отлично, — протянула Валя руку. — Верните мне мой билет. Ему положено быть не у вашего, а у моего сердца, в любом виде.
Капитан Троян, не узнавая резкого тона медсестры, молча повиновался.
— Спасибо… за тепло сердца, — заметно смягчилась Валя. И — опять строго: — Передайте командирам подразделений, что медсанбат вполне боеспособен, что санитарная машина стоит на просеке возле вышки — Задорно мотнула головой и добавила про себя: — Но-о, лошадка, поехали!
В голове капитана Трояна не укладывалась противоречивость поведения медсестры. После такой ледяной ванны эта нежная, хрупкая девчонка могла продолжать выполнять свой долг. А Лариса? Еще более загадочная личность. Да, рассуждал он, перед ними бледнеютобразы русских цариц терпения и скорби Марфы-Посадницы, жен декабристов… В самом деле, с лица Вали Антоновой не исчезали выражения: презрительно-иронические, адресованные ударам судьбы, величавой гордости от сознания своей силы и превосходства над злом. В ней — сердце Зои Космодемьянской… Вон она — ростом ниже придорожного столбика с указателем на Дно, а господствует над обширным полем боя. Каждый ее шаг — подвиг, сродни делам тех, кто овладел высотой с церковью и отразил контратаку врага. Еще гремели выстрелы, выли мины, снаряды, щелкали в ветвях разрывные пули, а она уверенно делала свое дело. На какие высоты способны взлетать наши женщины — их душевное благородство, человеческая сила, непревзойденная красота!
Иные, изучая обстановку, противника, ищут господствующуюнад местностью высокую точку, колокольню, а Вале достаточно своего роста — три вершка от горшка. Разные бывают высоты.
Форсированные броски. Жаркие стычки. Днем и ночью…
Бездорожье, снежные заносы, болота, речки… На танкодоступных направлениях — вражеские заслоны, минные поля, лесные завалы…
Офицеры управления бригады распределены по танковым подразделениям. Капитан Сталевич — в танковой роте капитана Мотылькова. И весьма удачно. Там, где Мотылькова по обыкновению тянет к эффекту, показухе вмешивается, советует не менее смелый, решительный и вдобавок последовательно выдержанный Сталевич. В результате дело выигрывает.
Капитан Троян не разлучался с Самохиным и Моторным. Вот критически настроенный капитан Самохин, свернув со своей ротой в лес, остановился и костил на все корки соседа справа, который якобысбился с намеченного комбригом маршрута, вырвался вперед, занялсовхоз «Чайка” и подавал оттуда сигнал: «Свои». Самохин лихорадочно искал на карте и на местности обходной путь, чтобы скрытно обставить «кичливого» соседа. Флегматичный Моторный предложил тем временем снять надмоторную броню «Урала» и выяснить, почему вентилятор выл. И еще беда: прервалась радиосвязь. Получилась вынужденная пауза. На помощь пришел Троян. Он терпеливо повозился у рации, добился восстановления связи, одновременно уточнил, в штабе бригады, что «Чайка» значится в приказе комбрига для Самохина «исключительно», а не «включительно», что танки соседа ворвались в совхоззаконно. Следовательно, недопустимо терять время и распылять силы на мелкие ремонты, поиски обходных путей.
И танковая рота капитана Самохина, выйдя на свое направление, вихрем пронеслась, мимо «Чайки», салютуя танкистам соседа, занятым дозаправкой горючим.
Главное, капитан Троян на марше, как и в бою, стремился постоянно общаться с молодежью, новичками-комсомольцами. То он на броне с автоматчиками, то у танковой пушки, то с наушниками возле рации, то за рычагами механика-водителя. Рана полностью зажила. Неполноценность правого глаза, казалось, — не помеха. Капитан в любой обстановке, на ходу, улучив момент, склонялся к танковойрадиостанции, принимал и записывал последние известия, передавал в эфир короткие призывы. Всякий раз успешно подменял того из членов экипажа, кого сваливала усталость.
Во время продолжительных маршей, прежде всего, уставал и клевал носом механик-водитель. Иной, бывало, задремлет и это не сразу замечалось — человек мог управлять танком в течение какого-то времени в полусонном состоянии. Поэтому, в экипажах было правилом — постоянно следить за тем, кто сидел за рычагами.
Особенно изнурительным оказалось наступление вдоль железной дороги на город Сольцы.
Четвертая бессонная ночь. Где-то над душой скрипел фашистский «ишак». Серии громоподобных взрывов сотрясали мерзлую почву то перед носом, то за кормой. Ослепляли ракеты, пожары. Казалось, что трассы разноцветных пуль проникали через мерзлую толщу железнодорожной насыпи, насквозь пронизывали боевые машины вместе с десантом. Но, ни танк не останавливался, ни один десантник не сваливался с брони.
Темп наступления не снижался. Ни ночь, ни звуковые, световые раздражители, галлюцинации — не помеха.
Самохин высунулся из башни.
— Петро, возвращайся в машину, а то замерзнешь.
— Ночью не видно — холодно или тепло. Бывает хуже. А лучше спроси у десантников.
— Сержант Сидоров, может, остановимся, побегаем, обогреемся? — обратился командир к разведчику, голова которого приблизилась к перископу.
— Товарищ капитан, не надо останавливаться. В движении радостно на душе, а потому и тепло. Посмотрите, только что перемахнули через живых гитлеров в окопах — словно на учебном поле, под Шумом. От того, что мы делаем погоду в расположении врага, дух захватывает.
— Уже отвыкли прыгать на ходу. Из-за лени, — осторожно подтрунил кто-то над сержантом.
— Не все, — уточнил Троян. — Новичок рядовой Маликов во время заминки соскочил, гранатой и автоматным огнем уничтожил пулеметное гнездо, догнал нас и, как циркач, взобрался на танк.
— Молодец Маликов. Но больше на ходу не прыгать без команды.
— Все целы? Никого не зацепило? — беспокоился Самохин.
— Кругом порядочек, как и положено в танковых войсках. У красноармейца Гатина малость покарябало приклад автомата да порвало немного новую шинель, а сам невредим.
— Это мелочи. Не упускайте главного — чтоб никто не уснул, не свалился с брони.
— Теперь уже не страшно,- старается басить сержант. — Все успели покимарить капельку, по очереди, на теплых жалюзях. В город заявимся, как огурчики.
Когда вражеские огни начали тускнеть, а пасмурное небо побледнело, — приближался рассвет, — перед танками стали смутно вырисовываться семафор, железнодорожный переезд, какие-то строения. Путь преградила стена огня. Рвались тяжелые мины. Десантники-автоматчики спешились. Отделение сержанта Сидорова, как ни маневрировало, не могло выйти к переезду — препятствовали взрывы мин.
Выручил рядовой Маликов. Вначале он заметил на крыше железнодорожнойбудке вражеского ракетчика. Подполз к штабелю шпал. Автоматная очередь с упора, и фашистская иллюминация у переезда исчезла. Затем его внимание привлекли вспышки фонарика в слуховом окне станционного здания. Пока капитан Самохин уточнял с пехотным лейтенантом обстановку,от пуль Маликова посыпались на снег щепки раздробленного переплета слухового окна; мигнул также, падая вниз, зеленый свет.
Вражеский обстрел стих. Танки и пехота заняли станцию.
Сержант Сидоров прибежал к командиру с трофейной рацией в руках и телефонным аппаратом через плечо.
— Рядовой Маликов уничтожил фашистского корректировщика. Эту связь подобрал на чердаке, — доложил сержант.
Пасмурным утром, 20 февраля, танки с десантом на броне вступили в Сольцы. «Урал» напрямую пересекал городскую площадь. За рычагами — Моторный. Неожиданно он резко затормозил.
— Гляньте, что оно торчит? Вроде памятника…
— «Освобождение. 22 июня 1941 года”, — прочел капитан Троян надпись на сером фундаменте.
— Ах ты, брехливый Геббельс… — выругался Моторный и взял на себя правый рычаг.
Тридцатьчетверка рванулась на призрачное издевательское изваяние. Легкий удар и за кормой поднялось облако меловой пыли.
Незадачливый скульптор, очевидно, знал, что гитлеровцы недолго продержатся на советской земле. Поэтому на соплях слепил из глины «памятник”, — отозвался кто-то из бойцов.
Самохин остановился на берегу реки Шелонь.
Разведчики быстро перебежали на противоположную сторону. Подоспели подразделения управления бригады.
Саперы испытывали прочность льда.
— Ненадежный для танков… — с сожалением определил офицер-инженер.
Комбриг, будто не расслышав, круто повернулся к машинам:
— Танкисты! Кто готов перемахнуть на ту сторону?
Из люка «Урала” выглянул Моторный:
— Разрешите, товарищ полковник, единым духом проскочу.
— Знаю. Потом. Экипажи, снять с брони все лишнее. Разведает легкач. А ну-ка, Т-70, вперед! — распорядился полковник.
Легкий танк спустился с берега. Газуя, врезался в сугроб снега на средине реки. Забуксовал. К нему подбежали мотострелки с лопатами. Но не успели помочь. Звонко затрещал лед и… в мгновение ока Т-70 утонул.
— Проклятье! — простонал комбриг. — Что ж, приходится идти на жертвы. Хорошо, что водитель выплыл. Танк мы достанем со дна реки…
Главное — надо врага настигнуть раньше Дна…- и он лаконично отдал приказ.
Все силы и средства брошены на сооружение колейного моста.
Моторный, снимая с танка бревно-самовытаскиватель, кряхтел.
— Не уйдет, фашист. Мы его на дне морском достанем.
Мотострелки бросились разбирать ближайший сарай. Многие сняли с себя полушубки. Лица всех лоснились от пота.
Механики-водители воспользовались передышкой — попутно устраняли мелкие неисправности, дозаправляли машины ГСМ.
Тревожная ночная мгла встретила танкистов и автоматчиков на противоположном берегу. В конусах света от включенных размаскированных фар заблестела гладкая, подметенная ветром дорога. По ней запрыгали, побежали на юго-запад десятки веселых огоньков. Без выстрелов. Противник успел далеко убежать.
В полосе наступления танкистов чернели закопченные дымоходы, обугленные остатки стен строений в сожженных деревнях. Из лесов, ям, оврагов выходили измученные, обмороженные, голодные местные жители. Заглушая неизбывное горе, они со слезами радости встречали своих освободителей.
На подступах к городу Дно противник оставил сильные заслоны. Небольшие возвышенности с постройками он превратил в опорные пункты. Танки капитана Самохина нарвались на кинжальный огонь пушек, ударивших термитными снарядами.
Десантники прыгали в снег, рассредотачивались. Одни из них, во главе с техником-капитаном Моторным, помогали экипажу Т-34 тушить пожар — загорелись дополнительные топливные бачки, — другие, увлекаемые капитаном Трояном, двинулись в обход вражеского опорного пункта.
Снегопад усиливался. Поднялась пурга. И случилось так, что «Урал» капитана Самохина один прорывался во вражеское расположение. Остальные машины не смогли с хода преодолеть инженерные и огневые препятствия.Они во взаимодействии с автоматчиками искали обходные пути.
Урал» смял противотанковые ежи, раздавил два фашистских орудия, но и сам остановился —оказалась перебитой правая гусеница. Неподвижный танк завязал огневой бой. Командир мотострелковой роты, воспользовавшись успехом группы комсомольцев во главе с Трояном, нанес удар по вражескому опорному пункту с левого фланга. Он определил по звукам пушечно-пулеметнойперестрелки местонахождение «Урала», поручил группе бойцов вести отвлекающий огонь с фланга, а на помощь танковому экипажу направил окружным путем, за стогами сена отделение мотострелков во главе с сержантом Сидоровым.
Сержанту удалось прорваться к танку с четырьмя бойцами.
Бой во вражеском окружении принимал тяжелый характер. Автоматчики сержанта Сидорова заняли возле танка круговую оборону. Советские воины не подпускали врагов к подбитой машине, экономно маневрируя автоматным огнем; они стреляли короткими очередями в промежутках междуударами танковой пушки и двух ДТ.
Из осажденного Т-34 вылезли через эваколюк в днище механик-водитель и радист-пулеметчик с целью заменить перебитое звено гусеницы запасным. Но как Самохин, ни старался выстрелами из пулемета и пушки обезопасить правую сторону машины, танкистам не удалось подползти к поврежденному звену. Радист-пулеметчик только дотянулся рукой к деформированному снарядом траку, как получил ранение в плечо и скрутился ужом у большого катка.
Тем временем гитлеровцы подтащили с необстреливаемой стороны противотанковое орудие. И в мутной снежной метели сверкнул желтоватый огонь. Возле кормы Т-34 зарылся в снег одинвражеский снаряд, потом второй…
Сержант Сидоров приказал:
— Рядовой Маликов, не допускать фашистов ктанку. Остальные — за мной, — и он двинулся с тремя бойцами квражескому противотанковому орудию.
Прежде чем сержанту удалось неожиданным наскоком из-за стогасена уничтожить прислугу, орудие противника все же последним снарядом зажгло на броне танка дополнительный бачок с горючим.
Экипаж «Урала» бросился тушить пожар.
Враги воспользовались тем, что танк перестал стрелять, и двинулись с двух сторон на штурм.
Самохин вернулся в башню. И сразу ливнем свинца и осколочнымиснарядами подавил противника, наседавшего справа. Стал поворачивать оружие влево. Вдруг — оглушительно-звенящий удар. Башня, как бы подпрыгнула и остановилась — фашистская «болванка» врезалась под погон башни, заклинив ее.
Гитлеровские пехотинцы вновь атаковали танк с безопасной дляних стороны. Танкисты отбивались, бросая гранаты, стреляя из пистолетов, а рядовой Маликов неторопливо и тщательно прицеливался из ППШ, укрывшись за поврежденными звеньями танковой гусеницы,его короткие очереди тонули в общем грохоте.
Вдруг выстрелы возле кормы стихли. Самохин открыл лючок в тыльной стенке башни и увидел бездыханные тела двух танкистов, распростертых на жалюзях. Оказалось, они и пожар потушили, и враговне подпустили с тылу. А сами погибли в трогательно-драматических позах: прикрыли своими телами сердце «Урала” — моторную группу, — обхватив руками надмоторную броню.
Командир рванулся было к верхнему люку, как обнаружил до двух десятков гитлеровцев, подползавших к корме танка. Он быстро вынул из гнезда курсовой пулемет, стволом его откинул крышку люка командирской башенки и с упора об нее залился длинными очередями.
Враги рассеяны и частично истреблены. И пулеметные диски пусты.
Спустя четверть часа возобновилась вражеская атака против неподвижного танка. В снежной буре сверкали одиночные, редкие выстрелы Маликова и пистолетные щелчки Самохина. Сначала замолчал ППШ, потом командирский ТТ.
… Когда советские танкисты и мотострелки овладели вражеским опорным пунктом, они увидели в командирской башенке забинтованную головукапитана Самохина и услышали его требовательный голос:
— Нужны, боеприпасы. Любые.
И на лобовой броне «Урала” появилась цинковая коробка с патронами.Возле разбитой гусеницы лежал боец с автоматом в руках.
Капитан Троян спрыгнул с танка. Подошел к мотострелку. Наклонился над ним — мертв. Расстегнул на груди шинель достал документы из кармана гимнастерки. Развернул:
— Комсомольский билет № 17714634. Маликов Леонтий Митрофанович, год рождения 1925. Посмотрите, товарищи… Сбоку, возле места для фотокарточки — отверстие, пробитое пулей. Совсем маленькое: враг ударил из автомата. Картонный переплет билета чуть порван. Значит, фашист стрелял с близкого расстояния, в упор.
Перед мысленным взором капитана встала картина комсомольского собрания в МСБ, на одном из привалов. Еще до обсуждения повестки дня: «Воля лейтенанта Аглушевича — пример для всех» капитан Троян от имени начальника политотдела бригады вручал комсомольские билеты вновь принятым в члены ВЛКСМ. Капитану вспомнилось, что в то время на лице рядового Маликова, приглашенного на собрание, пробежала тень грусти. Боец переживал — считал себя неудачником. Ему казалось, что в новой семье, в МСБ, к нему присматриваются с каким-то недоверием. А ведь он в душе чувствовал себя и комсомольцем, и почти снайпером. Только документов не было в кармане. Всему вина — неблагоприятное стечение обстоятельств. Дело было так. Пожелав досрочно убыть из школы снайперов на фронт, он не успел взять в штабе справку о прохождении курса снайперской переподготовки. Точно так же получилось и с оформлением в комсомол.
Перед отъездом из школы стал членом ВЛКСМ, но не сумел побывать в райкоме и поэтому убыл на передовую без комсомольскогобилета. Маликов вздрогнул, услыхав на собрании в МСБ свою фамилию.
А когда было объявлено, что в бригаду поступили комсомолькие документы и выписка из приказа командования снайперской школы, в которой отмечались его отличные результаты учебы, он от волнения не мог словасказать. Получая из рук помощника начальника политотдела танковой бригады по комсомольской работе Трояна билет члена ВЛКСМ, Маликов сказал: «Спасибо вам и руководству школы за то, что не забыли обо мне. Делом отвечу на заботу… В первом бою оправдаю и отличные оценки, полученные по снайперской подготовке, и принадлежность к комсомолу».
Капитан Троян, спрятав документы героя в свою полевую сумку, произнес:
— Да, Леонтий, ты сдержал слово.
Он бережно разжал схваченные морозом пальцы бойца, взял его оружие. Осмотрел. В диске — ни одного патрона. Взглянул вокруг.
На подступах к разорванной гусенице танка валялось 15 вражеских трупов.
Этих фашистов уложил Маликов. Значит, он подтвердил отличные оценки по снайперской подготовке, — нарушил всеобщее молчание сержант Сидоров и рассказал, как было дело.
Помолчав немного, Сидоров продолжил:
— Я считаю, что Маликов спас танк. Враги окружили бойца, пытались взять его живым. Но до тех пор, пока у Леонтия были патроны, он был неприступен.
— Да, «Урал» выстоял. И броня крепка и, главное, — наши люди крепче стали. Они грудью противостояли врагу и победили, — добавил командир мотострелковой роты и окинул бойцов ищущим взглядом: — Где наш новичок, комсомолец Гатин?
— Я здесь, — ответил застенчивый голос из-за спины товарищей.
— Подойди сюда.
Красноармеец в новой шинели вышел на средину полукруга, образованного людьми, и, подняв руку к головному убору, доложил:
— Рядовой Гатин по вашему приказанию…
— Хорошо, товарищ Гатин, — прервал командир, скосив глаза на его ППШ с перевязанным проволокой расколотым прикладом и оторванный лоскут рукава шинели. Боец при этом покраснел. — Какая-то фашистская собака испортила вашу шинель и поломала зубы о приклад оружия… Вручаю вам автомат героя Маликова. Бейте из него врагов без промаха. Отомстите за смерть нашего боевого друга.
— Обещаю не выпустить из рук оружие Маликова, пока сердце будет биться в груди, — ответил комсомолец Гатин.
Ремонтники во главе с техником-капитаном Моторным восстановили гусеницу «Урала”, расклинили башню, заменили поврежденные детали. Т-34 опять ожил и двинулся вперед.
На пути к городу Дно, перед деревней Лукома произошел бой, названный в шутку капитаном Сталевичем «сражением под Полтавой».
Танки разведоргана поднялись на высоту. Вдали, в низине суетился противник, поспешно занимая оборону на окраине деревни.
Апрель 1944 года.
Капитан Мотыльков решил с ходу ошеломить врага внезапной атакой.
Снегопад все усиливался. Видимость плохая. Предполье оказалось танконедоступным — пересекали заснеженный овраг и канаву.
Кончилось тем, что два танка прорвались к окраинным избам и вышли из строя: один подорвался на мине, у второго вражеский снаряд перебил гусеницу. Остальные машины вернулись на исходную.
К высоте подъехал комбриг. Вызвал Мотылькова:
— Почему остановились?
— Полез на рожон. Две тридцатьчетверки остались в ничейной зоне. Надо подготовиться.
— Правильно, — неожиданно согласился полковник и встревожился: — Неисправные машины враг не захватит?
— Никак нет. Танки охраняют пять автоматчиков, среди них красноармеец Гатин. Он уже снял снайперским выстрелом гитлеровского офицера, который пытался с группой солдат подползти к неисправным танкам.
— Представьте героев к наградам. Цените и берегите людей и технику. Впереди — Дно. Мы не имеем права даже в честь юбилея Красной Армии брать этот город, исчерпав свои боевые возможности до дна.
Осмотрев местность, оценив обстановку, полковник приказал:
— Танки, САУ, — огонь с места! Автоматчикам обойти опорный пункт с левого фланга.
Все боевые машины ударили по ясно видимым скоплениям врагов прицельным огнем. На высоту прибывали все новые и новые подразделения. Артобстрел усиливался. Постепенно на небольшой территории собралосьмного людей, машин. Появились даже кухни, писаря. В сторонке осторожно выглядывали из своих санитарок работники медсанбата. Экипажи и расчеты пушек работали допота. Остальные наблюдали. Ошалело посматривали за полем боя и пленные, которые сгрудились, как овцы, на отшибе, под охраной двух бойцов. Метель закрутила с новой силой. Белесо-желтая мгла завыла, засвистела роями пуль, снарядов. Грохотали орудия, урчали моторы. Слышались команды вперемежку с различными выкриками.
Комбриг разгневался:
— Что это за Вавилонское столпотворение? Кто там, справа, палит в белый свет? Прекратить! Майор Дончак, уточните, кому следует задачи, а остальных разогнать! До чего дошло — даже недобитки-фрицы, будто какая-то иностранная военная миссия, глазеют на баталию. Разведчики, подать мне того пленного, который называет себя Марксом.
Сержант Сидоров подвел к комбригу трясущегося оберефрейтора.
— Переведи ему следующее… Нечего дурака валять, прикрывать себя великим именем. Сослужи нам службу… Так и скажи: ты спас свою шкуру, хотя и поздно сдался в плен. Теперь помоги своим однокорытникам уцелеть. Напомни, что они сдуру вздумали сопротивляться на невезучем для них месте и в неподходящее время: недалеко от этой деревни, ровно 26 лет тому назад молодая Красная Армия наголову разбила ваших отцов, кайзеровцев… Потребуй безоговорочной сдачи в плен.
Пленный подобострастно закивал головой. Затем живо побежал вслед за разведчиками, к подбитому танку.
В сторону противника понеслись слова, усиленные рупором:
— MaineLandsleutes!..
— Мои соотечественники…
Огонь с обеих сторон прекратился.
Капитан Сталевич воспользовался затишьем и разъяснял бойцам:
— Завтра — День Советских Вооруженных Сил… Мы приближаемся к тем историческим местам, где родилась Красная Армия.
Майор Дончак накинулся на шоферов медсанбата:
— Куда вас, архаровцев, черт занес? И без того синклит раздулся. Назад!
— Не можем — пробку сделаем, сзади напирают цистерны с горючим…
— Сгиньте, куда хотите. Вы больше не нужны — вон переговоры идут…
Слова майора прервал и опроверг ржавый скрип «ишака”. Враг открыл бешеную пальбу.
— Пустая трата времени. Толкли воду в ступе, — негодовал полковник. — Ану-ка, всех пленных — с глаз долой, в тыл, чтоб духу их здесь не было! Как мы быстро забываем, что фашист давно перестал понимать человеческие слова. Агитнем их еще раз горлами наших пушек, апотом — сталью гусениц. Дончак, где твои резервные синклиты? Всех давай в обход деревни с правого фланга. Получится что-то вроде клещей.
Повалил густой снег. Закрутила пурга. В симфонию природной стихии включилась артиллерийская музыка из всех стволов, которые успели прибыть на высоту.
Командир роты автоматчиков докладывал с левого фланга:
— В расположении противника творится ад. Наша артиллерия все переворачивает вверх дном.
— Так ему и надо. За непослушание. Вперед! Гнать врага до самого Дна и дальше, без передыху! — распалился комбриг.
Танки и САУ рванулись с высоты, не переставая стрелять. За ними двинулись различные пешие группы. Северный ветер дул в спину подталкивал людей.
Совместная атака танков, сау, мотопехоты, подразделений управления увенчалась успехом. Враг начал отступать.
«Урал” настигал большую штабную машину. В наушникахвновь сформированного экипажа звучалголос капитана Самохина:
— Ваня, осторожно, не раздави фашистский балаган… Надо объехать. Захватим штабных крыс живьем… Петро, доложи по рации вверх, что виновники испытаний «Урала», пролитой крови танкистов и срыва переговоров уже трепыхаются в моих руках. Подготовь вопросник для начала допроса…
— Спешишь, Саша. Не забывай Березовское Общество, — поправил Троян. — Не будь тем, кто «Ще не зловив, а вже скубты хоче», — но связь настроил.
Заканчивая передачу радиограммы, Троян разинул рот, чтоб сообщить фамилию командира роты, но только глотнул воздуха. С фланга налетел Мотыльков, раздавил своим танком гитлеровскую штабную машину и скрылсяв снежном вихре.
— Черт! Опять сосед помешал — из моих рук вырвал тепленьких штабников… Сдуру, как с дубу, — злился Самохин, объезжая обломки вражеской техники. Вдогонку комбриг требовал:
— Мотыльков, Самохин, не выходить за свои разграничительные линии. Остыньте. Преследовать врага с умом организованно.
К рассвету, 23 февраля, танки, оседланные десантниками-мотострелками, вынырнули из снежной метели на северо-восточную окраину Дно. Кругом пылали пожары.
В вихрях пурги мелькнули машины с красными крестами.
Они появились на танковой колее, местами переметенной снегом. Обогнули полукругом городскую площадь с разрушенным в центре гипсовым изваянием, и свернули к школе.
Ветер выл, скрипел, хлопал открытыми ставнями, форточками, со звоном срывал с окон остатки битого стекла, врывался в пустые классы, засыпая их снегом.
Медсестры, врачи начали приводить в порядок разбитое, неблагоустроенное здание. В первую очередь перестраивали классные помещения под госпитальные палаты. Размещали медицинское оборудование. Вносилиразнотипные койки. Строили нары.
Кто-то вслух мечтал о печке, дровах. И тут же во дворе появилась… первая машина с ранеными. На помощь стали прибывать местные жители.
Дневного, светлого времени не хватило. Пришлось обживать здание всю ночь, одновременно заселяя его ранеными.
Впервые за время войны палаты, операционная напоминали помещения стационарного госпиталя.
Только утром девушки встретились в отведенной для них маленькой комнатке — бывшей школьной кладовке. Накоротке обменялись новостью отом, что через город прошли танки. Валя принялась создавать уют в квартирке – выметать мусор, мыть окна. Она была очень довольнановыми бытовыми удобствами. Подруги отправились на дежурство.
Через короткое время прибежала Лиза.
— Я только, что с берега Шелони, где точно распознала не только отпечатки гусениц тридцатьчетверок, но и следы моего Саши. Значит, мына верном пути.
Тут же в дверях появилась Муза.
— Может, вечером встретимся… – она сказала и поднялась на носках, грациозно покачивалась, разглядывая себя в оконном стекле, как в зеркале.
— Как знать, — задумчиво произнесла Валя, смахнула тряпкой снег с подоконника и закрыла окно. Глядя на Лизу, она задумалась над недавним высказыванием врача, женщины в летах: «Путь верен тогда, когда по нему шагают двое и любуются не изяществом ноги и обуви, а привлекательностью в дальней перспективе цели».
Потом задержалась на блестящих, модных сапожках Музы: И ты оставляешь следы наснегу, но они, в, отличие от танковых, зигзагообразны, петлисты, и тут, же пропадают в круговороте метели.»
В течение недели подружки не встречались в своей комнатке —дни и ночи занимали дежурства в палатах. Сутками всечетыре, аккуратно заправленные постельки сиротливо пустовали.
А однажды вечером…
Надя возвращалась в свою палату из аптеки с лекарствами в руках.Ступеньки лестницы на второй этаж показались ей слишком крутыми. Ногиеле сгибались. Веки опускались, как свинцовые. Она искала усталымиглазами место, где можно было бы накоротке отдохнуть. И на лестничной площадке, переводя дыхание, повернулась к перилам с намерением опереться на них. Споткнулась обо что-то мягкое — кто-то спал в полусогнутом состоянии, стоя. Из широкого окна струился скудный февральский полусвет.
Спящая фигура оказалась знакомой. И Надя осторожно коснулась ее:
— Валя, подвинься чуток. Дай и мне кусочек этой «мягкой» постели – аккуратную заправку своей некогда нарушить.
Подруга встрепенулась, собираясь бежать наверх.
— Постой, куда ты? Не узнаешь меня? Это я — Надя, не начальство, не бойся. Вместе живем, а уже забыли друг дружку.
Валя протерла кулачком глаза, передернула плечиками как от озноба. Непонимающим взглядом окинула — Надю — будто не узнавала ее.
— Пятый день не выхожу из палаты. У меня больных — шагнуть негде. Только что вырвалась на минутку, сменила халат. Не могла налюбоваться нашей комнаткой, беленькой постелью.
— Выходит, халат твой не выдержал бессменного дежурства, а ты выдерживаешь.
— Он теряет свежий вид. А со мной что станется? 3десь нечаянно прикорнула на секундочку. Взглянула сначала с лестничной площадки вниз, увидела тебя, хотела подождать…
— Теперь думаешь, что чистенький халатик так тебя украсит и освежит, что все другие заботы с плеч долой?
— Нет, остается еще одна небольшая закавычка… — и Валя замолчала. Затянув потуже халатный поясок, продолжила: — Завтра идет машина из госпиталя в Волховстрой. Хотелось бы передать родителям что-либо съестного. Несколько раз пыталась увидеть наедине Сажаева — он едет, — но тот,словно репей, прицепился к начальству, везде ходит с ним.
— Ты недавно отправляла посылочку. Разве не дошла?
— Я еще кое-что сэкономила, — качнулась Валя, как от ветра, поискав рукой точку опоры.
— Что с тобою? Не заболела, ли? — обеспокоилась Надя, шагнув к Вале. Вплотную приблизилась, коснулась пальцами ее подбородка и слегка приподняла головку, разглядывая лицо: — Э-э!.. Душа моя, что-то неладно. Открой-ка шире свои очи ясные. Взгляни на меня.
Та с трудом подняла длинные ресницы. Открылись большие,усталые, будто чужие глаза желтые и …
Надя в испуге отшатнулась:
— О, мать родная! Валюша, ты — нездорова. У тебя желтуха. Глазные белки, лицо — одинаково лимонного цвета. А я-то хвалю тебя за белизну халата. Конечно, по сравнению с твоей кожей он выглядит белоснежным. Пойдем немедленно к врачу.
— Нет, нельзя. У меня столько дел. Мне прибавили вторую палату с гражданскими, детьми — жертвами вражеских минных полей в Сольцах и окрестностях. Вспомнились младшие братья. И встревожилась. То же самое, наверно, теперь твориться и на Волхове. Войска ушли, а там, куда ни шагни, везде остались всевозможные взрывчатые предметы. Надо срочно им написать о соблюдении мер безопасности, успеть собрать скромные гостинцы и отправить попутной машиной. И лекарства разнести больным и вымыть гору послеобеденной посуды…
У Вали закружилась голова. Она вновь ухватилась за перила.
Надя положила свои марлевые узелки с медикаментами на подоконник взяла Валю за руки и привлекла к себе.
— Ничем ты заниматься не будешь. Сейчас же ляжешь в постель.
— Не сопротивляйся. Необходимо немедленное вмешательство врача. Ты ничего не понимаешь. Я глубже тебя изучала медицину и считаю, что с опасным инфекционным заболеванием шутить нельзя.
Откуда-то вихрем слетела Лиза. Валя не устояла под натиском двоих, дала отвести себя в комнату.
Прибыла врач. Осмотрела. Назначила лечение. Приказала здоровым сестрам переселиться в другое место. Больную велела содержать в строгой изоляции, чтоб не допустить распространения инфекции.
Надя, Лиза и Муза, хотя и перенесли свои постели в соседнюю комнату, но ни на час не оставляли Валю без внимания. Каждая стремилась участвовать в лечении больной, облегчении ее недомоганий.
В тот же день Лиза сделала «секретное открытие” подружкам:
— Наша врач из-за экономии выписывает Вале глюкозу в мизерных, почти гомеопатических дозах. Соседи-артиллеристы отдолжили мне коробку этого препарата, рассчитанного на курс полноценного лечения. Во время обхода покажем врачу.
И действительно, врач, похвалив сестер за внимание к больной, назначила увеличенные порции глюкозы. Подруги умудрялись давать больной и другие дополнительные лечебные средства.
Стараясь повысить настроение Вали, они удивили ее сюрпризом.
Неожиданно в изоляторе, на столе, появился объемный фанерный ящик с продуктами и на нем — пухлый конверт с деньгами.
— Это и будет весточка родителям от ее заботливой дочери, — объяснила Надя.
В обход всех строгостей на пороге запретной комнаты объявился Сажаев. Выслушав просьбу, он весело козырнул:
— Слушаюсь. Скромную передачу и письмецо доставлю по адресу и в полной сохранности.
Валя прослезилась от радости:
— Сама я никогда не отправила бы родным такую посылку. Не знаю чем смогу вас отблагодарить.
— Выздоровлением, — ответила Надя. — Эту маленькую заботу о твоей семье мы приравниваем к очередной дозе глюкозы, введенной в твои вены.
— Незаметно поднимаем твой дух, который, как говорил Петро, является самым сильным средством против всех недугов, — вставила Лиза.
Среди медсестер госпиталя давно развилось и укрепилось чувство дружбы, коллективизма. Многие отдавали свое денежное содержание тем, кто имел связь с родителями. Особенно усердствовала Муза в оказании помощи Вале, Лизе.
— Когда вступим в Латвию, — говорила она, — подготовим и для моей мамы коллективный подарок, а теперь все внимание освобожденному Волхову.
Девушки как-то встретились на лестничной площадке и заговорили о причинах заболевания Вали.
Непонятно. Живем и работаем вместе, питаемся одинаково. И почему именно Валя так странно вышла из строя? — рассуждала Муза, разглядывая себя в стекле окна.
— А мне кажется, что все ясно, — сказала Лиза, оглянулась по сторонам и понизила голос: — Мы впервые за время войны вышли из леса в город.
Стали общаться с гражданским населением, лечить истощенных больных.Валя везде и во всем первая. Взять хотя бы прямое переливание кровииз своей вены в вену раненого. Уже в Сольцах она таким путем спаслажизни летчика и 10-ти летнего мальчика. Всегда и везде хлопотлива.Обо всем переживает. От всего этого — нервное перенапряжение, физическое ослабление.
— Плюс недоедание, — добавила Надя.
— В армейских условиях? — пожала плечами Муза.
Лиза свесилась с перил, провожая внизу глазами белую куртку повара с пачками рафинада на подносе. И в ее голосе прозвучал тон запоздалого открытия:
— Девочки, а Валя ведь очень редко пьет сладкий чай. Она всячески стремится незаметно ссыпать свой сахар в мешочек. Бывало, во время переездов сэкономит из сухого пайка банку консервов, несколько галет, достанет пачку махорки и — рада: есть чем утешить родителей. Я уже не говорю о том, что праздничную пайку водки всегда выменяет у санитаров на сахар для мамы или табак для отца. Я ругала ее не раз: учти, говорю, без сахара заболеешь. Как в воду глядела. Организм не железный.
Все трое направились к больной.
— Видно, у вас теперь стало меньше работы, что так часто бываете у меня, — обрадовалась Валя и тут же озаботилась: — Смотрите, не провороньте свое дело в палатах.
— Вчера была большая эвакуация в тыл, а новеньких еще не получили, — оправдывалась Надя.
— Где-то теперь наши танкисты воюют? – сказала Лиза, подошла к окну, мечтательно уставилась в верхний обрез рамы и стала прислушиваться к едва уловимому артиллерийскому гулу. — Они все удаляются от нас и за каждый шаг платят слишком дорого. И путь назад для их брата, как правило, — печальный. Как только прибывает среди раненых обожженный танкист, так с замиранием сердца и бежишь: а вдруг…
— А ты оторви глаза от верхушек деревьев и дальнего горизонта; присмотрись-ка лучше вон к тем троим, что воровски пробираются через дыру в нашем заборе. Может, кого признаешь? — возбужденно-радостно сверкнула Надя карими глазами.
— Даже не верится… Неужели?.. Саша! — воскликнула Лиза.
— Ой! — вскрикнула Муза и наклонилась к полу, где раздался стук и затем звон стекла. Тут же поднялась, складывая части разбитого пополам зеркальца,- Валя…
Ее рассеянный взгляд метался — то в расколотом зеркальце пугало раздвоенное выражение собственного лица, то за окном, как в тумане, мерещилась знакомая фигура; по мере приближения ей на душе становилось и радостно, и тревожно.
— А третьему кому быть? Скрывается за спинами товарищей. Но я сразу узнала, — Надя сдвинула больную ближе к окну. — Взгляни, Валя, сразу выздоровеешь.
— И, правда — Петро! Не сон ли это? А у меня такой вид… — блеснули в глазах Вали слезы счастья.
— Что делать? — заметалась по комнате Лиза. — Надо их где-то срочно спрятать, придумать какую-то маскировку, пока не заметило начальство.
— Лучше всего привести ребят сюда, в изолятор. К Вале – опасно больной — никто, кроме нас, не заходит, — спешно продолжала Муза, спешно подкрашивая свои ресницы.
— А заразить желтухой танкистов не боитесь? — спросила Надя.
— Пустяки, — нервно-нетерпеливо отмахнулась Лиза. — Мы общаемся с больной больше недели и — ничего. Я бегу и зову к нам гостей.
Не успели девушки ни возразить, ни обговорить какими закоулками провести долгожданных парней, как Лизы и след простыл.
Валя стала заметно преображаться: на лице заиграл здоровый румянец, глаза заискрились, оживились жесты. Твердо звучал озабоченный голос:
— Не вовремя эта болезнь. И комната неубрана. Только сейчас заметила, какая я лохматая, некрасивая… — и она, разглядывая свое отражение в оконном стекле, стала причесывать волосы.
— Да это же слаще всякой глюкозы. – Произнесла Муза, убирая с тумбочки ампулы, коробочки с лекарствами. Ее взгляд, брошенный на Валю, выразил иносказательный смысл слов. И она поторопилась оправдаться: — Думаю, что южанин Петро для тебя — лучше этих холодных уколов.
— Ты все шутишь. Разве в таком виде он надеется увидеть меня?
— Посмотрим, Валя, как он отнесется к тебе желтой, — заметила Надя, взбивая подушку. — Друзья познаются в беде.
Разговаривая, девушки торопились привести в порядок себя и комнату.
За дверью послышались осторожные шаги, девичье звонкое шикание, приглушенные мужские голоса. Предупредительный стук. Шепот. Дверь открылась, и на порог ступил Троян.
— Разрешите нарушить еще один запрет, который ограждает вашу дверь: «Вход запрещен!». Здравствовать, а не болеть хозяевам этой квартиры:
За ним вошли остальные. Гости поздоровались за руки с девушками. Плотно окружили больную.
Глаза Вали радостно и как-то виновато заискрились.
— То, от чего я слегла, здесь, на фронте, совсем неоригинальное.
— Не казни себя, Валюша. Просто, ты не выдержала тяжести, с которой навалился на госпиталь наш брат, — успокаивал Троян. — Но не сдавайся, воюй…
— Твой враг — всего лишь какая-то дикая, приблудная инфекция. В нашей среде она долго не продержится. На фронте, обычно, не бываетболезней. Вот пример… — Прибыл к нам новыйинтендант… Однажды по-секрету шепнул мне, что страдал язвой желудка, но скрывал. Советовался, как соблюдать диету. На второй день началось наступление, и он забыл про свою болезнь. Недавно я интересовался его самочувствием». Удивляюсь, — говорит, — как рукой сняло, будто у меня никогда и не было язвы».
— Раз уж фашистской язве нет жизни на нашей земле, то какая другая устоит? — иносказательно добавил Самохин.
Моторный с видом врача слегка дотронулся огрубелыми пальцами к руке больной:
— Валя, в твоем организме желтуха также не продержится долго, как выхлопные газы из моего двигателя не задерживаются в здоровом, чистом воздухе. Я уже примечаю, что ты от нее освобождаешься.
— Верно, сказал Ваня, — поддержала Надя. — Сгинь, болезнь, отойди от нашей Валечки, как говорила моя бабушка, пусть собаки болеют — им все равно делать нечего и они к тому же злые. Мы добавим: пусть к фрицам она переметнется. Нам некогда болеть — у нас много работы.
— Все это ясно, — сел Троян на табуретку возле больной. – Кроме моральной поддержки, что еще требуется, Валя, чтоб быстрее выздороветь?
— Танкистам воевать без потерь.
— И Вале плюс офицерский паек, — вставила Лиза.
— Ну, зачем глупости болтать? — укоризненно взглянула Валя на подругу.
— Лиза и шутит, и дело знает — разыскала для больной глюкозу — смягчила Надя.
— Вы — самая лучшая глюкоза, — одарила Муза улыбкой парней, от которой Моторный расстаял и присел. И тут же она зарделась, потупив глаза. Стараясь затушевать смысл сказанного, добавила: — Конечно, мы даем Вале и другие, дефицитные лекарства.
— Эх, а мы — тяп-ляп и прикатили с пустыми руками, — сокрушенно махнул рукой Троян. — Нет, чтобы заранее подготовиться, заехать в военторг, купить сладостей… Не догадались.
— Не все недогадливы, — торжествено извлек Самохин из вещмешка бумажный сверток и выставил на стол. И тут же на его лице – сожаление: мол, к чему противопоставлять себя товарищам?
Из газетной бумаги что-то пружинисто выпирало наружу. Как Самохин ни старался прикрыть какой-то предмет, все же из предательской дыры в газете сверкнули черным глянцем носки новеньких дамских сапожек. Они тут же вызвали ответный блеск в глазах Лизы и радостный возглас: «Ой, и не забыл!» Она выхватила обновку и начала примерять. Самохин старался смягчить впечатление другим: развернул перед Валей кулек с печеньем и кубиками рафинада.
— Не красней, Саша, правильно сделал. Ты давно обещал и слово сдержал. Вон, пусть им будет неудобно, — скороговоркой парировала Лиза, задорно кося глазами в сторону Моторного и Трояна.
— Как тебе не стыдно?! — одернула Валя подругу.
— Ты неправа, Лиза, — стал выручать друзей Самохин. — Я сам виноват, когда шутя, поправлял Петра. В действительности, в нашем экипаже все общее. Вот от нас… От Петра — тебе, Валя… — и он высыпал из свертка на стол аккуратно упакованные пакетики с конфетами, маслом, галетами. Положил буханку хлеба и две банки консервов.
Этот щедрый жест, продиктованный обстоятельствами, помог Самохину освободиться от густого румянца, который перешел на лицо Трояна.
— Да, тут ничего не скроешь. Моя очередь краснеть, заслуженно.
— И вышло обоим, хоть сквозь землю провались — ты, Саша, из-за скромности,а я — из-за невнимательности, черствости.
— Что ж, постараюсь исправиться, — говорил Троян убирая со стола обверточные бумаги.
— Ни к чему этот разговор, — возразила Валя. — Оставьте, иначе нагородите такого, что потом месяцами не разберешь.
— Как раз впору! — топнула Лиза ногой об пол. Выпрямилась, обняла Самохина и поцеловала в щеку. — Долго, однако, ты возил мерку.
«Эта огонь-девка согнет в бараний рог нашего Сашу. Он перед ней совсем меняется, становится непохожим на себя», — смерил Моторный глазами то Лизу, то Самохина.
— Бумажку с размерами ноги хранил наш сапожник. Вчера принес заказ. И тут случилась оказия — шла машина на рембазу. Мы по тревоге собрались и — в кузов. Ехали не совсем удачно. Объезжали взорванный мост, зацепили за какую-то проволоку, которая в свою очередь вызвала взрыв мины, и нас издали так подбросило волной, что машина оказалась на боку, без колеса. Шли пешком 15 километров. Через час возвращаемся на фронтовой ремлетучке. Так, что мы накоротке.
Лиза продолжала пританцовывать и любоваться своей красивой обновкой. Все обратили на нее внимание.
— Если бы в нашей комнате не было больной, я бы от восторга спела и вызвала бы на соревнование Петра, — кружилась она на одной ноге.
— Здесь нет больной, — решительно отодвинула Валя из-под своего бока подушку и села в углу кровати, накрыв ноги одеялом. — Долгожданные гости вылечили меня. Чтоб доказать вам, что я хорошо себя чувствую и ни в чем не нуждаюсь, спою украинскую песню.
Троян недоверчиво взглянул на нее:
— Ты?.. Украинскую?.. Не верится. Это было бы очень интересно.
Подруги недоуменно переглянулись. В глазах Нади тревожная тень: «Не заболела ли девка другой, более опасной болезнью?”
Между тем в комнате прозвучал тихий, серебристый голосок:
Ой ты гарана Сумэн,
Путы саты колу мэн…
Надя испуганно, вопросительно посмотрела на Трояна, Моторного.
Те выразительно сжали губы и подняли брови.
— Мелодия, вроде знакома, — начал в затруднении Петро. — Но слов, хоть убейте, не пойму. Неужели я так освоился в новой среде, что начисто забыл родной язык? Повтори, Валя, если можно.
Девушка смутилась. Голос, однако, прозвучал более уверенно.
Жест и лицо Моторного выражали:
— Странный язык — и чужой, и близкий. — А вслух заметил: — Музыка — чудо! Будто приглашает на вечерницы.
Троян про себя что-то пробормотал, чуть-чуть напевая и – обрадовался:
— Ах, вон, в чем дело! Только теперь до меня, бестолкового, дошло. Это же известная украинская шуточная песенка. Она поется так:
Ты, гарный Семене,
Прийди, сядь коло мене…
1944 год Талин Эстония.
— и я с готовностью принимаю твое приглашение, Валя.
Он поднялся с табуретки, завернул уголок простыни, сел на матрац, поближе к больной.
— Ты пела хорошо и правильно.
— Ой, и что я наплела? Слепо повторила бабушкину песню. Если бы знала значение слов…
— И не пригласила бы сесть? — подхватил Троян.
— Хотела доказать, что вовсе не болею, а получилось…
Все рассмеялись. Дружно зааплодировали обоим солистам.
— Очень приятно, Валя, что в твоей памяти, равно, как и в голове бабушки, много лет хранилась популярная украинская мелодия, — похвалил Троян. — Слова могут быть разные. Музыка — сильнее слов. Это пело твое сердце. Я согласен с ним, — и он придвинулся ближе к девушке. — В ответ, чтоб не остаться в долгу, постараюсь шевельнуть струны русского сердца.
Когда я на почте служил ямщиком
Имел я в ту пору девчонку…
Девушки подхватили песню и вполголоса допели до конца.
Валя сияла, чувствуя прилив бурной жизнерадостности, моральных и физических сил.
— В исполнении Петра любая песня трогает, даже черствое сердце, — горячо отозвалась Лиза и, обняв Самохина, спросила: — Почему ты, Саша, не поешь? А, знаешь, мы однажды пытались догнать вас на попутных, — и она рассказала о поездке до Шимска.
Троян, разговаривая с Валей, краем уха ловил фразы:
— По дороге встретилась санитарка вашего медсанбата. Мы узнали от медсестры — этакой лицом кругленькой, с несколько вытянутым носиком…
«Вон, оказывается, о чем Лариса собиралась шепнуть мне на ухо,- догадался Троян. — А я, грешным делом, подумал…» — и он успокоился.
Муза незаметно оказалась на коленях Моторного. Обняла парня за шею. Тот записывал адрес ее родителей. Девушка шептала:
— Ты раньше меня попадешь на мою родину. Передашь папе, маме живой привет… Учти, что сестра моя немножко с душком…
В дверь кто-то постучал. Лиза опрометью выскочила. Тут же вернулась.
— Выставленный мною наблюдатель доносит, что на горизонте появилась врач. Путь держит к нам. Выхода нет. Хоть в окно прыгай.
Друзья быстро простились с девушками. Не прошло и минуты, как тревожно высказанное Лизой затруднение благополучно разрешилось — парни нашли выход, поступив так, как она невольно, посоветовала. И мигом очутились за окном.
Вошла врач.
— Я не позволяла собираться в комнате больной. Здесь и без того теснота… — начала она, но, осмотрев внутреннее убранство, внешний вид сестер, мягко поправилась: — Однако, у вас порядок, воздух чист, здоровый дух.
— Мы открывали окно, — наклонила голову Муза с виноватым видом.
— Нас освежила бодрая, чистая струя… — зазвенел голос Лизы.
— … В меру, другой болезнью никто не заболеет, — в унисон добавила Надя.
— И я совершенно выздоровела, — естественно закончила Валя.
— Так и должно быть. Дополнительная глюкоза —большое дело, — сделала вывод врач.
Лица девушек расцвели — они по-своему истолковали ее слова.
В наступлении бывали и своеобразные «отступления».
Кратковременная передышка между боями. Работники политотдела танковой бригады впервые собрались под одной крышей.
Маленькая комнатка одноэтажного деревянного домика на главнойулице города Дно битком набита: ящики и сейфы с документами, тюки скультпросветимуществом, рабочие столики… В часы отдыха ординарец, мастерил из«подручных средств» постели. И все-таки, по сравнению с блиндажами, срубами под Синявином, Шумом — это невиданный уют, комфорт.
В новых условиях появилась возможность оглянуться назад.
В переполненном помещении — тихо. Каждый занимался своим делом. Капитан Троян готовил материал для пополнения фотоальбома «Комсомольцы бригады в боях за город Ленина», созданного Гридиным сразу после прорыва блокады Ленинграда.
Первая страница. С фотоснимка, на фоне туманного леса, смотрит волевое, мужественное лицо, со сжатыми, резко очерченными губами и твердым, округленным подбородком с ямочкой посредине. Открытый, целеустремленный взгляд. Прямая крепкая шея, покатые плечи. Гимнастерка с белым подворотничком перетянута ремнем портупеи. На петлицах по три «кубика» и эмблемы танка. Грудь украшает орден Красного Знамени. Внизу, под золотисто-красной рамочкой — краткая аннотация: «Капитан Ермак В.М. Командир роты. Участник 26 танковых атак. Уничтожил: 2 танка,6 ПТО, 3 миномета, 28 пулеметов, 4 дзота, 13 блиндажей, до 995 гитлеровцев».
В памяти Трояна пронеслись, события того незабываемого времени, когда он воевал под руководством прославленного командира. Какой удивительной силы воли, настойчивости человек! 25 раз танковый экипажЕрмака бросался на фашистские укрепления, чтобы с Волхова оказатьпомощь блокированному Ленинграду. Враг не поддавался. Неудачи не поколебали волю отважного танкиста. И в 26 атаке мужественный капитан победил ценою своей жизни — прорвался к ленинградцам. Ему не удалось узнать конечного результатасвоих усилий.
«Теперь я, вчерашний студент, курсант сержантской танковой школы— капитан. Участвую вместе с героями Синявина в изгнании фашистских захватчиков с родной земли. Все это стало возможным, потому, чтосотни тысяч таких, как «Ермак…» — вновь и вновь, переосмысливал Троян дела недавнего прошлого, настоящего. Он мысленно благодарил судьбу за то, что она
1944 год.
свела его с простым и в то же время необыкновенным человеком. Чем дальше уходили синявинские события, темотчетливее представлялось, что без боевых друзей, подобных Ермаку,он не выдержал бы трудностей невиданно тяжелой борьбы. Сколько в бригаде,на его глазах, выросло замечательных героев! Досадно, что в письменных обобщениях скупо говорилось о боевом опыте людей, которые отстояли Волхов и Ленинград.
Рядом, за маленьким столиком рылся в ворохе бумаг и писал капитан Сталевич. Троян обратился к нему:
— Алексей Исаевич, мой фотоальбом не раскрывает подробностей многих подвигов воинов-комсомольцев. Не найдется ли в твоей папке описаний, например, начала фронтовой биографии комсомольца Ермака?
Сталевич обычно работал с большим увлечением. Слышалось прерывистое дыхание с продолжительными замираниями — будто тащил тяжелей груз, и время от времени останавливался для отдыха. Раздавался торопливый скрип пера. На смуглом, открытом лбу подергивалась морщинистая кожа. Кустистые брови то поднимались, то опускались. Иногда пальцы левой руки почесывали затылок, впивались в буйную шевелюру, точно с целью подстегивания работы мозга. Все знали, что это являлось признаком того, что на бумагу переносились удачно схваченные мысли. И тот,кто осмеливался отвлечь его какими-либо расспросами, рисковал нарваться — хотя и после терпеливой выдержки — на едкую проборку. Так случилось и на этот раз.
Капитан Сталевич поднял голову от своего писания. На лицевыражение глубокомыслия сменилось насмешливой улыбкой:
— Во-первых, капитан Ермак — не комсомолец, а коммунист. Стало замечаться, что ты, Петро, мало чем отличаешься от своего предшественника, Гридина — готов представить всю бригаду комсомольской.
У тебя во главе всех крупных дел фигурируют неизменно комсомольцы. Они совершили все героические дела, за ними числишь различные полезные начинания. Недавно я узнал на совещании в армии о том, что в нашей бригаде комсомольцы выступили с почином сбивать огнем стрелкового оружия фашистские самолеты и, будто уже свалили из-за облаков какую-то бронированную вражескую крепость. Во-вторых, все героические подвиги собираются у нас в объемной папке истории бригады, над одним из разделов которой я сейчас и тружусь. Еще полковой комиссар Кузнецов приказывал Гридину на досуге подробно описывать боевой опыт молодежи и приобщать материалы к единому сборнику. Я не застал начала этой работы. Так, что не я тебе, а ты мне должен дать описание первых боев.
В углу комнаты, с присвистом сжимая воздух в сейфе, со звоном хлопнула тяжелая металлическая дверца. Инструктор партийного учета политотдела старший лейтенант Фатеев вынул из скважины ключ, обернулся к столу, сел на табуретку и развернул толстую тетрадь. Перевернул лист, второй:
— О партийности ветеранов справляйтесь друзья, у меня, — и он педантично стал зачитывать малоизвестные на его взгляд данные.
В воображении Трояна возникло овощехранилище на берегу Волхова, оборудованное под блиндаж политотдела бригады. Запомнился дежурный по блиндажу, гостеприимный и хлопотливый инструктор Фатеев — немолодой, лысеющий красноармеец «учитель». Тогда, в памятном ноябре 1941 года, Фатеев выписал ему, Трояну, карточку кандидата партии.
В политотделе все работники были годами старше Трояна. Он обращался к ним по имени и отчеству, кроме начальника — к тому по воинскому званию. Сослуживцы чаще всего звали капитана Трояна просто Петром.
— Сергей Васильевич, не ищи партийную родословную Ермака – сказал помощник начальника политотдела по комсомольской работе. — Я точно знаю, что он был комсомольцем и что написал заявление в партию перед тем как отправиться 25 раз в атаку. Об этом должно быть сказано, Алексей Исаевич, в черновых набросках истории. Посмотри.
Капитан Сталевич долго копался в бумагах, о чем-то недовольно бурчал про себя. Наконец, вяло почесал за ухом;
— О Ермак, нет ничего.
— А что?.. Наверное, только сейчас проясняется еще одна сторона заботы полкового комиссара Кузнецова о людях? — упрекнул неизвестно кого Фатеве. И наставительно добавил: — Он требовал описывать боевые дела танкистов, события в их жизни по свежим следам.
— Это смахивает на критику нового руководства, — подал свой голос в ироническом тоне инструктор информации лейтенант Заборов. Длинный, плоскогрудый, с умным прищуром больших глаз, он даже сидя за пишущей машинкой, возвышался над всеми остальными.
— Я ничего. Так, к слову, — будто оправдывался Фатеев. На его щеке образовалась заметная выпуклость от повернутого в бок языка. Так он обычно давал понять, что, мол, разговор щекотливый и лучше всего следовало бы его замять. — Кстати, нашел данные о Ермаке. Он значился комсомольцем. В партию вступил в 1942 году.
— Вот видишь, Алексей Исаевич, — обрадовался Троян – зря ты разносил меня.
— В свете исторических фактов уточняю: безусловно, ты в интересах дела обращаешь людей в комсомольскую веру и не торопишься снимать с учета тех, кто вступил в партию.Я и тебя, Алексей Исаевич, где надо, показываю комсомольцем.Не забывай, что, если бы не комсомол, было бы хуже — ты навеки закис бы в интендантах.
Упоминание об изменении военной профессии всегда настраивало Сталевича на романтический лад.
— Да, Петро задевает слабую струнку, — неохотно сдавался он, тряхнув — буйными, вьющимися волосами. — Бурным было мое вступление на путь комсомольского руководителя. Хотя киришская контузия до сих пор дает себя знать — гудит в ушах, — а приятно вспоминать. Только по случаю несчастья — твоего, Петро, ранения — я перестал варить и разносить по окопам щи и кашу.
— Дело не в ранении, — возразил Фатеев. — Благодари комиссара мотострелкового батальона, который добился у комиссара бригады Кузнецова перевести тебя, Алексей Исаевич, с хозяйственной работы, на должность комсорга мотострелкового батальона. Кузнецов очень хорошо знал людей в бригаде, умел подбирать и воспитывать кадры. Горой стоял за студентов. Все это сейчас становится виднее и понятнее, чем тогда.
— Правда, замечание Сергея Васильевича похоже косвенно на критику настоящего, но о прошлом он, верно, заметил, — поднял Заборов палец вверх, сидя за пишущей машинкой. Многозначительно ударил по клавише с точкой, сдвинул каретку вправо и отвлекся от печатания:
— С того времени наш политотдел стали называть в шутку студенческим.И в информации забила свежая струя. В моем распоряжении появилась массаинтересного фактического
Июнь 1944 года Карамышево Ленинградской области деревня Зайково
материала. А это так важно. Садишься составлять политическое донесение вверх и чувствуешь себя твердо. Легко дышится инструктору информации, когда кругом подвижный, грамотный, писучий народ…
— … деловой и веселый, — вставил Сталевич и с улыбкой добавил: — Ты не договорил о новых внештатных информаторах Пехтуле и Рыжаке, которые легко вызывают у тебя юмор.
— Да, они и устно, и письменно умеют расшевелить любого. Если первый в борьбе против буквы «я» выражается только: «снарад”, «бурак”,«рад” / в смысле «ряд”/, то второй, будучи твердым в боях, исключает мягкий знак в конце многих слов: «наступат», «приказат», «брат» / в смысле ”брать”/… Нечего, мол, на фронте допускать мягкотелость. Ясно, что эти «находки” не вставишь в донесение. Я, по словам научился, определять характер людей. Вот послушайте и определите, кто это писал?.. Кстати, попутно, этой информацией разбиваю твой, Алексей Исаевич, упрек в адрес Петра. Итак, читаю:
«Над нашим НП заторохтел «горбыль».
В это светлое утро устроим фашисту навеки вечные темную ночь, — подбежал сержант Пайлодзе к ручному пулемету, установленному на треноге и залился длинными очередями по воздушному врагу.
Соли на хвост насыпь — он бронированный, — бурчал какой-то скептик.
А что, если спровадим и бронированного гада с неба в землю? Вот хохма будет!.. — с азартом застрочил сержант Шишкин по фашистскому самолету из второго ручного пулемета.
И, казалось, невозможное стало возможным — гитлеровский корректировщик пошел на снижение, а затем кувыркнулся и врезался в болото.Сержанты — комсомольцы. Разведчики осмотрели обломки назойливого бандитского соглядатая в месте его падения.
— Два момента не оставляют сомнений об авторе, — первым высказался Сталевич — Своеобразное противопоставлением слов в скупом языке и прославление комсомола. Отсюда — Гридин.
— Верно, — согласился Заборов. — Справедливости ради, замечу, что Петро, приняв комсомольские дела своего земляка, правда, после немалой проволочки, критически отнесся к его наследию.
Сидоренко Алексей Исаевич
Иначе и не могло быть – у Петра поэтическая душа.Газеты охотно печатают его очерки, стихи. Но у меня есть претензии… Все письменные материалынового помощника по комсомолу отражают дела только одних членов ВЛКСМ, конечно, на фоне красочного описания природы. А почему бы не сообщить и в политотдел (помимо газеты) характерные детали из жизни героев-коммунистов? Ты разводишь Петро, руками. Понимаю: мол, это за пределами моей компетенции. Нет, ты неправ…
— Все мы видим, что каждый шаг коммуниста на фронте — подвиг. А из-под моего несовершенного пера выйдет слишком бледное отражение. Вон, во фронтовой печати, как сильно описаны дела наших коммунистов — оправдывался Троян.
— О многих героях, к сожалению, еще ничего и нигде не написано. Пройдет время, детали забудутся, ты вернешься к своим заметкам в блокнотах и обнаружишь досаднейшие пробелы. Поверь мне, пишущему человеку: то, что ясно видится сегодня, завтра отодвигается другими событиями на второй план. Я, бывает, нередко сажусь за перо и волосы на себе рву оттого, что не могу вспомнить конкретных дел какой-нибудь месячной давности, хотя общих данных, фамилий в голове полно. Вот, Алексей Исаевич, чем еще страдает наш молодой комсомол, хотя он и не беспартийный, а не только тем, в чем ты обвинил его, — подчеркнуто закончил лейтенант Заборов.
Капитан Сталевич молчал. Фатеев вежливо обратился к нему:
— Сегодня ты, Исаич, мало-мало не в духе. Почему?
— Нет причин держать хвост трубой. Работу над историей бригады запустили, и вдруг, по тревоге, хватились наверстывать. Вот и высасывай из трех «п»… В черновых набросках много общих, ничего не раскрывающих положений. Трудно из них что-то переложить на чистую бумагу. Вот, полюбопытствуйте… Уже первые страницы никуда не годятся… Прибытие эшелонов в Волховстрой, Войбокало показано сухо, плохо…
— Эти казенные строчки так и останутся мертвыми, если не расшифровать их. Неужели тот, кто писал, видел, самое главное в уставной очередности разгрузки боевой техники? Было, наверное, влияние погоды, противника. У тебя, Петро, остались какие-то впечатляющие картины, связанные с вступлением на волховскую землю?
— Да, если вспоминать с ходу, без шлифовки, редактирования… Был дождь; кругом слякоть, грязь, глубокие воронки, поваленные телеграфные столбы, спутанные провода… Запруженное народом шоссе. Слева, на придорожных деревьях висели заброшенные взрывной волной какие-то тряпки, рваные части детской коляски. Справа свисала с березовой ветки окровавленная нога, обутая в новенький комсоставский сапог… Такие детали, наверное, на бумагу не пойдут.
— Почему? История должна быть объективной. Попробуем. Обо всем этом ты напиши. После обсудим на заседании комиссии. Кстати, в ее составе больше людей, которые имеют талант критиковать, а не писать. Раз ты, Петро, разговорился, вспомни о капитане Ермаке, именно о предпоследней атаке, когда он подал заявление в партию.
— Этого мало. Главное, я не знаю, как он воевал до моего прихода в батальон,- начал Троян. В конце рассказа о памятной атаке сказал: — Когда экипаж потушил пожар в танке, старший лейтенант Ермак обратился к нам со словами: «Спасибо, хлопцы. Теперь считайте, что я, ваш командир, стал коммунистом. Накануне боя я подал заявление в партию. Вы спасли и машину, и мою партийность». Большой школой для меня была эта атака. Мне казалось, что никого в экипаже тогда так не мучила растерянность, как меня. И я еще раз убедился, что в жизни не бывает безвыходных положений. Конечно, впоследствии бывало и хуже.
— Да. Так прорывалась блокада, — говорит Сталевич. — Теперь, когда она полностью снята, когда мы стоим на отдыхе в далеком от Синявина Дно, эти воспоминания могут воссоздать необыкновенно яркую картину того,какая невыразимо тяжелая борьба предшествовала прорыву, в каких суровых испытаниях ковалась наша победа.
— Вот я листаю страницы фотоальбома, — говорил капитан Троян.- Читаю написанные под фотографиями фамилии, инициалы комсомольцев — имена и отчества не указаны, — только сухие цифровые показатели их боевой деятельности под Синявином… — и он привел краткие данные боевого опыта трех десятков молодых танкистов. О подвигах Аглушевича и Тернового рассказал подробно.
— Интересно. В обобщенном виде вырисовывается очень внушительная картина, — поднялся из-за стола капитан Сталевич. — Я знаю героев бригады. Их список, конечно, длиннее. Но и этот небольшой перечень фамилий, цифр говорит о
поистине железной воле, настойчивости, с какими наша молодежь рвалась на выручку Ленинграда.
Если нас, участников этих событий, волнуют подвиги современников, то нетрудно себе представить, с каким трепетом забьются сердца их детей, потомков, которые будут изучать историю борьбы за город Ленина, — оттенял Троян цветным карандашом под золотистой рамкой слова: «Шерстнев В.М., капитан, командир роты. Участник 36 танковых атак». — Фотокарточку погибшего героя еще не удалось разыскать.
— Поэтому, друзья, один вывод, — сел капитан Сталевич на свое место: — За работу! Пока в нашей памяти еще не стерлись впечатления недавних боев, давайте общими усилиями раскроем то, что скрывается под обилием цифровых данных.
Далеко за полночь светились окна деревянного домика на главной улице Дно. Политотдельцы сидели над документами, вспоминали, переговаривались, спорили, сообща создавали по горячим следам летопись боевых дел танкистов.
Вначале Троян представлял себе совсем другое…
После того, когда он дал согласие работать в политотделе, сразу его охватило чувство, близкое к раскаянию.
Памятным было первое знакомство с обитателями овощехранилища.
В ноябре 1941 года. Запомнились дотошный «учитель” (Сергей ВасильевичФатеев), степенный, выдержанный полковой комиссар, вручивший ему,Трояну, перед боем кандидатскую карточку. Тогда казалось, что в управлении бригады работали не простые люди, а какие-то особенные, неимоверно много знающие, чересчур серьезные, строгие, дотошно-скрупулезные в непостижимо сложных делах.
Непонятный орган пугал молодого парня.
Мысль быть причастным к делам в верхах, видеть вблизи, как большие начальники решают важные задачи, и страшила, и заинтересовывала.
Несколько успокаивала продолжительная беседа с полковником Катковымво время марша к Волхову, перед самым назначением на новую должность.
Трояна обрадовало разрешение начальника политотдела остаться во время преследования противника в своем танковом батальоне. Его также приятно удивило то, что выполнение новых служебных обязанностей с первого дня началось среди своих хорошо знакомых боевых товарищей. Он не ощутил резкой перемены в службе. Правда, поначалу необычно трудно давались доклады полковнику Каткову о результатах выполнения его заданий. Гораздо легче было выслушивать новые указания, а еще проще — работать среди экипажей. Частые деловые контакты имел с инструктором партучета — с ним готовил к выдаче комсомольские билеты. На маршах, в боях днями не разлучался с пропагандистом политотдела капитаном Сталевичем. Тот в минуты досуга преобразовывался — терял вид постоянной деловой озабоченности и запросто рассказывал о довоенной учебе в университете, о будущей защите дипломной работы, о переписке с одной из 500 корреспонденток./ В ответ на письмо Трояна к родным, переданном московским радио, он получил 500 писем от незнакомых девушек/.
На кратковременном отдыхе в Дно понятия Трояна о новых боевыхтоварищах расширились.
Как-то вечером, в конце напряженного трудового дня, проведенного в батальонах, ротах, политотдельцы собрались в своей комнатке.
Капитана Трояна волновала предстоящая — через сутки — поездка к Вале.
Хотелось свезти ей какой-нибудь подарок. И он тоном надежды и просьбы обратился к товарищу:
— Алексей Исаевич, говорят, ты удачно съездил в армейские тылы. Наверняка привез что-то интересное из военторга.
Пропагандист недовольно засопел.
— Ничего, — отозвался за него старший лейтенант Фатеев.
Лейтенант Заборов многозначительно кивнул. В дополнение его хитроватаяухмылка, как бы дополнила: «Уж нюх Сергея
Васильевича обнаружил бы появление новой вещи в комнате по тончайшим запахам». Лейтенант имел в виду опыт прошлого, когда Фатеев не раз вмиг находил в столе, в ворохе политотдельского имущества или даже в кармане рассеянного Сталевича какую-либо вещичку, которую тот забывал, куда девал, неделями спрашивал о ней.
— Мне было не до военторга,- с опозданием ответил капитан Сталевич, сердито роясь в бумагах на своем столе.
— Расскажи, Алексей Исаевич, в спокойной обстановке о приключениях, связанных с поездкой в армию. Не все знают, — деликатно попросил лейтенант Заборов, моргнув друзьям, обещая что-то очень занимательное.
Капитан Сталевич не заметил, что над ним собирались подшутить. Крякнул, откинулся на спинку стула и почесал рукой за ухом в готовности поделиться с товарищами своими неприятностями.
Лейтенант шепнул Трояну:
— Сейчас Исаич распишется в своей будущей профессорской рассеянности.
Между тем, капитан Сталевич вынул из ящика стола пухлую папку с бумагами и с сердцем хлопнул по ней ладонью:
— Черт знает, что получается!.. Я считал, что в политотделе раз и навсегда избавлюсь от трижды проклятых интендантских обязанностей. Оказывается, и здесь есть акты, сдаточные и приемные ведомости, учет,отчетность и всякая другая вещь- мура…
— Разве это мое дело? — отодвинул он в сторону папку. – На днях начальник приказал мне сдать на армейский склад неисправное культпросветимущество. Собрал я все неиграющие гармоники, баяны, гитары, балалайки в длинную полосатую наволочку (матрац) и двинулся к перекрестку дорог вместе с шофером — наша машина, как вы знаете, на ремонте.
Подробно расскажи о том, как вы шли по городу. Не забудь о музыкальном моменте, — вставил с деланно участливым видом лейтенант, поправляя без надобности чехол на своей пишущей машинке.
Мучились, а не шли. Этой рухляди набралось полный матрац. Вертикально поставленный, он с множеством острых углов, выступов, оказался выше меня. Я, как офицер, взялся одной рукой за верхушку, а шафер — за углы низа длинного мешка, и понесли. После оттепели, приморозило, стало скользко. Ноги невольно то скользили, то пританцовывали на льду. Из матраца то и дело, как в насмешку, раздавались различные музыкальныезвуки. Весело…
— Словом, вы топали по городской магистрали, под звуки собственной музыки, — уточнил Заборов.
— Это была издевательская музыка. Будто кто-то нанял сто чертей рявкать, бренчать, рычать в такт каждому шагу. Да… На перекресток дорог вынырнула машина. Я «голоснул». Водитель остановился. Мы подбежали и осторожно прислонили к подножке кабины свою поклажу. Говорю: «Подвези, браток»… При этом наш злополучный матрац произвольно свалился набок и скрытый в нем разноголосый инструментарий так саккомпанировал на все лады, что аж прохожие остановились. Водитель удивленно заметил: «Что у вас за адский мешок? Не возьму — транспорт военный». Еле упросил…
— Ясно. С трудом и все-таки добрались до тылов, — сочувственно вставил лейтенант, решив немного пощадить капитана и избавить его от изложения подробностей дальнейших дорожных злоключений. — По-моему самые неожиданные осложнения приключились на складе.
— Ты прав… Попался такой кладовщик, заноза-бюрократ, каких природа очень редко производит на свет. Довел меня мошенник до белого каления. Сразу угроза: «Не приму ваше имущество — неправильно оформлены документы. Подпись должна быть не начальника, а командира, — и Сталевич раскрыл папку, показывая неизвестные бумаги. – Вам, товарищкапитан, прочитать лекцию о единоначалии?» Это он — мне, пропагандисту,сказал! «Что ж, прикажете, везти это добро обратно?» — спрашиваю. «Незнаю, дело хозяйское», — вызывающе буркнул складской субъект. «Ах, ты,— говорю, — тыловая крыса! Сам из интендантов, с интендантами работал, но такого сухаря-формалиста нигде не встречал», — возбужденнопроцитировал себя Сталевич и так хватил кулаком по стопке бумаг, что под ними треснули доски стола.
Друзья сдержанно улыбнулись.
— Тут, ты, Алексей Исаевич, маленько допустил несдержанность. Не к лицу пропагандисту. Но ничего, продолжай. Расскажи, как на тылового буквоеда управу искал, — тонко подзуживал Заборов, давясь от внутреннего смеха.
Капитан Сталевич обвел недоверчивым взглядом готовых прыснуть неудержимым хохотом напряженные лица и неожиданно открыл для себя, что об этом происшествии он уже рассказывал не раз. Вскочил на ноги — понял, наконец, что Заборов разыгрывал: и накинулся на него:
— Ах, вон оно, в чем дело! Думаешь, на простака напал. Заводила. Ты у меня поплатишься. Найду, чем подкузьмить. Если хочешь, могу с ходу… Забыл, как ты ездил за канцпринадлежностями на склад и попутно взял поручение привезти праздничную водку, и как тебя каналья интендантишка образцово надул: всучил вместо водки несколько бутылок чистейшей воды?
— Это случилось потому, что Заборов взялся не за свое дело, — сочувственно вставил Сергей Васильевич.
— А я — за свое?.. Мое дело — пропаганда, и никак не вещимущество. Лейтенант показал пальцем на заголовок сдаточной ведомости:
— Точнее выражайся: культпросветимущество. Оно по твоей части.
— Не согласен.
— Это уже похоже на критику распоряжений, приказов руководства. Почему ты раньше не доложил начальнику свое особое мнение?
— Докладывал как-то на ходу. В ответе разобрал только: «Богема».
На правой щеке старшего лейтенанта Фатеева появилась и тут жеисчезла выпуклость. И он произнес отвлекающе:
— Исаич, полковник, очевидно, имел в виду армейских артистов. Ты встретился с начальником ансамбля? Когда он приедет к нам? Организация концертов — это уж по твоей линии.
— Выступление артистов у нас не запланировано.
Фатеев загадочно оживился:
— Отсюда косвенный вывод: наша бригада скоро выступает.
Лейтенант Заборов достал из вертикально установленной на столеснарядной гильзы карандаш.
— Правильно, Сергей Васильевич. И тут чутье тебя не подвело. На носу команда: «Вперед!» Петро, у тебя везде прошли комсомольские собрания? Мне надо доносить, — и лейтенант открыл блокнот.
— В РТО отложили на завтра. Там люди задыхаются от ремонтов. Заборов что-то записал и поднял глаза:
— Я давно не вижу нашего нового старшего инструктора. Где он?
— Майор, как и его предшественник, днюет и ночует в ротах,- сообщил Фатеев. — Вместе с командирами утрясает расстановку коммунистов.
Лейтенант резким движением руки закрыл блокнот:
— Жаль его предшественника — сгорел на партгруппах.
— Точнее — в бою, — вставил Фатеев. — Пошел в атаку в составе беспартийного экипажа, в который не смог накануне подобрать коммуниста, и сгорел.
— Его преемник — такой же дотошный. Как только прибыло в бригаду новое пополнение и началось доукомплектование рот, так он сразу доложил начальству свои соображения перераспределения партийных сил, и началось… Добрался до тылов. Нашел там немало активных боевых штыков.
— Эта сторона у него мне нравится… — как бы взвешивал слова Сталевич.
— Значит, майор пришелся тебе по душе, Алексей Исаевич, — будто с сомнением высказался Заборов. — Видимо, он прибыл с преподавательской работы…
— Не притворяйся — ты знаешь, что он из запасного полка, — прервал Сталевич лейтенанта и, хотя продолжал серьезно, рассудительно, но в глазах сверкали критические огоньки: — Интересно, майор приехал в бригаду образцово, по-фронтовому экипированный. Так и не расстается со своей полевой сумкой, планшеткой, противогазом, кружкой, ложкой… Только каску на третий день снял и спрятал в вещмешок.
Лейтенант Заборов, раскладывая в один ряд на своем столе коробочки, ручки, скрепки, чернильницы — он слыл за аккуратиста и запасливого на все мелочи, — уловил прозрачный намек и не поддержал капитана:
— Правильно. Эта черта дельная у майора. Что хорошего в том, что у вас все имущество размещается в карманах? Даже сумок порядочных, вместительных не имеете, не говоря о чемоданах. Мимо таких разнообразных трофеев прошли! Да что сумок? Ложек нет. Таким был и Гридин.
— Возражаю, — решительно тряхнул своей шевелюрой Сталевич.- Я хотя начинал службу хозяйственником, но окончательно убедился, что в бою — десантом, пеши или в экипаже, — чем меньше на тебе навешано всякой всячины, тем легче делать свое дело. К примеру, сыграй сейчас тревогу, и ты бросишься складывать свои коробочки, ящички, банки, склянки, котелки, простыни, одеяла, а мы с Петром одной рукой проверим наличие в кобуре пистолета и магазинов с патронами, второй – полевой сумки на боку и — бегом, куда угодно: в танк, на броню, в кузов грузовика, где придется везде проскочим и будем боеготовы. Поесть? Ерунда! В любом подразделении найдется котелок и ложка.
— Словом, «тяп-ляп». Богема, как выразился полковник, — упрекнул лейтенант.
— Не совсем. Мы, по-возможности, считаемся с мнением старших, — с шутливо-подчеркнутой снисходительностью сказал Сталевич; в прищуренных глазах сверкнули игривые огоньки.
Весь вид его выдавал намерение сообщить что-то.
Друзья затихли. Сталевич сел за стол и сдвинул в сторону бумаги.
— Расскажу вам, братцы, как я прислушивался и присматривался к нашему новенькому майору… — начал он. — В порядке знакомства с бригадой пошли мы вдвоем в МСБ. Майор появился в окопах мотострелков крест-накрест затянутый ремнями, в каске, очках. Развернул свои записки, вырезки из газет, журналов; достал карандаш и заговорил, размахивая им перед носом. Речь плавная, правильная, грамотная. Я аж присел и разинул рот – точь-в-точь профессор на университетской кафедре. Методически выдержанно растолковывал, вразумлял. Красноармейцы сидели, как зачарованные. После лекции слышались сдержанные отзывы:
— Вишь, какой человек. Голова!.. Сколько много знает, а не побрезговал прийти к нам, в окопы. Видно, с большой должности снизошел.
Дело было перед наступлением. Парторг роты автоматчиков красноармеец Рыжак — коренастый, седоватый, участник гражданской войны — по-видимому, сделал вывод, что майор обо всем сказал правильно, доходчиво, но не то, что требовал момент. И решил выступить с дополнением.
Ну, и дал прикурить этот Рыжак!
Как завел баланду. Мне неудобно было слушать. Майор тоже крутится, надевает и снимает очки, порывается остановить оратора, а тот,знай, мелет свое. Речь произносится на каком-то непонятном, смешанном русско-украинско-белорусском языке. Хриплым, невнятным голосом бросает в красноармейскую массу:
— Заляем Хитлерякови сала за шкиру!.. Трясця его матери! …Кревлю хвашист умыется, мат его за ногу!.. Чтоб твоя жона, сын, дочка не были убиты, убей бандита… И не один раз, а сколко увидел, столко и убей! Крев за крев… Надо не стоят, а наступат вперед!..
— И все в этом роде. Мы с майором понимающе обмениваемся взглядами.
Решили все же набраться терпения дослушать Рыжака до конца.
В глазах оратора сверкал боевой, всесокрушающий огонь; жгучаяненависть к врагу так и кипела. Поднятая вверх правая рука угрожающепотрясала автоматом, левая то и дело хваталась за гранатную сумку.
Резкие выкрики вспугнули воронье на деревьях. Казалось, вся сутулая,устремленная вперед фигура бойца рвалась в атаку.
Майор сказал мне на ухо:
— Слушатели и половины слов не понимают.
— Точно, — подтвердил я. — Среди мотострелков больше половины нерусских национальностей.
И тут наша логика пошла вверх тормашками.
Мы явились свидетелями удивительного превращения: лица мотострелков, их глаза стали загораться искрометным пламенем. Те, что сидели, вставали, подтягивались, будто услыхали звуки какого-то магического призывного сигнала. Все говорило о том, что парторг вселил в людей неудержимый наступательный порыв. Заключительные слова оратора потонули в возгласах одобрения.
Вот, что значит, говорить с народом страстно!
Меня тогда Рыжак научил больше, чем недавний двухдневный семинар в армии, проведенный квалифицированными лекторами…
Капитан Сталевич замолчал, но чувствовалось, что он не закончил свою мысль. Кто-то спросил:
— А как майор среагировал?
— Выступление бойца настроило его на другой лад. Спрятав в сумку свои бумажки, он завязал с бойцами живую беседу. Попросил у Рыжака махорки, закурил. Красноармейцы обступили обоих, стали задавать различные вопросы. Майор понял, что людей зажгла не его глубокомысленная интеллигентская лекция, а страстная, взволнованная речь Рыжака.
— Ну, уж ты, Исаич, хватил через край. Получается то же, что говорил один больной: «Сколько ни принимал различных лекарств — ничего не помогло. Стоило проглотить таблетку аспирину и как рукой сняло». Не упрощай, — не согласился Заборов. — На одной святой простоте далеко не уедем. Ты сам не допустишь, чтоб во всех подразделениях пропаганда легла на плечи Рыжаков.
— Я не о том… Не за святую простоту, эдакую наивненькую, которую еще Ленин осуждал. Как твоя «симпатия” штабной сухой майор, с его скудным, запасом слов, вроде «синклит», «архаровец”, так и Рыжаки — это крайности. Знаю, что у них тебе трудно почерпнуть что-то ценное для обобщений, политдонесений.
— Чаще бывай в ротах, слушай простых, бесхитростных людей и твои послания вверх заиграют живой жизнью. Я заметил другое. Ты не представляешь, какая вера впобеду звучала в словах парторга!
— А в речи майора не было веры?
— Мало верить в то, что излагаешь. Надо, с учетом настроения массы, обстановки, особенностей момента, говорить убежденно, с чувством.
Разгорелось бурное обсуждение.
— Не знаю. Мое мнение — оставайся самим собою, выступай перед людьми с тем чувством, которое тебя охватывает, безо всякой искусственности, рисовки. Говори то, что просится на язык, — высказался Троян.
— Правильно, — согласился Сталевич. — Но не каждого из нас природа наградила даром доходчиво излагать то, в чем ты убежден и чувствуешь. Вот завтра у меня семинар с агитаторами и я ломаю голову, как его лучше провести. Начнем, пожалуй, Петро, с твоей лекции о воспитании воли, воинского характера. У тебя сохранился текст Гридина?
— Вот он, — достал Троян из планшетки много разноформатных листиков, сложил их стопкой на столе, пригладил сверху рукой и отодвинул в сторону. — Не хочу я больше выступать по этим запискам. Тепер! догадываюсь, почему медсанбат воспринял мою лекцию как-то сдержанно, сухо. Я выступал по бумажкам, передавал чужие мысли. Из уст Гридина составителя материала, теоретические положения звучали убедительно, доказательно, а из моих, — как пересказ или хуже того — как перевод с иностранного.
— Не суди себя слишком строго, Петро. Все мы, студенты, любим шпаргалки. Иногда так и подмывает сообщить людям что-то необыкновенное, ученое и слишком грамотным, книжным языком… Рыжак надоумил меня в корне переделать тезисы доклада о 26 годовщине Красной Армии. Сделай, Петро, вставки со свежими примерами из нашей боевой жизни и люди хорошо поймут. Об остальных выступлениях спрошу мнения полковника. Надо, по-моему, подумать над тем, чтоб наши агитаторы послушали и Рыжака.
— Петро, не забывай, что на завтра запланирован твой доклад местному активу, — напомнил Фатеев.
— Начинаю дрейфить после таких разговоров.
— Не переживай — там народ не придирчивый.
— Что-то ты, Сергей Васильевич, зачастил к местным товарищам, — заметил с двусмысленной улыбкой Заборов. — Я тебя часто вижу на улице с одной фигуристой, остроносенькой девушкой. Вчера вы подозрительно долго стояли у здания райкома партии. Неужели решали партийные дела?
— А почему бы и нет? На Волхове, под Синявином мы почти не выходили за пределы траншей, лесных районов сосредоточения. В прифронтовой зоне не было местных властей. Плохо мы были связаны с внешним миром. Не все, конечно. Петро, например, не забывал медицину. Алексей Исаевич систематически переписывался с таинственной незнакомкой из глубокого тыла. Майор и начальник регулярно пишут своим семьям. Что остается делать мне, холостяку? На тебя, бумажного сухаря смотреть?
— Все же ты нечестно поступаешь, Сергей Васильевич, — не унимался Заборов, поглядывая в оттаявший кружок оконного стекла. — Ты крутишь голову девушке и не случайно только на улице. Она и не подозревает, что останется обманутой.
— Что ты болтаешь? — вскочил Фатеев из-за стола.
— Не болтаю, а логически рассуждаю. Все очень просто. Когда вы встретитесь в помещении, она ахнет — ведь тебе придется волей-неволей снять шапку и обнажить свою лысину.
Друзья прыснули смехом, а Фатеев сел и усиленно стал подпирать языком правую щеку.
— Девушка не сразу заметит, — шутливо уточнил Сталевич. — Сергей Васильевич парень-жох: всегда норовит прикрыть своими жиденькими прядками светлое поле макушки.
— Это еще хуже, — взял на себя серьезный вид Заборов. — Местная красавица — партийный или советский работник, — опытная и сразу уличит кавалера в чистейшей воды очковтирательстве.
Друзья вновь расхохотались.
Троян от души смеялся, думая: «Не такой уж страшный и недоступный новый коллектив. Простые хлопцы, но пальца в рот не клади. Что ж, так и надо. Им не чуждо ничто человеческое. А насчет выступлений перед народом, надо намотать на ус: не выскакивать сгоряча, как бывало прежде. В бою, когда вынуждает обстановка, дело другое, а перед специально собранной аудиторией нельзя появляться без тщательной подготовки».
Со скрипом отлипла дверь. Вошел майор.
— Что у вас тут за шум? Со стороны, будто студенческое общежитие, а не… — он затруднялся договорить.
— Похоже на богему, — невольно вырвалось у кого-то.
— Что? — переспросил майор, будто не расслышал, и официально объявил: — Пойдемте к начальнику. Собирает. Получено новое задание.
Троян, еле успевая за событиями, накоротке записывал в блокноте.
I марта 1944 года. Прорвались во вражеские тылы. Глухие просеки, извилистые тропы, расширенные следами лошадей, саней, людей…
Днем подтаивает, вечером морозит. Облачное, свинцово-тяжелое небо поднимается с каждым днем все выше и выше. Воздух, снег пахнут по-весеннему.
Однажды в тихий полдень разведка обнаружила в заснеженном лесу множество колей гужевого транспорта, которые веерообразно расходились в стороны от маршрута движения наших танков. Это вынудило капитана Самохина остановиться. Он, прикрываясь крышкой люка, как щитом, старался взглядом проникнуть в глубину леса.
Следы на снегу прячутся за густыми скоплениями деревьев. Какая-то загадочно-подозрительная тишина. Странно. Ощущение такое, будто находишься в фокусе чьего-то внимательного рассматривания. Не иначе, как мы остановились в точке сосредоточения воображаемых прямых из двух-трех засад.
Меня же вынудила какая-то внутренняя сила поделиться с товарищем совсем другим впечатлением:
— Природа успокаивает и радует. Посмотри, Саша, нас обступили со всех сторон плотной толпой очень приветливые сосны, березы, ели. Кажется, они готовы распуститься, зазеленеть раньше времени, еще до того, как жаркое солнце сгонит с земли заскорузлый, крупнозернистый снег.
— Ты вечно поэтизируешь, Петро, — вглядывался Самохин в отдаленное семейство стройных берез так, словно среди них что-то обнаружил.
И тут выяснилось, что наши впечатления не были обманчивыми.
С неба посеялся легкий молодой снежок. Между деревьями, в светлой пелене, показались люди в шапках и фуражках, пальто и полушубках, длинных шинелях и коротких куртках. И все — вооруженные.
— Партизаны! — крикнул кто-то.
— Ура!! — отозвался лес с разных сторон. — Да здравствует Красная Армия!
Десятки людей, утопая в снегу, бежали, как бы отталкивая от себя деревья.
Волнующая встреча. Народные мстители обнималицеловали бойцов, качали их, высоко подбрасывая вверх.
Мы давно держали ухо востро, смотрели на восток. Наконец, сегодня, до нас донесся необыкновенный гул — это шли ваши танки. И все замерли в ожидании — слушали самую радостную музыку в жизни… — горячо делился моложавый, стройный, подтянутый командир отряда. Развернулкарту и тут же показал дорогу, по которой отступали гитлеровцы. — Врага можно настигнуть, если двинуться напрямую, через наше селение, где, кстати, за время фашистской оккупации Советская власть не прекращала своей деятельности ни на один день, — с гордостью подчеркнул партизанский командир. — Это наша база. Просим заехать, остановиться, познакомиться с теми, на кого мы опирались в тяжелые дни борьбы с захватчиками. Здесь, во вражеском окружении, советские люди давно готовятся встретить вас с хлебом-солью, угощением… Вы наши освободители…
Капитан Самохин доложил по радио комбригу о встрече. Выслушалуказания и объявил, что нет возможности остановиться в партизанской деревне.
Мы торопимся засветло настигнуть врага.
Поэтому ограничимся маршем через деревню. Ведите нас, товарищи партизаны, кратчайшим путем.
Танки с многочисленным десантом мотострелков и партизан двинулись к населенному пункту.
На улицу вышли все — от матерей с грудными детьми до больных, стариков, старух. Как восторженно, радостно, со слезами на глазах встречали крестьяне советских воинов! Это событие мне не под силу описать.
Мы приметили, что фашист со Дня Красной Армии начал смотреть вон. Теперь и бог велел бить и гнать его, окаянного, — говорил старый партизан со шрамом на щеке, посаженный командиром на первый танк в качестве провожатого.
Наши боевые машины вырвались на шоссе Порхов-Остров. Но, увы!..
Через каждые 200-300 метров на проезжем полотне виднелись огромные воронки, окаймленные на десятки метров в окружности глыбами вывороченной почвы. Объехать препятствия невозможно даже на санях — диаметр воронок совпадал с шириной шоссе.
— Вот гад проклятый, отступает и уничтожает все и вся, — ругался проводник — Столько взрывчатки не пожалел! Попалась бы она в наши руки. Мы нуждались в каждой толовой шашке, а тут, оказывается, рядом бандит располагал тоннами.
Больше всего людей поразило дикое зверство — распятие женщины.
Это страшное зрелище. На возвышенности, в месте пересечения шоссе с проселком, гитлеровские варвары выставили напоказ труп обнаженной местной девушки с кощунственно-издевательски воткнутой в нее палкой.
Этот акт неслыханного зверства вызвал среди бойцов бурю негодований.
Мы не раз смотрели смерти в лицо, видели всякие виды, но эта жертва фашистского насилия привела всех нас в неописуемую ярость.
— От такой дикости камни завопят, — негодовал усатый старшина.
— Клянусь, что хулиганская, чисто каннибальская выходка врага не пройдет ему даром, — заскрипев зубами Самохин, нырнул в танк.
Его рота без промедления двинулась в обход воронок.
С ходу освобождены деревни Житница, Дубок, Никулино.
Убегая, гитлеровцы прикрывались с хвоста «тигром». Головная тридцатьчетверка запылала. Мгновенная заминка. Техник-капитан Моторный с группой автоматчиков кинулись тушить пожар, но безуспешно. Еще две машины вышли из строя — вражескими снарядами перебиты гусеницы. Разгорелся бой: в невыгодных для нас условиях — мы наткнулись на укрытые огневые точки противника.
Моторный, изучив тактику действий вражеского заслона, подбежалк «Уралу». Перекинулся двумя-тремя словами с командиром и сказал механику — водителю:
— Уступи-ка, парень, мне местечко. Отдохни, — и, усаживаясь за рычаги, обернулся назад, к Самохину: — Что ж, Саша, схлестнемся с собратом синявинского зверя-первенца. Теперь уже не вслепую. /В результате ночной встречи с «Тигром» 18 янв. 1943 г. тот стал трофеем/.
И в его воображении возник образ Клавы. Да, да, той необыкновенно смелой, самоотверженной девушки, чья кровь спасла ему, Моторному, жизнь и теперь взывала к мщению. Ему стали так предельно ясны все детали, особенности предстоящей задачи, словно он прозрел. Странно: его провожали в атаку глубокие, простые глаза погибшей Клавы, а не интригующий блеск из-под крашеных ресниц здравствующей Музы.
Капитан Самохин взялся за рукоятки прицела:
— До первого ориентира дуй, Ваня, без оглядки. На повороте к изгороди — короткая остановка. Как только я отстреляюсь, сразу — за стог сена…
«Урал» свернул направо и, маскируясь в овраге, двинулся обходным путем к «тигру».
Огневые удары тридцатьчетверок и САУ с места насторожили гитлеровцев. Враги заподозрили в них отвлекающий шум. Нервы командира «тигра» сдали — тот начал задним ходом менять свою позицию и обнаружил себя.
Как «теплолюбивый» фашистский зверь, выкрашенный под цвет северной природы, ни маневрировал, ни прятался за крестьянскими избами, его поединок с «Уралом» окончился вспышкой огромного столба огня. «Тигр» получил три снаряда в борт, загорелся и взорвался.
«Урал» обошел деревню по задворкам и, смяв гусеницами легкий жердевой забор, вынырнул с западной ее окраины на шоссе. К тому времени подоспели остальные тридцатьчетверки. И советские танки с ревом моторов, грохотом пушек и ДТ обрушились на колонну различных машин противника. Ничто не уцелело.
— Это вам за истязание советской девушки, — Оглянулся капитан Самохин из люка назад, на дорогу, усеянную вражескими трупами, разбитой техникой.
— И за Клаву, — прибавил газу Моторный, доложив командиру: — Вижу на дальней опушке леса развертываются две противотанковые пушки. Похоже, что… — и осекся.
Справа, мимо «Урала», мчались по мелколесью танки капитанаМотылькова, стреляя с ходу по новым целям.
20 апреля. Наконец-то получил письмо из дому, от родителей, бывших в оккупации. Отец, в ответ на мою открытку пишет, что дома все живы, здоровы и что с получением от меня известия — у всех на душе большой праздник. «Как святые хату перелетели», — сказала мама.
I июня. Река Череха. Известные исторические места. Здесь в боях с германским империализмом рождались части Красной Армии. Капитан Сталевич провел семинар с агитаторами на исторических рубежах. Я собрал комсоргов, рассказал им о юных героях гражданской войны. Провел физкультурные состязания. Пополняемся техникой, людьми.
14 июня. Станция Чихачево. С платформ сошли новые танки. Дороги к фронту дымятся бесконечными мутно-желтыми облаками пыли. В воздухе проносятся восьмерки краснозвездных штурмовиков. Душа поет.
16 июля. Мы с новыми силами ринулись вперёд.
17 июля. Преследование. Река Великая. Название свое оправдывает. Форсирование речек Синяя и Утроя. Комсорг Ялышев с группой автоматчиков первым ворвался за рекой во вражеские траншеи. Сражался до последнего. Тяжело ранен. Продолжал руководить людьми. Речная вода коричневая…
Изменение. И… трагический случай.
Капитан Сталевич убыл заместителем командира танкового батальона. На его место прибыл из тыла старший лейтенант Вербоватый. Молодой, симпатичный, скромный, в новом шерстяном обмундировании, сверкающих глянцем хромовых сапогах и снаряжении. Накоротке принял дела, выслушал инструктаж начальника политотдела… Мне поручено провести вновь назначенного пропагандиста политотдела бригады на плацдарм, за реку. У переднего края нас встретил парторг роты Рыжов — здоровый, сильный, в летах. Он с увлечением рассказал о настроениях мотострелков, их запросах. Направились в первуютраншею…
Далее все произошло молниеносно.
Не суждено было воину-ветерану полностью ознакомить новичка с боевыми делами на плацдарме. Не судьба и молодого
Река Черехо 1944 год.
офицера разобраться хотя бы в общих чертах с боевой жизнью фронтовиков.
Начался артналет. И первые же осколки вражеских снарядов поразили на смерть и юного Вербоватого, и ветерана Рыжова. Вот, оказывается, какая бывает злая доля. Обоих похоронили у развилки дорог, возле деревни Перевоз, на берегу речки Синяя.
22 июля. Ночь. Дождь. Форсирование речки Лжа. Мне поручено подобрать из комсомольцев группу разведчиков. Важное задание. Желающих оказалось больше, чем требовалось. И вот мы разведали маршрут для танков. За нами тридцатьчетверки вступили на территорию Латвийской ССР. Танковый удар с выгодного рубежа. «Урал» меня обогнал.
Как я ему ни жестикулировал, не остановился. Идем мимо разбитой и догорающей вражеской техники. Навстречу бредут пленные. А моя группа вроде уже и никому не нужна. Смешно получается: дело сделали и — в сторону.
30 июля. На ходу почтальон подал мне с машины письмо (начальник, сидя в кабине, не остановился — некуда сажать добровольцев- разведчиков). Развернул треугольный конверт. Письма нет. Присмотрелся в предрассветных сумерках повнимательнее к конверту и заметил на его обороте карандашные строчки: «Уважаемый друг и начальник! Положение мое неважное, ранение тяжелое, еду в тыл. Очевидно, я за этот бой должен быть представлен к награде, дело зависит от вас. Прошу побеспокоиться. Руководил хорошо. И лично воевал неплохо. Боюсь за вас, живы ли? Вы были один из дорогих мне как друг и как начальник… Все. Не могу… Передай привет Героям.С уважением к вам Ф. Ялышев.» Чувствую в этих словах суровуюфронтовую действительность. Непосвященному человеку, возможно, не догадаться, что это пишет комсорг батальона мотострелков. Да, он руководил в бою, хотя и не был командиром. И личным примером увлекал в атаку не только своих комсомольцев — всех, кто оказался рядом.
Боевых друзей называет Героями /пишет это слово с большой буквы/. Не стесняется напомнить о награде. И в этом нет ничего удивительного. Не секрет, что на фронте мы в боевых перипетиях нередко забывали о поощрениях. А Ялышеву очень хочется, чтоб семья по награде могла судить, как он выполнял свой долг. Не согласен со словом «начальник». Но и в нем, видимо, есть свой смысл.На фронте комсомольская работа своеобразна. Я беру в разведку желающих комсомольцев, но в ходе выполнения задания являюсь для них начальником, командиром, мое слово — непререкаемо. Откуда же пишет мой боевой друг? Еще раз просматриваю лицевую сторону треугольного конверта. Читаю: «Полевая почта 57908 Трояну Петру Михайловичу». Далее, черта и вместо обратного адреса — подпись Ялышева.На штемпельной печати:» Валдай Ленингр. СССР 28.7.44″ и штамп: «Просмотрено военной цензурой». Все ясно, Теперь, товарищ «начальник»! лови попутную машину, догоняй танки. И уже оттуда справишься, послан ли из мотострелкового батальона наградной материал вверх на Ялышева?
11 августа. Опять действую в составе танкового экипажа «Урала». На ходу навел справки у мотострелков. Текст представления Ялышева к награде не составлен. Некому — большие потери. Сам набросал черновик и передал в штаб.
Это одна из форм комсомольской работы на фронте. А Самохин торопит: помоги, Петро, поработай за радиста и заряжающего. О, об этом и просить не надо! Головокружительный бросок во вражеское расположение. Танки Самохина захватили 6 вражеских батарей, тяжелых! Марш с боями на Выру. 150 километров — без передышки. Описать на досуге боевые дела танкистов Лобанова, Кадыкова, Бережного, Астапова.
17августа. Дымы пожаров над Тарту. Спасти город. Танки перерезают дороги, наступают в обход города с юго-запада.
Земля вздрагивает от мощного рокота моторов, близких выстрелов крупнокалиберных орудий, нервно-спорадических ответных взрывов снарядов.
19 августа. Освобожден Тарту. Маневр танков на северо-запад продолжается. Во второй половине дня пальба начала стихать. После дождя несколько посветлело, хотя тучи заволакивают небо.
События под Тарту, по-видимому, предшествуют финишу боев за освобождение Эстонской ССР. Поэтому постараюсь записать все увиденное и прочувственное подробнее, чтоб впоследствии использовать эти дневниковые записи в повести.
Итак, танковая колонна идет обочиной. На шоссе, ей наперерез выскочил капитан Сталевич. Он сноровисто лавирует среди разбитых и обгоревших машин, искореженного оружия, разбросанных трупов противника. Перепрыгнул через кювет, заполненный коричневой жижей. Вдохнул полной грудью. Оглянулся назад. Видно, ему показалось, будто его преследует
1944 год. Под Тарту.
чужой смрад с какой-то отвратительной приторностью, исходивший от предметов солдатского обихода разгромленного врага. «Вон, оказывается, из каких пушек бил фашист нам во фланг, — скользнул капитан взглядом вдоль длинного кладбища оружия, машин противника. — Откуда же хлынуло по мотострелкам море огня из стрелкового оружия? Ага. Вижу…» И Сталевич заметил, что кювет сплошь заполнен серозелеными вражескими трупами. Из мутной воды торчат стволы пулеметов, автоматов, винтовок. Далее в придорожном осиннике, среди различного военного имущества валяются убитые гитлеровцы. Возле них блестят кучи стреляных гильз, козырьки офицерских фуражек, целлулоид планшетов и… капитан удивился. Возле ручного пулемета лежит фетровая шляпаи упитанная туша в черном фраке, рядом — кожаное пальто. «Какой-то немалый чин, видимо, из гражданской администрации», — предположил он и побежал к головному танку своей колонны.
Пока танковый батальон перегруппировывается для нанесения очередного удара по врагу, капитан Сталевич,отрекогносцировав местностинаправление маневра, торопится к своим танкистам, чтоб сориентировать их в новой обстановке.
После дождя почва раскисла. Но танк лейтенанта Латюка проскочил через мост на северо-западный берег реки Эмайыги. За ним двинулись мотострелки. Плацдарм захвачен.
Я встретил Сталевича на переправе. Передал распоряжение начальника политотдела о том, что нам вдвоем следует отправиться в город Тарту с задачей осмотреть известный старинный университет, затем представить записку о его состоянии /для доклада вверх/.
— Почему именно меня отвлекаете на посторонее дело? — спросил Сталевич с интонацией возражения.
— Для тебя, студента-историка Минского госуниверситета это постороннее дело? — удивился я. — Может, скажешь, что эта работа больше подходит мне, по комсомольской линии?
— Да, пожалуй, надо заботься уже сейчас, о том, где после войны будут учиться твои комсомольцы, — улыбнулся Сталевич.
26 августа. Утром мы вышли из рощи. Остановились, пораженные видом незнакомого города.
В море зелени красиво вписываются своеобразные строения Тарту. Вдруг в центре вырастают столбы дыма и огня – точно
1944 год. Под Тарту.
так, как тогда, когда противник покидал город. Слышатся взрывы.
— Да, история… — мечтательно начал Алексей Исаевич. — Дерпт Юрьев, Тарту… Знаменитый университет. Город основан в 1150 году. Вон, поднимается на возвышенности в излучине Эмайыги, на юго-восточном берегу. — Он с сердцем взмахнул рукой и мы зашагали к окраинным садам.
Говорят, что я и Сталевич внешне похожи друг на друга. Заборов называет нас братьями — мол, оба одинаково не вышли ростом — коротыши, типичные танкисты. Но характером неодинаковы. У обоих русые, вьющиеся волосы. У Алексея Исаевича буйная шевелюра как бы подчеркивает неспокойный, резковатый нрав. Глаза коричневые, добрые и в то же время часто выражают упорство, непокорность. Моя прическа — мягкая, волнистая… Он старше меня на 6 лет. Не могу себе объяснить, почему я обращаюсь к нему по имени и отчеству, и на «ты». В душе преклоняюсь перед взрослыми, и в тайне терзаюсь: когда же я повзрослею? «Мальчишка, — будто кто-то одергивает меня, — терпение, не торопись, а то может быть хуже война поставит в твоей биографии точку и навеки останешься для тех, кто тебя знает, молодым».
… Мы закончили осмотр Тартуского университета. Впечатление — гнетущее. Здания разбиты. Имущество разграблено. На территории изувечены зеленые насаждения, валяются учебные наглядные пособия, различные схемы, макеты, колбы, стеклянные банки с заспиртованными экспонатами живой природы. Ветер шевелит листами разбросанных в грязи книг. Видно, фашисты впопыхах вытаскивали из университетских кабинетов научные ценности, пытаясь увезти их в Германию, но не успели.
Пахнет свежей зеленью, смородиной, крыжовником. Волнами ударяет кисловато-горькой гарью. Кругом — ни души.
Так на фронте не бывает. Охватывает тревожное чувство ожидания чего-то, — настораживаюсь.
Петро, не давай волю своим поэтическим предчувствиям. Предавайся им вечером, на страницах своего дневника. А сейчас пойдем в университетский сад, полакомимся местными фруктами, — как-то неестественно-беззаботно заговорил Сталевич. Мне вспомнился друг детства Костя, который однажды с озорным видом предлагал забраться в огород соседа за клубникой.
1944 год. Под Тарту.
Тяжелая тишина словно нашептывает: «Не время». Осматриваюсь кругом. Взгляд блуждает по опрокинутым на земле стеклянным емкостям, из которых разлились какие-то жидкости, вывалились препарированные органы: сердце, почки, легкие, мозги…
Не могу, не хочу, — внутренне передергивает меня. С усилием чмокнул: — Во рту ощущаю неприятный привкус.
— Не к лицу комсомольскому вожаку быть суеверным, — шутит Алексей Исаевич. Заметив предметы, которые привлекли мое внимание, он задумывается: — Вспоминается, что известный русский писатель Вересаев в течение 6 лет изучал в «тихом Дерпте» на медицинском факультете «биологическую сторону человека», видимо, чтобы лучше понять его душу… Сюда он приехал после окончания Петербургского университета в звании кандидата исторических наук. Историком был, — и тряхнул головой: — А наши ученые степени еще впереди. Сначала надо очистить эти исторические места от потомков дремучих невежд в науке — «культурных» тевтонов. Кстати, братец, ты знаешь, что среди нынешнего руководства фашистской Германии нет деятелей с высшим образованием? Общеобразовательный кругозор самого Гитлера, по- моему, насколько мне помнится, не выше посредственного семикласника. Да, да, я как-нибудь покажу тебе книжку… — он поднял из дождевой лужи тяжелый фолиант в зеленом сафьяне с тиснением золотом: «Физиология» и, листая ее, медленно направился к кустам крыжовника.
— Остановись, Алексей Исаевич. Неужели ты и в морге лакомился бы фруктами?
— Понимаю — ты вспомнил неудачную дегустацию огурцов и рассола под навесом колхозного сарая. Думаешь, события повторяются? Нет. То, что произошло вчера не повторится сегодня или завтра.
— Верно, но мой правый глаз чешется — будто соринка попала.
— Хорошо, что ты не забываешь о неполноценности зрения. Я прикрою тебя справа, — облизывает Сталевич сухие, потресканные губы и, обходя меня, всматривается в дальние ягодные кусты.
— Постой, тебя может подвести контуженное ухо. Момент! — будто взорвало меня. — Все это не зря. Прислушайся.
Октябрь 1944 года.
Из-за Эмайыги донесся знакомый зловещий гул.
— Ясно? Алексей Исаевич, бегом в укрытие!
Не успели мы достичь дверей подвала, как среди кустов крыжовника завихрились дымные взрывы вражеских мин.
Могло быть хуже, если бы мы увлеклись ягодами, — облегченно вздохнулось мне.- А ты говоришь, что события не повторяются.
— Это случайность, — стоит на своем Алексей Исаевич, присаживаясь на ящик с засушенными какими-то корнями.
— Обусловленная, — уточнил я. Меня мучило смутное предчувствие. Изучить бы эту загадку в человеке…
Артобстрел затянулся надолго. От зажигательных снарядов вспыхивают крыши домов. Сталевич нервничает, ругается, возмущается варварством фашистов. Порывается бежать к танкам. Негодует:
— Долбят, бандиты, вперемежку осколочными и зажигательными — препятствуют тушению пожаров. И как у них поднимается рука уничтожать исторические ценности, храм науки?.. Небось, наблюдают сейчас в бинокли, как рушится, горит, гибнет здесь, на севере, то, что напоминает архитектуру древней Греции. Я бы на месте старожилов тех мыз, что за рекой, хоть бы собак натравил на погромщиков… Не тебе, Алексей Исаевич, напоминать, что местное население веками борется против засилия проклятых тевтонов.
Знаю. В этих местах были разгромлены тевтонские псы-рыцари. А сколько крови пролито эстонским пролетариатом! Он в содружестве с российскими братьями по классу длительное время боролся против местных и иностранных империалистов. Издавна эти края были дальним форпостом нашей Родины…
Не дожидаясь окончания артиллерийского налета, мы кинулись спасать горевший вблизи флигель с искусными резными украшениями. Рядом оказалась бочка с дождевой водой. Нам удалось потушить огонь на углу крыши. Расчистили доступ к дверям. Перенесли в безопасное место несколько связок книг. Затем в поисках воды и песка перебежали улицу и наткнулись в подвале на связистов.
— Вы мне очень нужны, — обрадовался капитан Сталевич. Найдя старшего, он продолжил: — Есть приказ командующего всем подразделениям в районах своего расположения тушить пожары.
Командир сразу же вывел подчиненных на территорию университета. И мы при помощи бойцов потушили все очаги огня, а также собрали данные для составления справки о состоянии университета.
5 сентября. Мы встретились на южном берегу Эмайыги.
Вода кипит от артиллерийско-минометного огня противника. Кажется, и думать нечего о переправе на плацдарм. За дело взялся напористый, злой Сталевич. Откуда-то появились в его руках доски, телефонный кабель. В глубокой воронке мы изрядно покряхтели над сооружением плота.
— Затянем, Петро, морским узлом… Так… Готово. Теперь приготовь себя, — командует он. Прислушиваясь к гулу отдаленных выстрелов, а не к близким разрывам, Алексей Исаевич улучшил момент и крикнул: — Поехали!
— Ну и живчик. У него изворотливость ужа и мускулы стальной пружины.
Враг к тому времени с новыми силами бросился в контратаку.
Наши танки отражают бешеный натиск до тех пор, пока не израсходованы боеприпасы. Дело дошло до того, что экипажи отбиваются от гитлеровцев гранатами, огнем из пистолетов. Некоторые под остервенелым вражеским напором отходят назад.
Вот запылала тридцатьчетверка. Вторая…
В лесу слышатся голоса:
— Экипаж, потушить пожар! Накрыть жалюзи мокрым брезентом!
— Товарищ майор, в осиннике закопошились черные каски…
— Просчитался, говоришь?.. Запусти в бандитов траком.
— Эх, хотя бы парочку осколочных…
— Передвинуть бы танк влево метров на пять, но в баке газойлем и не пахнет. Мотор, как глушоная рыба — ни гу-гу.
— Что?! Бросить стальную крепость?.. Было бы чем, я разрешил бы подорвать…
Капитан Сталевич сказал мне:
— Братику, не в службу, а в дружбу — мигом на южный берег, за снарядами,- и сам кинулся на голос своего комбата: — Слышу!.. Бегу! Снаряды будут…
Легко сказать: «будут”. Этим словом он воодушевил танкистов и обязал меня… В пути встретил автоматчика комсомольца Гатина, затем его командира. Сколотил группу комсомольцев-активистов и — на левый берег, за боеприпасами.
Через час мощное эхо прокатилось лесом, долиной реки. Это ударили танковые пушки, скупо застучали ДТ. Мотострелки словно воскресли— трижды прокричали «Ура!» Танкисты и десантники расстреливают врага в упор. В его стане — суетня, крики, дымы. Над вершинами сосен поднялись в небо клубы дыма в виде гриба — чей-то снаряд угодил во вражескую цистерну с бензином. Пауза. Пока гитлеровцы опомнились, с южного берега реки поступила новая партия боеприпасов.
И так целый день. Противник разобрался, в чем дело и стал приниматьконтрмеры.
Вода бурлит и заливает берега от вражеского огня. Обжигает нас ледяным холодом — сводит руки, ноги, заходится дыхание. В брызгах — свинец и сталь…
Над расположением танков появляется 15 «юнкерсов». Сначала берега Эмайыги встряхнулись от взрывов бомб. Потом гулко ударили по танкам с воздуха пушки и пулеметы. Я уже командую двумя группами подносчиков боеприпасов. Одну отправил на плацдарм, другую ожидаю с тыла. Переживаю: уцелели ли бойцы с ящиками на плечах, только что скрывшиеся в зарослях противоположного берега? Надеюсь на старшего Гатина да на «везучего” автоматчика-«колобка».Это их 10-й рейс к танкистам. Вернутся, должны вернуться, иначе… Успокаиваю себя: вчера был понедельник — похмельник, а сегодня – вторник — задорник, этот день считается в народе удачливым.
Но, бывает, беда объявляется там, где ее совсем не ждешь.
Нет, подносчики боеприпасов успели благополучно сгрузить с плеч у танков свои тяжелые ящики. И уцелели — спрятались кто под днищем машин, кто в люк нырнул. Снаружи остался капитан Сталевич…
И вот, когда река потемнела от длинных теней прибрежного леса, Гатин пустился вплавь с громоздкой ношей на плечах. Обессиленный, изнуренный еле выбрался на южный берег. Он и окровавленная ноша свалились в густую траву.
— Не пугайся, братику, — услышал я знакомый голос. — Спасибо тебе и твоей комсомолии — здорово выручили.
— Ты?.. Алексей Исаевич?.. Где перевязать? Скорее… — разорвал я индивидуальный перевязочный пакет.
— Не спеши, Петро. Критический момент прошел. Снаряды — в танках. Самохин – вместо раненого комбата. Значит, плацдарм, считай, удержан. Правда, за ценой наши люди не постояли. Пока экипажи загружали танки боеприпасами, твой любимец комсорг батальона Каменев организовал силами подносчиков прикрытие машин. Это совпало с озверелым наскоком фашистов. И многие твои воспитанники навеки застыли у танковых гусениц, в том числе и мой «колобок”.
Подбежала Валя Антонова. Мы осмотрели обоих. Внешне хуже выглядел красноармеец Гатин. Но раны его оказались легкими. После перевязки он самостоятельно двинулся в медсанбат.
— На моих коленях полулежит, тихо, без стона, поскрипывая зубами мой экспансивный побратим Алексей Исаевич. На голове вместо буйной шевелюры — загрязненные, липкие пряди. Осторожно разбираю склеенные кровью волосы. К счастью, не обнаруживаю ран, кроме незначительных царапин.
— Не беспокойся, Петро. На этот раз налобное утолщение танкошлема отлично самортизировало. Шальной осколок, видимо, ослабленный, только оглушил меня малость.
Я похвалил Алексея Исаевича за то, что он, против обыкновения, вне танка не снял танкошлем, ранее снимал под видом того, чтобы лучше слышать.
Старался к концу войны быть дисциплинированным.
Тем временем, Валя смазала иодом рану на правой стопе и забинтовала ее. Начала осматривать ранение локтя. Кивнула мне: мол,отвлеки друга разговорами, а сама попыталась остановить кровотечение. Я стараюсь всячески ободрить Сталевича.
— Ну и навалились вы, братцы, на меня, — вымученно, с усилием улыбается он: — Валя своими нежными пальчиками перебирает мои поврежденные косточки, а Петро, вроде наркоза, или вернее чародея, заговаривает боль. Я и сам стремлюсь не падать духом. О, как мне не хочется покидать вас! Прикипел я всей душой к танкистам, хотя вначале войны прошел академические курсы интендантов. Не вышло из меня ни историка, ни интенданта, ни политработника, ни танкиста.
— Не в твоем духе, Алексей Исаевич, так рассуждать. Тебе, без пяти минут историку, выпало счастье участвовать в освобождении от фашистских захватчиков и обороне исторического города Тарту. Не за горами время, когда ты, подобно Вересаеву, приедешь из Минского в Тартуский университет кандидатом исторических наук и, если не для изучения «биологической стороны человека», то для встреч и бесед со своими коллегами, а это так важно для историка. Раны заживут и не помешают тебе описать со знанием дела выдающиеся исторические события.
Сталевич старается придать своему голосу шутливый тон:
— Мечталось увидеть конец этих событий своими глазами. Но…Поручаю тебе, Петро записать все подробности. После войны встретимся, обмозгуем… Да посматривай чаще вправо, не забывай о неполноценности своего правого глаза. — Он застонал. Впился просящим взглядом в лицо друга, потом Вали: — Предупредите наших эскулапов в медсанбате, чтоб не вздумали сгоряча отрезать мою правицу.
Я говорю ему, что главное состоит в том, что он не потерял способности мыслить, чувствовать, а все остальное восстановится.
— Все, братушки, наговорились, — завязала Валя концы марли узелком на локте правой руки Сталевича и выпрямилась. С лица ее градом катит пот. В тоне — признание безуспешных попыток остановить кровотечение: — Потопаем быстрее к хирургу.
— Эта беда не беда, только б больше не была, — вырвалось у меня как-то асбтрактно, будто имелось в виду не только ранение Сталевича, а еще что-то другое.
Валя поддела свою тонкую шейку под левую руку Сталевича. Сделала с ним шаг, второй. Остановилась. Достала из сумки конверт и безразлично протянула, казалось бы, сосне с расщепленным осколком стволом:
— Это вам. Раненый под Тарту почтальон передал. Не переживайте — на расстоянии дружба крепнет.
Я обеими руками схватил голубой прямоугольничек. Знакомый почерк на нем сразу вызвал в моем воображении картины июньского дня и белой ночи под Шумом. Это обрадовало. Но «Это вам» прозвучало так странно, непонятно, что вспомнился Нежин сорок первого. Тогда Гридин ошарашил меня вестью из дому, проносив ее в своем кармане полтора месяца /об измене Веры/. Теперь Валя Антонова вручила мне письмо от своей тезки после трудной, мало утешительной перевязки раны. А ну-ка, какой обратный адрес?.. О, действительно, беды ходят чередой. Все это так взволновало меня, что я не заметил, как остался один — одинешенек на берегу с роковым письмом в руках. Торопливо вскрыл самодельный конверт, заклеенный ржаным хлебом. «Привет из Ленинграда! Держим курс на Выборг…» — поразили меня торопливые строчки, подобно взрыву рядом пятисотки.
Я не слышал ни ружейно-пулеметной трескотни в лесу, ни орудийного грохота на плацдарме, ни ураганной пальбы зениток под Тарту. Сколько ни вглядывался в до боли милые сердцу буквы, слова — никакого утешения. Выходит, наши дороги разошлись. Нескоро увидимся. Неужели никогда?.. Подо мною закачалась почва.
Она уехала в противоположную сторону. Побывала, наверное, на Волхове, под Синявином. Какие там происходили непередаваемо тяжелые события!.. Мы с Алексеем Исаевичем как-то на досуге прикидывали, что если бы вся пролитая кровь в боях по прорыву блокады Ленинграда слилась бы в Волхов, то уровень реки поднялся бы на несколько метров… Это бросает в холод и в жар. Вновь и вновь сознаю, что бывали минуты, когда я на Волховском фронте терял самообладание, впадал в уныние… И вот встреча с Валей, местной Волховой, как шутил Костя Гридин дружба с ней — укрепили меня. Я стал богаче душой. Постепенно открывал в себе такие качества, о которых и не подозревал. Валя помогла вытеснить из темных уголков души все незначительное, второстепенное. Само существование на свете Вали поддержало меня и я не упал. Конечно, мне никогда не взбредало на ум уклониться от выполнения своего долга. Но порой духовное истощение было на грани. А в таком случае колесо войны могло бы переехать меня и раздавить, как червяка; мог бы погибнуть бесследно, безо всякого подвига.
Этого не произошло. И, может быть, потому, что после встречи с Валей во мне росло, укреплялось чувство верности ей, оно переплеталось с верностью долгу. Во время свиданий с ней даже в зимнюю стужу на душе становилось по-весеннему тепло. Как хорошо, что волею судьбы — то есть в виду благоприятного стечения обстоятельств — мы встретились! Черта, присущая мне и названная Гридиным терпением обогатилась стойкостью и мужеством.
Валя — дитя северной природы — выдерживает и болотную сырость, от которой ноги не просыхают неделями, и трескучие морозы, и ледяные объятия колюче-злого ветра в открытом кузове машины…
Я вижу Валю… Она без устали, днем и ночью бегает среди коек носилок… Раздает лекарства, завтраки, обеды, ужины. Перебинтовывает… Сутками, бывает, не уходит из операционной.
В ней есть нечто такое, что меня очень волнует. Не знаю ему названия. Как не знаю, чем очаровывают на небе звезды, месяц, утренняя заря, восход солнца… По-видимому, это неразгаданная тайнажизни. Она, Валя, как и все, и в то же время особенная. Не феномен женской красоты, но в глазах ее — неповторимая красота души, в чертах лица, линиях фигуры — форма, в которой обитает неповторимая внутренняя красота. Страшно подумать, чтоб над Валей нависла угроза, наподобие той, которая разразилась над телом советской девушки у перекрестка дорог…
Начало смеркаться. Бой затихает. Меркнут пожарища. Запрокидываю голову вверх. Небо проясняется. Поворачиваюсь в сторону Ленинграда. Вижу Полярную звезду. Она все больше светлеет, становится яркой. Это потому, что мы с Валей смотрим с разных точек в одном направлении. И наши взгляды встретились.
… Преследуем. Ночи без сна. Потерял счет дням. Мотоциклистприбыл из группы майора Дончака, в составе которой действуют танки роты капитана Мотылькова. Они наступают на Ригу. Узнал любопытныевещи. Записываю на ходу.
… Тридцатьчетверки с ходу овладели дальним пригородом Риги. Стрельба стихла. Майор Дончак и капитан Мотыльков, осмотрев размещение танков на достигнутом рубеже, возвращались в тыл. Изучали попутно населенный пункт, определяли места встреч транспортных машин, порядок пополнения боеприпасами, горючим.
— Ба! Здесь ничего не изменилось, — резко остановился майор.
— Постой, капитан, на перекрестке улиц, — обратился он к Мотылькову. — Я случайно оказался возле своей довоенной квартиры, — показал он рукой на мрачный, будто нежилой особняк. — Держи автомат наизготовке. На всякий случай. Моя хозяюшка, видимо, не очень горячо встретит. Она отличалась завидной молчаливостью, а когда, бывало, и заговаривала со мной, то почему-то по-немецки, хотя знала русский. И вообще, была холодна, как гадюка… Тогда, в сорок первом, обстоятельства сложились так, что мне не удалось забежать из полка на квартиру. Здесь остались мои личные вещи. Теперь загляну — может, хоть какие-нибудь фотокарточки сохранились. — И майор Дончак, неинтересуясь, как отнесется к его затее Мотыльков, нырнул в калитку, утопавшую в декоративной зелени.
Через минуту-другую во дворе послышался разговор. Зазвенели ключи. Открылась и закрылась дверь…
В квартире состоялась интересная встреча.
Хозяйка — женщина в летах — приветствовала Дончака так, словно тот вчера, уходя на работу, забыл предупредить, что вернется позже обычного. «Долгонько задержались. Чай готов. Ванну примете сейчас или перед сном? Пожалуйте, в свою комнату… Вы будто не узнаете меня, квартиру?» — говорила она.
В шкафу висели шинель, плащ и другие какие-то странные, довоенные вещи — они вызвали у майора массу воспоминаний. На столе — книги, фото, в тумбочке — письма, петлицы с лейтенантскими «кубиками», бритвенный прибор… «Что это? — растерялся Дончак. – Вы надеялись, что я вернусь?” Хозяйка дома с присущей прибалтийцам флегматичностью ответила: «Эх, молодежь! Не гоже старших забывать.Почему так долго не возвращались?.. Куда вы?.. Нет, я вас не отпущу. Садитесь за стол». Своеобразно-теплый прием расстрогал майора.Он расчувствовался: «Я, грешным делом, раньше считал, что вы были недовольны мною, как вообще чужими жильцами… Знаете русский, а ко мне — все по-немецки…» Немолодая женщина в ответ обняла по-матерински офицера за голову, поцеловала в щеку. Ее глаза увлажнились. В сморщенных глазах — довольная улыбка. Затем привычно насупилась: «Да, недовольствовала… Почему вы тогда не хотели изучать немецкий? Впоследствии наверняка сожалели: мол, как бы он мне пригодился…»
Когда майор Дончак выскочил на улицу с чемоданом и объемными свертками в руках, Мотыльков не узнал его — в кожаном пальто, по два «кубика» в петлицах, а главное — веселый, добрый, разговорчивый. По дороге горячо делился впечатлениями.
Вдруг возле крайнего, разбитого снарядами особняка, мелькнули тени. Капитану Мотылькову показалось, что это были бойцы с катушками за плечами. «Молодцы связисты. Тянут кабель от мотострелков к танкам», — заметил он и посоветовал майору хоть раз отметить их трудолюбие, смелость. Но тот был верен своей привычке и не удержался, чтоб не сделать набившее оскомину замечание. Подошел к забору и поднялся на носки: «Эй, архаровцы, не прячьтесь. Прозаседали в каком-то синклите, а теперь опаздываете. Имущество в темноте, небось, растеряли, — обернулся к Мотылькову, добавив: — Придется в сумерках самому осмотреть узел связи. Везде нужен мой глаз. Эх, не от вражеской пули… Своя распроэдакая связь угробит…»
И он не договорил — упал, подкошенный автоматной очередью. Мотыльков заметил вспышки в одном месте развалин, потом в другом. Завязалась перестрелка.
На выстрелы прибежали мотострелки. Оцепили развалины. И — результат: схвачен живьем вооруженный до зубов гитлеровский лазутчик; второй бандит свешивался с окна с простреленной головой.
Мотыльков перевязал раненые ноги майора Дончака и помог бойцам, среди которых оказались, кстати, и телефонисты, доставить его в домик, где размещался узел связи.
По дороге майор Дончак впервые хвалил связистов. А на месте, бегло осмотрев узел связи, объявил всему взводу благодарность.
…Танковая колонна идет лесом. Раннее утро. Боевые машины отбрасывают от себя грозные, внушительные тени, которые впереди войсккак бы следуют авангардом.
Яркие солнечные лучи, похожие на пучки сильных прожекторов, пробиваются между деревьями, освещают проселок. Накатанные колеи блестят, как рельсы. Рядом, по лесным тропам, выстланным краснобурыми коврами листьев, спешит, обливаясь потом, пехота. Над ее головами пестреют разноцветные краски — от темно-зеленых до светло-золотистых. Из глубины леса крепко тянет душистым дымом смолистой хвои. Отчетливо слышатся голоса людей, скрежет гусениц, рокот моторов. Откуда-то издалека едва прорывается хриплый крик ворона.
Прекрасный октябрь здесь, на севере! Не могу оторвать глаз. Ловлю себя на противоречии: три года назад мне тоскливо было наблюдать осеннее увядание на задымленном пороховыми газами Волхове.
— А теперь?..
В дальнем, сизом тумане вырисовываются шпили строений. Из-за них чувствуется дыхание загадочного моря. Каково оно? Как встретит?
Еще полчаса форсированного марша, и «Урал», смяв гусеницами низкорослые кустистые сосенки, вместе с которыми со скрежетом хрустнуло последнее вражеское ПТО, вышел на пологий берег, коснулся морской волны и остановился.
Раскатисто грянули выстрелы. В гейзерах, среди брызг, расцвеченных солнечными лучами в виде радуги, мелькнули щепки от кормы транспорта, перегруженного гитлеровцами. Танковые пушки повторили.На горизонте четко вырисовывается нос подбитого вражеского судна. Через несколько минут оно скрылось в морской пучине.
Звонкая стальная поступь раздается все реже и реже. Наконец, затихает. «Урал” возвышается на груде камней в центре танковой цепи. Мерное гудение невыключенных моторов мелодично гармонирует с шумом волн.
В эту своеобразную музыку вливаются восторженные возгласы:
— Да здравствует Балтика!
— Ура—а—а!!! Снаряды «Урала” настигли захватчиков на воде!
— Теперь единое солнце сияет над Черным и Балтийским морями!
— Привет Балтике от седого Волхова!..
В лицо повеяло свежим, отдающим иодом и водорослями морским воздухом. Танкисты высовываются из люков, дышат полной грудью. Любуются безграничной морской далью, однообразная огромность которой раскинулась перед глазами во всю ширь.
Из разноголосого говора выделяются фразы:
— Вот теперь перед нами самые широкие горизонты.
— Глянь-ко, отчего берег слева так густо задымлен?
— Город Рига, томится на изгибе рижского лукоморья.
Над побережьем прозвучали залпы победного салюта.
Я спрыгнул с танка прямо в море. Ко мне подошел Самохин, потом Моторный. Как не хватает здесь Кости Гридина! А девушки? Валя… Где она теперь? Разошлись наши дороги. Сойдутся ли? Сойдутся, потому что Валя в моей жизни — подобна яркому сполоху света, к которому я буду неустанно стремиться. Всю жизнь…
Друзья черпают горстями прозрачную воду, пробуют на вкус, ополаскивают лица. Делятся впечатлениями:
— Хороша водичка, вкусная, почти пресная. Наша черноморская соленее.
— Эта и холоднее. Не искупаешься.
— Что? А вот посмотри…
Один, два, три… Десятки танкистов раздеваются и наиграно — демонстративно бросаются в невысокие волны. Небольшая глубина моря не позволяет сразу окунуться в нем с головой. Многие смельчаки бороздят ногами воду и уходят далеко от берега.
Из леса высыпают на гальку пехотинцы. Кто-то восхищается:
— Смотри, танкистам и море по колено.
Моторный, спотыкаясь о камни, бредет назад, к берегу.
— Ну и обжигает! Аж покраснел. Если у кого-нибудь кровь застоялась от долгого сидения в машине, ополоснись — как новенький выскочишь на песочек, — вздрагивает он от холода.
— Нам хорошо и радостно размяться, освежиться. Пусть фрицев судорога сводит. Представляете, как они сейчас натужатся, чтоб достигнуть дна? Будь здоров! Те, что уцелели на суше, нырнули в воду. Другие, которые успели вырваться в открытое море, попадают под огонь наших летчиков, моряков, — торжествует чей-то бас.
Под ногами, на морском дне виднеются светло-желтые волнообразные песчаные холмики, россыпи овальных отшлифованных камешек, которые, будто живые — шевелятся
Чешуйчатая зыбь набегает на берег, теряясь в прибрежном песке. Море живет — шумит, волнуется; издает вздохи облегчения — словно после тяжелых ратных дел возвращается к мирной, спокойной жизни. Чайки весело носятся над белыми гребнями.
— Кри-э! Кри-э! Кри-э!..
Что напоминают эти звуки? Приветствие или прощание?
Белокрылые спускаются низко над волнами, едва касаясь воды. Взмывают ввысь и веером расходятся в разные стороны. Птичьи выкрики еле слышны. Кажется, что их приветственная интонация сменилась прощальной.
И на этом — все? Конец?
Нет. Прислушайся.
С юга донесся мощный, надсадный гул, от которого вздрогнуло побережье. Мы повернули головы в сторону Риги. Там, в клубах дыма, сверкнули огни. Должно быть, танки капитана Мотылькова ворвались в город. Я набираю в баклажку морской воды и бегу к «Уралу».
Взобрался по броне на башню. Опускаясь внутрь ее, схватился рукой за открытую крышку люка. Почувствовал между пальцами что-то бархатистое, будто живое. Смотрю и глазам не верю: из-за скобы на люке выглядывает маленький букетик светло-голубых цветов — местного вида фиалок. Обрадовался и удивился: чудом не смял своей грубой пятерней нежные цветочки; и кто это напоминает мне о ручейке под Шумом, о цветочном стебельке, который пробился к свету из-под тяжелого, ржавого осколка снаряда, о чудесном дне, вечерних красках, о мягкой заре — виновнице того, что тогда так и несмерклось?.. Осмотрелся. Среди берез мелькнула девичья фигурка. Кажется, Валя Антонова…
Зарокотал мотор. «Урал» заскрипел гусеницами, повернул влево, занимая свое место в танковой колонне. Ее голова вытягивается вдоль берега, на юг, и берет курс туда, где задымленное небо пригорода Риги озаряется тревожными, сполохами.
20 ноября 1977 г.